| Автор | Сообщение | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| link13 ® Пол: Стаж: 1 год 5 месяцев Сообщений: 535 Откуда: Рязань Награды: 11 (Подробнее)
|
Подробнее об автореСодержание СодержаниеСборники. Компиляции Образцы скановПоследний раз редактировалось: link13 (2021-10-29 09:36), всего редактировалось 1 раз | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| link13 ® Пол: Стаж: 1 год 5 месяцев Сообщений: 535 Откуда: Рязань Награды: 11 (Подробнее)
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| zuk Пол: Стаж: 3 года 10 месяцев Сообщений: 76 Откуда: СПб Награды: 1 (Подробнее) |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| link13 ® Пол: Стаж: 1 год 5 месяцев Сообщений: 535 Откуда: Рязань Награды: 11 (Подробнее)
|
| |||||||||||
|
|
Текущее время: 11-Янв 20:01
Часовой пояс: UTC + 3
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
^
Идея единения артистов всех народов явилась и у меня во время моего двухлетнего путешествия с МХАТ по всем странам Европы и по Америке1. Я воочию убедился, что театр повсюду переживает опасный кризис.
Сначала ослабленный кинематографом, а впоследствии добитый войной, театр принужден служить резко понизившимся вкусам нового народившегося за это время элемента, владеющего капиталами особого класса спекулянтов, которые наполняют столицы всех стран и дают в них тон. К их вкусу прежде всего применяется современный репертуар театров и постановок. Для них явилась и небывалая роскошь, и мишурное богатство сногсшибательных трюков с голыми женщинами и пошлыми сюжетами наподобие кино.
Меня поразило то, что правящие странами люди, пекущиеся об этическом, нравственном и эстетическом развитии подвластных им народов, вместе с другими забыли о высоком назначении театра и точно вычеркнули его из списка воспитательных и облагораживающих орудий воздействия на массы, предоставив ему единственную роль внешнего развлечения и увеселения ради отвлечения людей от политики. В разговоре с одним из высокопоставленных людей правящего класса, имя которого я не считаю себя вправе называть, так как беседа была частная, он сказал мне откровенно такую фразу: «Предупреждаю вас, что я ненавижу театр». — «Какой? — спросил я его. — Тот ли развратный, низменный, который я ненавижу больше вас, или тот возвышенный, благородный театр, который должен служить в руках каждого правительства одним из лучших и главных орудий сближения и взаимного понимания народов?» После этого у нас разгорелся долгий и длинный разговор о театре как одном из орудий завоевания общего мира, о котором теперь, после войны, так много говорится во всех концах мира.
Почти во всех странах, где мне пришлось играть на незнакомом языке для иностранной, незнакомой нам публики совершенно неизвестный им репертуар совершенно чуждой для них страны, отодвинутой от них далеко на восток, мы слышали такие фразы: «Один такой спектакль говорит нам куда больше, чем всякие конференции, экспедиции, съезды, лекции, научные трактаты, пытающиеся определить душу народа ради большего знакомства с ним».
Эта способность театра вполне понятна. Если национальный гений в своем исчерпывающем тему произведении описывает наиболее характерные и глубокие черты души своего народа, если наиболее талантливые артисты страны в сотрудничестве с лучшими режиссерами, художниками и другими мастерами нашего коллективного искусства сцены, передающие общими усилиями произведение гения, душу народа и подробности его жизни, влияющие на психологию, если эти живые интерпретаторы являются лично в чужие страны и из души в душу говорят о том, что составляет их духовную природу, то не удивительно, что такое искусство и такой спектакль передадут больше невидимых и неосязаемых сверхсознательных человеческих ощущений, которые прежде всего необходимы для знакомства и понимания чужого народа и его страны. Этого не может сделать ни научный доклад, ни лекция, ни трактат, ни конференция, ни мертвая книга и газета.
У них своя область для изучения, которая передается в слове и печатной букве. Область, доступная актеру, невидимо излучается из души в душу.
Я говорил анонимному лицу, о котором идет теперь речь, что на их обязанности лежит забота о таком театре, театре человечества, театре взаимного понимания мира.
^
Москва, 14-го мая 1926 года
14 мая 1926
Дорогой и милый друг Иван Иванович!
Шутка сказать! Тридцать с лишним лет совместной работы, которая началась чуть ли не в юношеских годах и застает Вас 50-летним человеком, а меня старцем на седьмом десятке. Много всяких перипетий, передряг, радостей и печали мы перенесли вместе, не в обычной атмосфере, а в театральном воздухе, насыщенном точно электричеством, а не только возбужденным артистическим темпераментом и вечным творческим волнением. И, несмотря на это, ни одной серьезной стычки, которая бы запечатлелась в памяти.
Напротив, много хороших воспоминаний о дружной и трудной работе, освещенной изнутри идеей и любовью к своему искусству. Вот эта идея и вырастила в Вас художника с благородным вкусом, артистическими стремлениями и этикой. Она превратила Вас из простого рабочего, таскающего тяжести на крошечной сцене Охотничьего клуба, в «мастера сцены», серьезно, наравне с актерами сознающего свою ответственность в общем ансамбле и строе спектакля.
Ваше понимание и отношение к искусству оценено не только в России, но и в Европе, где Вы показали свою профессиональную культуру и удостоились печатных и устных похвал и чествований по инициативе самих европейских рабочих сцены.
Вы очень нужны театру именно в теперешнее трудное время его кризиса. Поэтому прежде всего я желаю Вам поправления пошатнувшегося здоровья, для того чтобы Вы могли еще долго послужить тому делу, которое оказалось нужным не только привилегированному классу, сошедшему с арены, но и вновь народившемуся и вставшему на путь культурного развития русскому народу.
Обнимаю Вас крепко, как люблю, и от всей души поздравляю с двумя сегодняшними торжествами — 35-летним юбилеем и днем рождения.
^
Москва, 28-го мая 1926 года
28 мая 1926
Дорогой, любимый и высокочтимый
Александр Яковлевич!
Вы сами, Ваш талант, Ваши эскизы очаровательны и восхитительны, как всегда. Именно так и нужно, не карменистую Испанию, а французистую. Иначе это не подойдет к Бомарше1. Чувствую, что это будет восхитительной Вашей работой. Дал бы бог Вам сил и энергии провести ее, а за огромный успех я отвечаю.
Если хотите, чтобы все было сделано с большим толком и без особой поспешности, — по мере изготовления эскизов присылайте их. Пока я еще сам здесь и могу сам выдавать в работу и делать пробные костюмы под своим наблюдением. Если это не успеем сделать до отъезда, то может быть хуже.
Что касается постановки «Онегина», то Экскузович меня прельстил только работой с Вами. Однако он поторопился, сказав, что я уже согласился. Пока я могу дать лишь принципиальное согласие. Остальное зависит не от меня, а от того, как сложится сезон будущего года. Это выяснится лишь к середине июня, когда я и смогу дать окончательный ответ. Тогда, если это будет нужно, я либо спишусь, либо сам приеду в Ленинград. Пока, к сожалению, не могу отдать большего внимания «Онегину», так как занят окончанием этого и налаживанием будущего сезона 2.
Шепните, какая пьеса манит Вас для постановки по окончании «Фигаро» 3.
Жму крепко Вашу руку, люблю, восхищаюсь и радуюсь работать с Вами.
Сердечно преданный
^
98 *. Участникам спектакля «Елизавета Петровна»
Москва, 28 мая 1926 года
28 мая 1926
Дорогие, милые друзья!
Поздравляю вас с сегодняшним торжественным днем 100-го спектакля «Елизаветы Петровны».
Это ваша победа. Эту пьесу вы сами вырастили, вынесли на свет и донесли с любовью и заботой до сегодняшнего дня. Это чрезвычайно радостно, потому что намекает на живущую в вас инициативу. Пускай же она почаще просыпается именно теперь, пока живы «старики» и могут на деле направлять и передавать вам свои нажитые опытом традиции.
За этот год заросли швы, которые разделяли «стариков» от 2-й и 3-й студий, постепенно формируется труппа, и все пришлифовываются друг к другу.
Благодаря этому работа оказалась дружной. Мы вместе провели очень трудный сезон, и все должны поверить в то, что будущее нам улыбается. Общими усилиями мы сумеем избавиться от унаследованных нами долгов и поставить дело так, чтобы оно и материально изменило всем пока очень тяжелую жизнь. Для этого нужно терпение, вера, неустанная общая любовь и взаимное уважение, к которым я от всего сердца призываю вас, пользуясь сегодняшним юбилейным днем.
Любящий вас
К. Станиславский
^
26-го июня 1926 года
26 июня 1926
Москва
Дорогие, милые друзья!
Мы пережили в этом году очень трудный, но дружный сезон, который я назвал бы в жизни нашего театра вторым «Пушкино» 1.
В последние годы МХТ и его основателей старались хоронить, называя отжившим и отсталым. Пытались разъединить отцов с детьми, т. е. основное МХТ— «стариков» — с молодежью 2. Но в этом сезоне, благодаря большой общей работе, отцы ближе узнали детей, а дети — отцов, и вновь создалась дружная семья МХТ. Молодежь поняла, что для настоящего артиста мало одной интуиции и нутра, что нет искусства без виртуозной техники, без традиций, создаваемых веками, и что это они могли получить только от «стариков». Мы же, «старики», поняли энтузиазм молодежи, оценили ее талантливость и трудоспособность, и это вызвало в нас желание поделиться с нею тем, что мы знаем.
Дружная работа артистов, режиссеров, музыкальной и вокальной частей, всего технического и рабочего персонала, администрации и служебно-служительской части дала богатый результат: шесть законченных постановок и две актерски заготовленные 3.
Все работали не за страх, а за совесть, не жалея своих сил.
Мы завоевали внимание к себе, начиная с Правительства и кончая новым зрителем, который знакомится с нами. Теперь на нас смотрят другими глазами.
Прощаясь со всеми до осени, мне хочется обнять каждого, и поздравить с блестяще выполненным сезоном, и выразить надежду, что будущая работа будет еще более дружной и радостной.
Душевно любящий вас
^
100*. Ж. Эберто
Москва, 26 июня 1926
26 июня 1926
Господину Жаку Эберто.
Теперь громко заговорили о миссии актера, театра и искусства в области сближения народов ради всеобщего мира. Пусть же театры с помощью своих гениальных писателей и артистов знакомят людей с чувствами и мыслями своей национальности. Вы уже давно почувствовали это и стали знакомить парижскую публику с искусством народов, которые до Вас были почти незнакомы Вашей великой нации.
Ваше пионерство в этом деле указывает на чуткость, талант, способность предугадывать назревающую потребность людей. Я вместе с моими товарищами дважды имел случай пользоваться Вашим гостеприимством и близко видеть Вашу работу , поэтому я очень пожалел, когда узнал, что Вы ее временно прекратили, и искренно радуюсь теперь ее возобновлению 2.
От всего сердца желаю Вам успеха в Вашем новом начинании.
^
101*. Из письма к Р. К. Таманцевой
15/VII 1926 г.
15 июля 1926
Дарьино
…Из вопросов, которые приходят в голову, следующие:
1) Дали ли Булгакову аванс (1000 р.), я дал ему обещание. А свои обещания я держу во что бы то ни стало 1. Поэтому, если Дмитрий Иванович 2 захочет меня в этом корректировать, мы можем с ним жестоко поссориться, тем более что я ему еще не простил того унижения и глупого положения, в которое я попал из-за него перед начальством.
2) Лидину (литератор) заказано написание «Хижины дяди Тома» 3. Давным-давно надо было ему дать 400 р. Перед отъездом я узнал, что этого не было сделано. Сделать немедленно, так как с самых первых дней сезона пойдет речь об усиленной работе над пьесой. Она мне очень нужна для Малой сцены, а может быть, и на смену «Синей птицы». С этой пьесой меня тянут вот уже больше года. Если бы наши не были такими лавочниками и не скупились там, где надо быть широким, а скупились там, где зря тратят 40 000, то теперь у нас эта постановка была бы уже готова вместо водевилей4. Но главное — это непонимание режиссерской психологии. Мне страшно хотелось ставить эту пьесу. Как не хотелось со времен «Синей птицы». В прошлом году оттянули, и охота почти прошла. Если и в этом году будет то же, то я уже не смогу больше ею заниматься и пусть ставит кто-нибудь другой, я отказываюсь.
3) Напомните мне при свидании у нас в Дарьине передать рукопись Петрова Н. В. — переведенный им водевиль 5.
4)Еще напомните Дмитрию Ивановичу, что Симов мне очень нужен. Случилось то, что я предсказывал. Он — конструктор, а Дмитрий Иванович захотел из него делать второго Гудкова. Старик не выдержал и расхворался. Теперь его собираются выпирать. Но я не согласен 6.
5) Как Раевская, Соколовская и наши старики? Не обидели ли их?
До скорого свидания.
^
102*. Н. А. Семашко
4/VIII 926
4 августа 1926
Дарьино
Дорогой и глубокоуважаемый Николай Александрович!
Сообщение с Москвой из того места, где я провожу лето, не налажено. Поэтому я не в курсе последних событий в студии. Но ведь и не они, а самый факт решения Правительства: передать нам Дмитровский театр — руководит мною теперь, когда я пишу Вам это письмо.
Я знаю, что решение Совнаркома состоялось главным образом под Вашим давлением 1. Этот факт еще раз подтверждает Ваше совершенно исключительное отношение к нуждам искусства, театра, артистов и, в частности, ко мне и к Оперной студии.
Я хватаюсь за представляющийся мне случай, чтоб сказать Вам, в качестве одного из старейших русских артистов, что все мы, и тем более я и моя студия,— бесконечно ценим Ваши исключительные отзывчивость, доступность, доброту, любовь, бережную и культурную заботу об искусстве, которое еще не вышло из трудной полосы и кризиса, угрожающего дальнейшей жизни русского театра.
Мне хочется сказать еще, придираясь к выпавшему случаю, что мы нередко болеем душой, когда видим, как некоторые из членов нашей артистической семьи злоупотребляют Вашим отношением к театру ради личных дел 2, а не ради идейных и общественных задач театра.
Нам хочется однажды и навсегда отмежеваться от этих людей. Хочется, чтобы Вы почувствовали, что обращения к Вам руководят нами лишь в исключительных случаях, когда того требуют высшие запросы искусства. Несколько недель тому назад я был в Дмитровском театре и подробно осматривал его. В будущем он представляет огромные возможности. Там можно создать замечательный театр. Земли для стройки много. В настоящем виде самое больное место здания — сцена и закулисы. Они находятся в таком виде, что даже американские театры после него кажутся благоустроенными. Ломаем голову, как выходить из положения, так как, пока дело не станет крепко на ноги, нельзя расходовать деньги на капитальный ремонт. Меня волнуют в ближайшем будущем два вопроса: первый — здоровье нашей туберкулезной труппы и второе — как пойдут дела в К. О. без Владимира Ивановича 3.
Наша студия еще не в состоянии художественно, а не халтурно заполнить все дни недели. Обдумывая нашу совместную жизнь двух коллективов и многие другие условия, я прихожу к заключению, что нам не обойтись без красного директора. Если в Художественном театре я энергично восставал против него, то в нашем деле я держусь обратного мнения.
Конечно, речь идет не о Колоскове, который дискредитирует свою должность. С ним и ему подобными дело заранее обречено на погибель. Но если б возможно было иметь красным директором такого милого и культурного человека, как Ф. К. Лехт (из Главнауки), казалось бы, это было полезно 4. При свидании разрешите поговорить на эту тему. А пока — крепко жму Вашу руку, низко кланяюсь и прошу передать мое почтение Вашей супруге, дочке и семье от искренно преданного и благодарного
^
11 апреля 1928
Я очень огорчен, что болезнь мешает мне присутствовать сегодня на ужине в Вашу честь.
Шлю Вам самый сердечный привет, выражение радости видеть Вас в нашей Москве, шлю Вам также свои восторги по поводу Вашего артистического и режиссерского таланта, Вашей исключительной энергии, идейного служения искусству, обществу — ради всемирного сближения и взаимного понимания народов.
Всей душой с Вами. Желаю полного успеха.
^
11.IV.1928
Москва
161*. В. И. Садовникову
Москва, 11-го апреля 1928 года
11 апреля 1928
Многоуважаемый Виктор Иванович.
Я очень сожалею, что не могу быть на сегодняшнем совещании в консерватории, так как болен и сижу дома.
Я получил программу преподавания моей системы в консерватории, составленную Н. В. Демидовым, и нашел ее хорошей, простой, быть может, слишком элементарной, недостаточно полной, но, принимая во внимание ничтожное количество часов, отдаваемых сценическому искусству, большего сообщить ученикам, кажется, все равно невозможно.
Однако можно ли в 2 часа в неделю постигнуть одно из самых сложных искусств — драматическое. Я, конечно, сомневаюсь в этой возможности. Вы, как декан вокального отделения, не хуже меня знаете, каких успехов ученик может добиться, если он будет ставить и упражнять свой голос только 2 часа в неделю. Все упражнения по нашей технике должны быть систематическими и ежедневными. Лишь тогда они могут дать видимые результаты.
При условии преподавания нашего искусства в консерватории все, чего можно добиться, — это убедить ученика, что драматическое дело есть искусство очень сложное и трудное, которым ему необходимо будет заняться по окончании курса в консерватории, если он захочет стать культурным артистом.
Н. В. Демидова я считаю человеком, знающим свое дело, хорошим педагогом, с которым я несколько лет работал в Оперной студии моего имени.
^
162*. Оперной студии имени К. С. Станиславского
Телеграмма-«молния»
27 апреля 1928
Москва
Мысленно с вами, издали ободряю, волнуюсь, люблю.
Станиславский
163*. Оперной студии имени К. С. Станиславского
Телеграмма
28 апреля 1928
Москва
Бесконечно счастлив, поздравляю, радуюсь. Все — молодцы. Приеду в воскресенье скорым.
Станиславский
164*. H. П. Россову
Москва, 12-го мая 1928 года
12 мая 1928
Милый Николай Петрович.
Я не шутил, когда говорил о том, что считаю свою артистическую карьеру конченой. Вот причина: здоровье не позволяет мне работать так, как я работал раньше, т. е. быть и режиссером, и актером, и администратором. Приходится какую-то часть ликвидировать. Само дело не выпускает меня из режиссерства и администрации. Значит, приходится ликвидировать актерство, тем более что я, по разным причинам, потерял к нему вкус.
Вот почему едва ли теперь я осилю такую капитальную роль, как роль Петра Великого1.
Спасибо Вам за внимание и память и не сердитесь за мой вынужденный отказ.
^
Телеграмма
15 мая 1928
Москва
Благодарю тебя, Зину1 за письма. Скажи студийцам и всем: мысленно живу с вами, радуюсь последним успехам, поздравляю, чувствую: постепенно завоевываете публику2. Будьте бодры, не скучайте, верьте в будущее и успех, который сладок только тогда, когда не дается сразу. Обнимаю тебя, Зину, всех. Здоров.
Станиславский
166*. В. С. Алексееву и З. С. Соколовой
Москва, 3-го июня 1928 г.
3 июня 1928
Милые Володя и Зина!
Не пишу вам обоим, несмотря на ваши многочисленные милые и обстоятельные письма, которые читаю захлебываясь1. И теперь не сам пишу, а диктую Рипсимэ Карповне. Я поступаю так потому, что завален работой и всякими неприятностями, из которых до сих пор не могу выбраться. Не хватает нервов, сил, глаз для того, чтобы успеть на все фронты, тем более что к окончанию сезона, удлинившегося в этом году почти до августа месяца, сил остается очень мало.
Я пишу это письмо только для того, чтобы вы знали, что я не забыл о вас, а, напротив, крепко помню.
Обнимаю вас, целую и нежно люблю.
Володину просьбу я прочел и приложу все старания, чтобы исполнить. Все наши еще в Москве, и судьба наша неизвестна. Может быть, уедем за границу, а может быть, останемся 2.
Целую Володю и Зину.
Ваш Костя
167. Труппе Оперной студии-театра имени К. С. Станиславского
Москва, 3-го июня 1928 года
3 июня 1928
Милые и дорогие студийцы!
Не думайте, что если я вам не пишу — значит, что я мысленно не нахожусь с вами. Верьте, что ежечасно думаю о вас. С одной стороны скорблю за те лишения, которые вам вновь временно приходится терпеть, так точно как и за те разочарования, которые принесли вам «справедливые критики» (в кавычках)1. Я думаю, что вы настолько умны, чтобы понять происхождение такой справедливости. Она из того же источника, из которого при возникновении Художественного театра нас обливали в течение десятка лет. Вы хотите приобщиться к искусству, так и приобщайтесь. Это одна из необходимых ступеней, которую нужно пройти, чтобы очиститься для подлинного искусства. В этом смысле хоть я и жалею вас, но не протестую против судьбы, которая лишний раз напомнила вам, что не только для того, чтобы заслужить успех, но и для того, чтобы его продлить и удержать, надо работать, работать и работать.
С разных сторон я слышу, что в тяжелый момент вы все оказались на высоте и не только не распускали себя, а, напротив, относились к делу с большим рвением. Вы сами знаете, какую радость мне доставили эти сведения. Если я при нашем последнем свидании немного пожурил вас, несмотря на то, что вы все были ко мне очень милы, побаловали меня встречей и подарком, теперь же мне приятно писать вам эти одобрительные и благодарные строки.
Спасибо, и люблю вас еще больше за это.
Знаю, что вы хорошо приняли вашу гостью Липковскую 2. Это хорошо. Продолжайте в том же духе. Берите от нее то, что хорошо. Ведь вашему поколению так мало пришлось видеть подлинные образцы искусства. Однако, в то время когда вы будете смотреть и видеть то прекрасное, что есть в ней, — не забывайте и того прекрасного, которое внушает вам школа Художественного театра, идущая от источников — самих М. С. Щепкина и Ф. И. Шаляпина. Ваша задача сочетать и то и другое прекрасное, а не променивать одно на другое, восторгаться хорошим, но не продавать своего искусства.
Липковская — типичная ученица французской школы. Эту школу превосходно знает Владимир Сергеевич3. Обратитесь к нему от моего имени и попросите его объяснить вам основы этого по-своему красивого искусства. В дальнейшем, при свидании с вами, мы поговорим. Я вам объясню сущность и природу французского искусства, которому в свое время я отдал дань как художник.
Вам осталось недолго до конца сезона. Кончайте его с честью, отдыхайте, набирайтесь сил для новой большой и сложной работы.
Покаюсь вам, что я мечтал еще раз побывать в Ленинграде и приехать к закрытию спектаклей, но всевозможные хлопоты и служебные дела не дают мне возможности вырваться отсюда.
Обнимаю вас всех и искренно люблю.
Ваш ^
168*. Оперной студии имени К. С. Станиславского
Телеграмма
9 июня 1928
Москва
Поздравляю окончанием сезона. Благодарю за выдержку и дисциплину. Душой с вами, обнимаю всех, люблю.
Станиславский
169. В. А. Мичуриной-Самойловой
20/VI
1928
20 июня 1928
Ленинград
Дорогая Вера Аркадьевна!
За Ваше милое гостеприимство и за чудесные цветы шлю Вам самую искреннюю благодарность. Готовясь к спектаклю в Вашей уборной, я думаю о великих артистах, которые создавали прекрасные традиции русского искусства в славном Александрийском театре1.
Искренно Вас почитающий и благодарный
^
170*. Н. Г. Александрову
Телеграмма
27 июня 1928
Ленинград
Обнимаю друга, вспоминаю знаменательный день и тридцать лет артистической жизни, проведенные вместе. Благодарю, люблю.
Станиславский
171*. М. П. Лилиной
Телеграмма
27 июня 1928
Ленинград
В знаменательный день нежно и с благодарностью вспоминаю начало артистической жизни, все перенесенные муки, тревоги и радости. Благодарю. Люблю.
^
172*. Вл. И. Немировичу-Данченко
Телеграмма
28 июня 1928
Ленинград
Обнимаю мою дражайшую половину. Поздравляю. С любовью и благодарностью вспоминаю прошлое. Неужели оно окажется невозвратным.
Станиславский
173. H. П. Хмелеву
Телеграмма
28 июля 1928
Кисловодск
От имени артистов МХАТ и от меня прошу передать восторженные приветствия японским сотоварищам по искусству — артистам «Кабуки» 1. Благодарим за великое искусство их прекрасной страны, за общение непосредственно из сердец в сердца, которое дает почувствовать душу народов. Жалею, не могу присутствовать, восторгаться спектаклями, учиться их искусству, познавать великие артистические традиции.
Станиславский
174*. Н. А. Подгорному
20 сентября 1928
Дорогой Николай Афанасьевич.
Пишу Вам по следующему поводу. Дело в том, что здесь в Берлине задолго до моего приезда было оповещено, что я приезжаю в Германию. Одни говорили, что это путешествие связано с гастролями МХАТ, другие утверждали, что меня выписывает Рейнгардт для работы с ним, третьи утверждали, что я, как и Чехов, перехожу сюда на службу и т. д. Вот почему теперь меня осаждают интервьюеры и мне приходится от них всячески скрываться 1. Но теперь моей защитой может быть одна Мария Петровна, а у нее и без меня много дела. Несмотря на все предосторожности, я вчера попался — и разговорился с каким-то милым господином в кафе. Он выдавал себя за моего поклонника, обратился с коротенькой речью к сидевшим в кафе и просил меня приветствовать. Все это не давало мне возможности видеть в нем рецензента, а не поклонника. Что он теперь напишет — неизвестно. Я, конечно, ничего не говорил ему особенного, но для того чтоб написать всякую чепуху в интервью, вовсе не надо говорить ее. Пишущий, как известно, сам выдумывает то, что его волнует и интересует. Кроме того, вчера я был в Deu’tsches Theater и смотрел «Die Artisten»2. В антрактах за мной следом ходили какие-то люди и зарисовывали с разных сторон. Очевидно, появится мой портрет, а под ним будут тоже писать всё, что им захочется.
И этого мало. Ко мне поступают всевозможные предложения — играть, режиссировать, учить, ставить и играть в кино.
Все без исключения русские, которые здесь работают, выдают себя за моих учеников и тем удивляют берлинцев, которые представляют, что в России только и есть один Станиславский. Это очень популяризирует мое имя. Только что приехал фотограф — и надо будет, по-видимому, ехать сниматься, так как он приедет ко мне в такой час (обеда), когда от него не увильнешь. Что будет еще дальше — я не знаю. Слышу, что еще готовятся совершенно необыкновенные предложения. Единственный способ — скорее уехать отсюда, пока не выросла какая-нибудь сплетня или гадость. Но беда в том, что Игорь только к воскресенью может быть в Баденвейлере, а жену и семью задерживают здесь всякие дела и доктор, которому надо показать внучку.
Вот я и решил для предосторожности написать обо всем Вам и просить Вас повидать Алексея Ивановича Свидерского, чтобы рассказать ему, как обстоит дело. Не подлежит сомнению, что все происходящее здесь откликнется в Москве и создаст сплетни о том, что я бежал из России и т. д. Пусть Алексей Иванович знает и в критический момент скажет свое веское слово 3.
И на будущее время я буду писать Вам и говорить все, что здесь делается. Письма будут короткие, сжатые.
Еще бы хотел знать: если меня будут спрашивать здешние русские актеры — можно ли им вернуться в Москву и как к ним там отнесутся,— что им говорить? Речь может итти (пока, предупреждаю, я не имею ни от кого никаких определенных вопросов. Я лишь знаю, что некоторые находятся в тяжелом положении) о членах пражской группы: Крыжановской, или Бондыреве, или Серове4. Повторяю, никого из них я не видал, но если они узнают из газет, то могут ко мне обратиться. Доехал я, благодаря Вашим и Рипсиным заботам, великолепно. Получил на границе телеграмму. Все были ко мне чрезвычайно любезны. Багаж был отправлен прямо до Берлина, и ничего пересдавать мне не пришлось.
Надеюсь, что скоро получу от Игоря телеграмму и что в субботу удастся отсюда выехать. Погода — чудесная. Берлин (новый) очень исправился и начинает мне нравиться. Все очень любезны, и я чувствую себя, против ожидания, уютно и прекрасно. Но… не могу сказать, чтоб я отдыхал. Не дают. Приходится быть и у Гзовской с Гайдаровым (уехали в Африку) 5, и у Чеховых 6, и у Леонидова, который тоже мил 7.
Русские здесь имеют сумасшедший успех. Кино (наше) — считается лучшим — лучше, чем американское.
Обнимаю Вас, Рипси, Николая Васильевича8, Леонидова. Прочтите мое письмо Зинаиде Сергеевне Соколовой и брату. Были у меня вчера (обедали) Моисси с женой. Он собирается приехать на юбилей. Говорит, будто и Рейнгардт хочет приехать. Его нет в Берлине, и я его не увижу.
Ваш ^
1928 20 IX. Берлин
175*. Н. А. Подгорному
22 сентября 1928 Берлин
Дорогой Николай Афанасьевич.
Для Вашего сведения сообщаю, на случай каких-нибудь сплетен, что, говорят, в газетах появились сообщения обо мне, причем глухо пропущены такие фразы: «по словам самого Станиславского», «как говорил нам Станиславский». Леонидов показал мне лишь одну из них. В «Zeitung am Mittag» (которую прилагаю) и корректную статью в журнале «Die Dame» (которую привезу).
Я был в полпредстве и, на всякий случай, сообщил там о том, что здесь хотят завести прочную связь со мной или с театром. Спрашивал, как мне относиться к этому. Они сказали, что правительство ищет этой связи и одобряет ее.
На следующий день здешний оберинтендант драматического театра (Staats- und Schiller-Theater) Леопольд Иесснер сделал мне визит и пригласил приехать к нему в управление. Я был вчера. Он меня встретил у входа и проводил до входа, сам подавал пальто, словом, был демонстративно любезен. Он предлагал мне поставить у них с немецкими актерами «Свадьбу Фигаро». Об этом говорил мне и Леонидов Л. Д. Это его мысль. Этот спектакль должен итти весной, в мае, на вновь учрежденных в Берлине ежегодных Festspiele {фестивалях (нем.).}.
На этих же фестшпилях он предлагал играть нам опять то же (всем набившие оскомину) — «Дно», «Дядю Ваню», «Вишневый сад». Дело в том, что июль месяц отдан сезону в Лондоне, июнь — [в] Париже, а май немцы присваивают себе, и теперь они готовят большие торжества, как он выразился, под устройство Stadt и Staats, т. е. города и государства. Играть в чудесном Staats-Theater {Государственном театре (нем.).}. Для продолжения разговора об этом Иесснер созывает всех режиссеров, которые якобы желают меня чествовать (придется говорить речи, по-французски!!). Просил точно назначить день моего приезда в Берлин из Баденвейлера. Я отговаривался, что сам не знаю, так как боюсь этих заседаний пуще огня, того гляди, что от конфуза сболтнешь что-нибудь не то.
Тем не менее это заседание — назначается, и я не сумею от него отказаться.
Иесснер ведет сейчас большую постановку (кажется, «Эдипа»). Тем не менее он хочет приехать на наш юбилей в Москву. Рейнгардт и Моисси тоже собираются1. Позаботьтесь о квартирах или комнатах в гостинице, чтоб не сконфузиться.
Кажется, мне будут предлагать снимать в кино иллюстрации моей будущей книги. Скажите Желябужскому2, чтоб ему было стыдно.
Сегодня уезжаю в Баденвейлер, хотя еще не имею известия о том, что Игорь выехал.
Погода хорошая, но стало холоднее. Опять виделся с Чеховым. Понемногу на него влияю, т. е. удерживаю от ложных шагов. Мое впечатление — что, если ему дадут выполнить мечту о классическом театре, он тотчас же вернется, но из своего театра3 он признает только небольшую группу. Это между нами.
Обнимаю Вас, Рипси, Николая Васильевича, стариков.
Остальным поклон.
Ваш ^
1928. 22—IX
Содержание
- 1 Страх на террасе: новая советская дача
- 2 Барвиха, Рублево-Успенское шоссе
- 3 Благо теперь попасть на территорию дачи не запрещено, о ее местонахождении знают все
- 4 Еще одна знаменитая дача находится на озере Рица, без внимания оставить ее нельзя
- 5 Находится госдача в поселке Нижняя Ореанда, в 7 км от Ялты
- 6 Изначально дом был одноэтажным, но капризы хозяина и постоянные “достройки” изменили первоначальный вид здания
- 7 Николина Гора, Рублево-Успенское шоссе
- 8 Снегири, Волоколамское шоссе
- 9 Фрунзевец, Киевское шоссе
- 10 4. Дача Хрущева
- 11 Валентиновка, Ярославское шоссе
- 12 Кратово, Егорьевское шоссе
- 13 Жуковка, Рублево-Успенское шоссе
- 14 2. Дача Брежнева
- 15 Северо-восточное направление
- 16 Построили здание для Горбачева в 1988 году
- 17 Абрамцево, Ярославское шоссе
Страх на террасе: новая советская дача
Пока же основная масса населения ютится в избах и бараках (а также коммуналках и подвалах), а лучшая его часть оказывается в бараках лагерных, другая его лучшая часть начинает получать дачи. Так в теме деревянной архитектуры происходит трагическое расщепление. Правда, богатые тоже плачут и трясутся от страха. Слово «дача» возвращается к своему исконному, еще Петром I данному ей значению: ее могут как дать, так и отобрать (часто вместе с жизнью). Это балансирующее состояние придает дачному быту 30-х особую остроту, которая так точно запечатлена в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». И хотя поначалу кажется, что тревожит советского дачника лишь война с внешним врагом (по соседству с ним грохочут учения — как и в «Голубой чашке» Аркадия Гайдара), но быстро становится ясно, что война внутренняя куда страшнее.
Обложка книги Аркадия Гайдара «Голубая чашка». Краснодар, 1981 год Художник Р. Ломоносов © Краснодарское книжное издательство
Классовое расслоение на более мелком уровне описывает и Михаил Булгаков:
— Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.
— Три тысячи сто одиннадцать человек, — вставил кто-то из угла.
— Ну вот видите, — проговорила Штурман, — что же делать?
Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас…
— Генералы! — напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.
Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
— Одни в пяти комнатах в Перелыгине, — вслед ему сказал Глухарев.
— Лаврович один в шести, — вскричал Денискин, — и столовая дубом обшита!» М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита // Собрание сочинений в 5 томах. Т. 5. М., 1990.
Чтобы у знающих не закралось никакого сомнения в прототипе Перелыгина, Булгаков приводит точное число дач в подмосковном Переделкине (хотя и переносит его на Клязьму). Эти 29 дач получили в 1935 году действительно «генералы» советской литературы: Федин и Пильняк, Леонов и Иванов, Фадеев и Пастернак, а также драматург Всеволод Вишневский (прототип Лавровича) и поэт Владимир Киршон (прототип Бескудникова) — особо яростные гонители Булгакова.
При всей разности писателей дачи их были типовыми, что отвечало новому представлению о литературе как о части идеологической машины, как об «инженерии человеческих душ». Все дома строились из бруса, затем штукатурились и красились. На первом этаже — терраса, на втором — балкон. 150 метров внизу плюс 50 наверху. Отопление — печь. О качестве же домов свидетельствует писатель Александр Афиногенов, чья жена-американка разбиралась в строительстве: «Подруга ее ходила вместе с ней по постройке и молчала из приличия, но диким и страшным казались ей цифры рублей, истраченных на постройку, и такую плохую постройку, которую в ее стране никто не согласился бы взять» А. Н. Афиногенов. Дневник. Запись от 21 мая 1936 г. Цит. по: В. А. Антипина. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–50-е годы. М., 2005..
Советский писатель внутри Большого террораКнига Ильи Венявкина об Александре Афиногенове, самом популярном советском драматурге 1930-х годов
Но что американцу кошмар, то русскому писателю — счастье. Переделкинцам завидовал не только Булгаков, но и все последующие поколения литераторов. «Цель творчества — самоотдача / и переделкинская дача», — съязвил поэт Бонифаций, перефразируя главного дачника русской литературы. Сам же Борис Пастернак свою дачу описывал так: «Такие, течением какой-нибудь реки растянутые по всему горизонту отлогости (в березовом лесу) с садами и деревянными домами с мезонинами в шведско-тирольском коттеджеподобном вкусе, замеченные на закате, в путешествии, откуда-нибудь из окна вагона, заставляли надолго высовываться до пояса, заглядываясь назад на это, овеянное какой-то неземной и завидной прелестью поселенье. И вдруг жизнь так повернулась, что на ее склоне я сам погрузился в тот, виденный из большой дали мягкий, многоговорящий колорит» Б. Л. Пастернак. Письмо отцу от 15 июля 1939 г. // Полное собрание сочинений и писем в 11 томах. Т. 9. 2005..
Дача Бориса Пастернака в Переделкине. 2013 год © Артем Белевич / CC BY-SA 4.0
Сравнение переделкинской дачи со «шведско-тирольским коттеджем» не совсем оправданно, но очевиден «нерусский» образ дома. Полукруглый нос «кораблем», сплошное его остекление — все это отдавало не только русским конструктивизмом (к тому времени уже разгромленным), но и его ближайшим предшественником — немецким Баухаусом. А именно типовой немецкий проект и был взят за основу писательских дач. Советские же архитекторы не могли себе позволить побираться у заграницы, поэтому свой знаменитый поселок под Истрой — НИЛ — проектировали сами. Название его расшифровывается как «Наука, искусство, литература» и подразумевает, что жили тут ученые с писателями, но распланировали поселок дачники-архитекторы Виктор Веснин и Владимир Семёнов.
Краткий учебник по русскому авангардуГлавные достижения авангардной мысли XX века в семи видах искусств
Правнук последнего, архитектор Николай Белоусов, рассказывает, что строился их дом не по проекту, а, как это часто бывает, «по возможностям»: «В зоне истринского затопления был куплен крестьянский дом с коровником. Простой сруб, на который уже потом нахлобучили второй этаж и все кренделя-украшения. Строили года два. Дом был летний, топился печью, внутри — дощатые стены, дощатые полы. Из удобств — комната под названием «умывальня», в ней деревянный ящик с дыркой известного назначения. Рядом устроили пол со щелями, на него поставили табурет. Так и мылись, сидя на табурете. Старшее поколение поливало младшее, нагрев на керосинке воду, которая просто уходила в землю через щели» Н. Почечуева. Истоки НИЛа. Сноб, № 04 (44), апрель 2012..
Георгий Гольц тоже купил сруб в соседней деревне, но за счет больших
окон, террасы и веранды придал ему совершенно новый, неизбяной вид.
Дом Вячеслава Владимирова отличало треугольное окно во фронтоне, дачу
Григория Сенатова — купол над мастерской. Главным украшением дома Веснина был граненый полукруг веранды (правда, не сплошь остекленный, как у переделкинских дач) и восьмиугольные окна-иллюминаторы.
Собственная дача Игнатия Милиниса. 1938 год © Издательство «Кучково поле»; Издательство Музея современного искусства «Гараж»
«Наибольший интерес представляют личные дачи архитекторов того време-
ни» К. И. Аксельрод. «Новая дача»: поселки советской интеллигенции 1920–1950-х годов // Русское деревянное. Взгляд из XXI века. Каталог выставки в Музее архитектуры им. А.В. Щусева. Т. 2. М., 2016., — замечает главный их знаток Ксения Аксельрод. Любопытна дача Игнатия Милиниса (1938) в поселке «Советский архитектор» (станция Луговая), генплан которого также сделал Милинис. Аксельрод даже называет ее «теремом»: острая крыша дома в полтора раза выше, чем первый этаж. Кроме того, стороны его квадратного сруба имеют длину шесть метров — как у стандартной рубленой клети. Но есть и сугубо современные детали: окно в кабинете Милиниса — до пола, а в гостиной — широкое панорамное. Эту «современность» ничуть не портят резные наличники окон и разноцветные стеклышки витража веранды. А самое удивительное в том, что дом отлично сохранился и до сих пор находится во владении потомков архитектора.
А вот дача его соавтора по дому Наркомфина — Моисея Гинзбурга — под Новым Иерусалимом (1939) не сохранилась. Она была гораздо больше (200 кв. м против 61 у Милиниса) и более комфортна по части планировки: спальни — на втором этаже; громадная гостиная и кухня — на первом (они не объединены, но тогда это, наоборот, считалось тяжелым наследием избы); минимум коридоров; перерубы, создающие уютные закутки; все удобства, окно над умывальником; но главной изюминкой дома были открытые террасы, опоясавшие дом по всем двум этажам. На нижнюю террасу летом ставили стол,
а на верхней был далеко отнесенный от здания «наблюдательный пункт», на который вела эффектная диагональ лестницы.
Проект двухкомнатного жилого дома для колхозов средней полосы СССР архитектора Ивана Леонидова. 1939 год © Издательство Музея современного искусства «Гараж»
Деревянные дома проектируют многие архитекторы: Илья Голосов, Григорий Бархин, Лев Руднев, Михаил Минкус, Андрей Оль, Александр Хряков, Георгий Мовчан и даже Иван Леонидов (проект последнего, правда, интересен разве что огромными окнами и компактностью — площадь его всего 40 кв. м). И все же гораздо чаще дача обходится без архитектуры, а дачники — без архитекторов: «Иван Андреевич набросал эскиз фанерного домика с небольшими комнатками, маленькой кухней и терраской, а еще через полчаса была рассчитана примерная стоимость такой дачи — около 600 рублей при ста участниках кооператива» А. В. Рудомино. Легендарная Барвиха. М., Тончу, 2009.. Так Адриан Рудомино описывает историю возникновения в 1927 году знаменитой Барвихи — дачного кооператива «Новь» для сотрудников Рабоче-крестьянской инспекции. Герой рассказа — скромный ее работник, инженер Кашин. «Возведение домов начиналось с установки деревянного каркаса, который затем обшивался с внешней и внутренней сторон фанерой, а между ними засыпался торф. Крыши были остроконечными и тоже покрывались фанерой, что оказалось непрактичным, и на следующий год ее везде заменили дранкой или толем. Полы настилались дощатые. <…> В доме было 3 комнаты, маленькая кухня и печка с духовкой и чугунной плитой. Под общей крышей была и небольшая веранда. Уборная находилась в саду» Там же..
Главным в это время является сам факт наличия дачи, а ее архитектурное качество не только несущественно, но даже и рискованно. Высовываться вообще становится опасно, и чем незаметнее твой дом, тем лучше. Дача, метко замечает Григорий Забельшанский, «это оформление советской приватности — того, чего в принципе быть не должно, то, что господствующая идеология и государственное устройство в принципе разрешают, но стараются не замечать» Г. Б. Забельшанский. Дача // «Проект Россия». № 9. 1998..
Барвиха, Рублево-Успенское шоссе
Фото: Московская область. Писатель Алексей Толстой с супругой Людмилой Ильинишной у себя на даче, 1941 год Автор: В. Малышев, Фотохроника ТАСС
300 лет назад на месте этого элитного поселка находился сосновый бор, носивший название Обориха, а позже — Бориха. Название Барвиха поселок получил в начале 20-х годов прошлого века.
Основателем деревни в середине XIX века был генерал Александр Казаков, который хотел сделать из Барвихи курорт, чтобы увеличить свои доходы от поместья.
В прошлом веке жильцами этого поселка были Алексей Толстой, Самуил Маршак, Сергей Королев. В 80-е здесь располагалась резиденция последнего секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Сегодня на месте некогда маленькой деревушки располагаются три элитных поселка — Барвиха-2, Барвиха Club и Барвиха Village.
Самый дешевый особняк на участке в 10 соток в Барвихе стоит 99 млн руб. Самый дорогой ценник на дом с участком 30 соток — за 700 кв. м придется выложить 482,1 млн руб.
Благо теперь попасть на территорию дачи не запрещено, о ее местонахождении знают все
В то время она являлась секретным объектом, находилась под бдительной охраной, так как Сталин боялся покушений. В 3 км от нее даже построили гидростанцию, обеспечивающую электричеством тайную резиденцию.
Дом цвета снова зеленый, это, по мнению вождя, помогало маскироваться. И спал Сталин каждый день в новой спальне.
Еще одна знаменитая дача находится на озере Рица, без внимания оставить ее нельзя
Абхазия в то время была местом отдыха чиновников СССР. Сегодня сюда приезжают на экскурсии туристы. Всем хочется узнать, как же отдыхал вождь.
Находится госдача в поселке Нижняя Ореанда, в 7 км от Ялты
На дачу открывается отличный вид с прогулочных катеров, двигающихся вдоль берега. Даже сегодня пансионат выглядит шикарно.
Изначально в доме было 14 комнат. Внутрення отделка которых выполнена из красного дерева и дуба, также имелась просторная лоджия на втором этаже.
До моря всего 60 метров, но был крытый подогреваемый бассейн, позволяющий купаться даже в прохладное время.
:
Изначально дом был одноэтажным, но капризы хозяина и постоянные “достройки” изменили первоначальный вид здания
0
Источник:
Всем известно о мнительности Сталина, поэтому практически ни один из его домов не обходился без бункера. И под этой дачей находится бомбоубежище, способное даже сегодня спасти людей.
Николина Гора, Рублево-Успенское шоссе
В 20-е годы ХХ века на Николиной Горе было начато строительство дачного кооператива для работников науки и искусства. Позже, в 30-е годы был основан поселок «Сосны». В это же время здесь появился одноименный пансионат Совета министров СССР.
С этим местом связаны многие известные фамилии: Островитянов, Шмидт, Капица. Сегодня в поселке отдыхают множество семей российских бизнесменов, политиков и представителей шоу-бизнеса. Здесь находятся дачи Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. Сохранившийся до наших дней пансионат и поселок сегодня относятся к ведомству Управления делами Президента РФ.
По данным экспертов, сегодня основным спросом здесь пользуются дома и усадьбы с отделкой. Самый дешевый объект — дом площадью 380 кв. м — выставлен на продажу за $890 тыс. Самым дорогим признан особняк стоимостью $26 млн.
Снегири, Волоколамское шоссе
После того, как здесь прошла железная дорога, вокруг станции начал образовываться поселок, позже, в 1903 году, получивший название Снегири. В 30-е годы здесь был основан Дом отдыха Верховного Совета СССР. Это вызвало интерес московской элиты к поселку.
В настоящее время купить здесь «вторичку» практически невозможно. Почти все предложения на рынке — это новые коттеджи. Самый дешевый вариант обойдется покупателям в 4,9 млн руб. Наиболее высокий ценник имеет дом площадью 450 кв. м с участком в 44 сотки — 99 млн рублей.
Фрунзевец, Киевское шоссе
Это место полюбилось дачникам еще в XIX веке. Здесь любили отдыхать многие известные писатели, художники, артисты. Сохранились сведения, что в Фрунзевеце бывали Антон Чехов, Сергей Есенин, Константин Станиславский.
В 30-е годы XX века советское правительство выдавало участки в этом поселке отличившимся военачальникам. Именно поэтому дома во Фрунзевеце прозвали «генеральскими дачами».
На сегодняшний день самый низкий ценник на особняк площадью 250 кв. м составляет 14,8 млн руб. А самый дорогой дом стоит 120 млн руб. за 650 кв. м
4. Дача Хрущева
Госдача Хрущева в Пицунде была достаточно популярным местом. Хрущев начал искать места под дачи в различных местах: в Абхазии и на Кавказе.
Валентиновка, Ярославское шоссе
Фото: Артист Юрий Никулин, 1977 год. Автор: Олег Иванов, Фотохроника ТАСС
По сохранившимся сведениям, первые летние домики начали строить здесь еще в 1906 году. Спустя 25 лет, в 30-е годы Валентиновка приобрела особую популярность среди творческой интеллигенции Москвы. Сталин лично отдал распоряжение по присвоению населенному пункту статуса дачного поселка Художественного, Малого и Большого театров.
Сегодня в поселке можно приобрести как старые исторические дачи, так и новые коттеджи. Самым бюджетным вариантом здесь будет дом площадью 120 кв. м за 5,3 млн руб. Самый дорогой особняк стоит $2 млн за 425 кв. м площади.
Кратово, Егорьевское шоссе
Когда-то деревня Кратово принадлежала известному дворянскому роду Голицыных-Прозоровских и носила название Прозоровка. В 1910 году эти земли выкупил владелец Московской-Рязанской железной дороги Николай Карлович фон Мекк. Летними домами поселок Кратово начал застраиваться в 30-е годы прошлого века. Самыми известными дачниками здесь были Михаил Зощенко, Сергей Эйзенштейн, Александр Серафимович.
На сегодняшний день в поселке можно приобрести как старые исторические дома, так и новые коттеджи или участки без строений. Самый дешевый объект в Кратово — дом площадью 240 кв. м продается по цене 13,7 млн руб. Самый дорогой особняк обойдется в $1,1 млн за 667 кв. м.
Жуковка, Рублево-Успенское шоссе
Деревня с таким названием впервые упоминается еще в 1826 году. Еще раньше в этих местах находилось село под названием Луцкое. Его история уходит корнями в XV век, во времена правления Василия Темного.
В первой половине ХХ века, после прихода советской власти, эти места полюбились верхушки компартии. Здесь располагались дачи Сталина, Ежова и других партийных функционеров. В Жуковке отдыхали академик Сахаров, министр образования Фурцева.
В наши дни в этом поселке находятся дачи Ростроповичей и Солженицына. В начале нулевых самыми известными жителями Жуковки были Виктор Черномырдин, Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин.
Сегодня Жуковка превратилась в элитный поселок с самым высоким ценником на недвижимость.
2. Дача Брежнева
Любимая дача Брежнева “Глициния”, она была построена для Хрущева в 1955 году, но стала излюбленным места Брежнева, поэтому ее еще иногда называются “брежневской”, а после 2000-х еще и “путинской”.
Северо-восточное направление
Пушкино
К началу дачного освоения древнего села Пушкино это уже был очень развитый фабричный центр. Авторитетами там, кстати, была семья Арманд, откуда вышла потом небезызвестная Инесса.
Строительство дач в Пушкине началось в 1867 году. Через год в Пушкине было открыто земское училище для детей от 8 до 14 лет, а еще через два появилась библиотека. В 1880 году там был разбит парк, ставший популярным местом для отдыха дачников, а в 1896 прямо в парке появился летний театр. В дачном поселке также находились приют для выздоравливающих детей Беренштама, приют для душевнобольных привилегированного сословия и лечебница Голубевской.
В Пушкине в те годы работала аптека, провизором которой был В. Ф. Блументаль, несколько фабрик Е. Арманда, а позже здесь жил Владимир Маяковский:
В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
Тарасовка и Черкизово
Тарасовка и Черкизово – два смежных поселка недалеко от Пушкина, которые сейчас знают миллионы болельщиков Спартака со всей России.
В Черкизове сохранилось много архитектурных памятников конца XIX – начала XX века – красивых дач купцов и фабрикантов.
Московские купцы строили дачи в живописных местах деревни: на участках, окруженных лесом, или на берегу Клязьмы. Например, дача фабриканта Грибова располагалась на высоком берегу реки, окруженная лесным массивом, а дача И. Д. Папанина – на косогоре, окруженном ручьем и рекой. Черкизово считалось популярным местом для дачного отдыха, территория была украшена садами и фонтанами, было место и для спортивных площадок.
В Тарасовке можно еще увидеть почтовую станцию XIX века и лавку Лихониных (XX век). Здесь сохранилась и аптека Волпянского, оборудованная прямо в двухэтажном деревянном доме (самой даче аптекаря), построенном в 1896 г. В ней все дачники могли приобретать лекарства.
Перловка
В 1880 году в Перловке насчитывалось 80 дач. Этот поселок был самым известным и престижным. Принадлежал он московскому предпринимателю Василию Алексеевичутвовала Перлову. Аренда дач в Перловке делалась за несколько лет вперед, стоила как хорошее жилье в Москве, поэтому попасть тудасчиталось большой удачей.
Расположился поселок на берегу Яузы с построенными вдоль нее купальнями.В XIX – XX в. был окружен сосновым бором, от которого сейчас почти ничего не осталось. В Перловке был и театр, в котором выступали московские труппы, а два раза в неделю в поселок привозили музыкантов.
Построили здание для Горбачева в 1988 году
Оно представляло собой 3-х этажный особняк с вертолетной площадкой и эскалатором к морю. Внутри все было очень современно: кинозал, бильярд, тренажерный зал, сауна.
На территории был даже свой теннисный корт, а интерьер поражал шикарными видами.
Абрамцево, Ярославское шоссе
Фото: Музей-усадьба писателя Сергея Аксакова в Абрамцево, 1950 год. Автор: Сергей Иванов-Аллилуев, Фотохроника ТАСС
История этого села берет свое начало еще в XVII веке. Позже, в 1843 году Абрамцево покупает писатель С.Т. Аксаков. В усадьбу к нему часто приезжают погостить Гоголь, Тургенев, Тютчев. В 1870 году Абрамцево переходит в собственность С.И. Мамонтову. В период с 1870 по 1900 гг. сюда заезжают известные художники и артисты, члены знаменитого мамонтовского кружка Васнецов, Репин, Левитан, Врубель, Шаляпин. После прихода к власти большевиков вокруг усадьбы появляется целый поселок художников.
На сегодняшний день стоимость недвижимости здесь начинается с суммы в 5,5 млн руб. за дом площадью 100 кв. м. Самый дорогой в Абрамцево особняк сегодня стоит 35 млн руб. за 590 кв. метров.
- https://arzamas.academy/mag/884-malinin
- https://mvlife.ru/analitika/istoricheskie-dachi-ili-gde-otdyhala-sovetskaya-elita.html
- https://fishki.net/2544258-dachi-gensekov-sssr-gde-shikarno-ot-gosdel-otdyhali-sovetskie-vozhdi.html
- https://cyrillitsa.ru/places/133404-svetskie-meropriyatiya-i-rasstrely-dlya-2.html
I. Ýìáå <Ý. Ì. Áåñêèí>
II. Ø. <Í. Ã. Øåáóåâ>
Êíóò Ãàìñóí ó Ñòàíèñëàâñêîãî[1]
«Òðèáóíà», Ì., 1907, 9 è 10 ôåâðàëÿ.
I
II
Ïðèìå÷àíèÿ:
————————————————————————-









.gif)


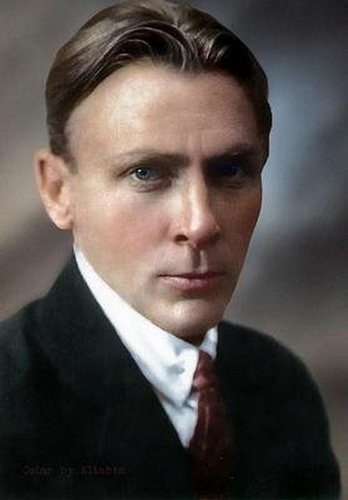
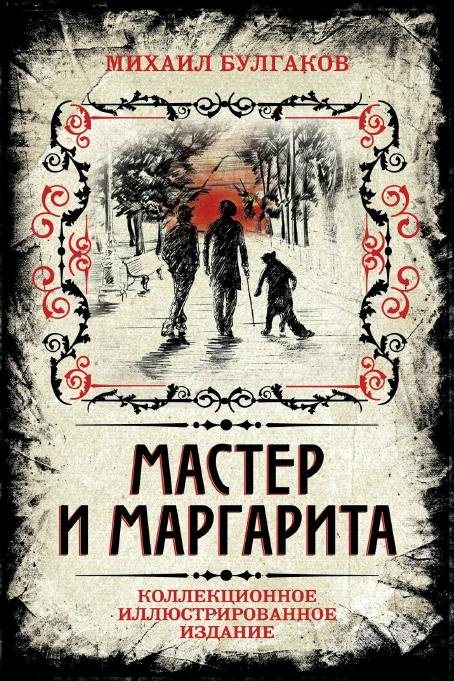
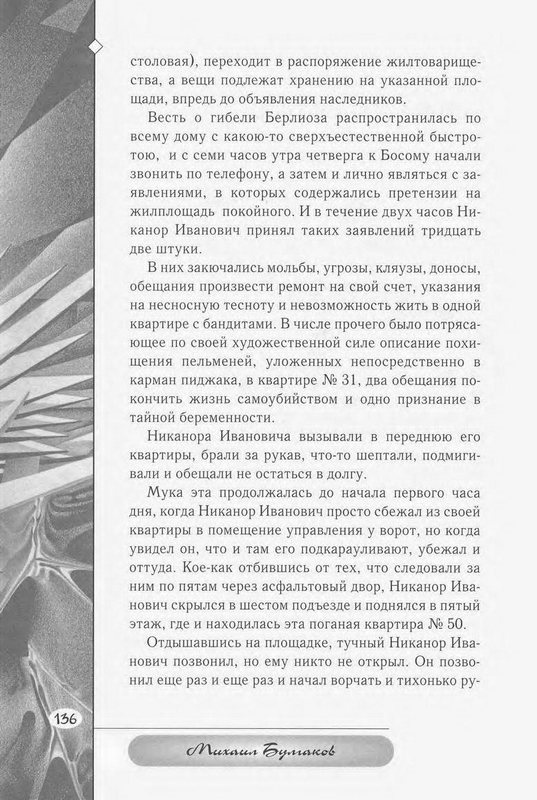
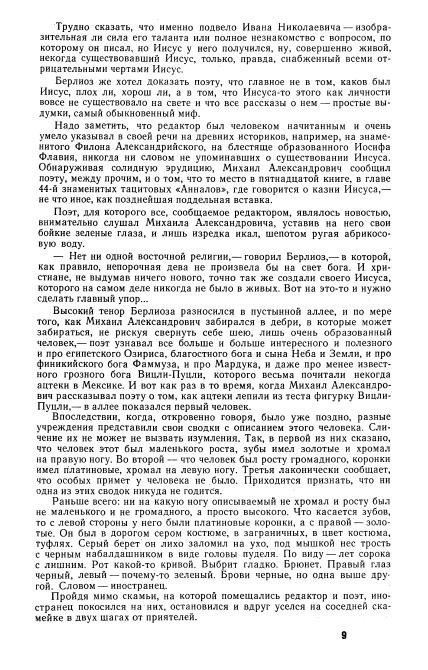
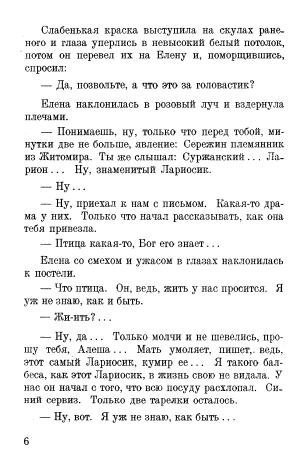

 Но бум надеяться кто-нибудь прорежется .
Но бум надеяться кто-нибудь прорежется . 


























