Предлагаем юным читателям послушать книги, которые им читают библиотекари ГБУК города Москвы «ЦБС ЮАО» Центральная детская библиотека № 152:
«Золотая книга сказок писателей Италии»
В книге представлены чудесные сказки классиков итальянской литературы, среди которых – Джанни Родари, известный итальянский сказочник, писатель и журналист. Его сказки очень нравятся юным читателям, развивают фантазию и воображение. Итальянский сказочник создает удивительный мир в своих книгах, наполняет их магией. Все сказки очень разные: про животных, про дворец из мороженого, про скупого рыбака, про волшебную карусель и т. д. Есть очень лёгкие детские сказки, а есть те, которые заставляют глубоко задуматься. Предлагаем послушать его сказку «Кто кого».
Ссылка на сказку: https://www.youtube.com/watch?v=ruFJNiUvZPQ
Андрей Усачев «Знаменитая собачка Соня»
Андрей Усачёв – замечательный автор, он пишет для детей просто и увлекательно. А собачка Соня очень умная. Почему? Да потому что она обо всём раздумывает, а если много думать, то непременно станешь умным. Но, несмотря на её раздумья, а может, из-за них она постоянно попадает в самые забавные ситуации.
Соня мечтает отправиться в путешествие. Получится это у неё или нет, послушайте и вы это узнаете. А чтобы послушать, надо перейти по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Ia—9SczRtE

Сергей Махотин написал много книг для ребят. По его словам, очень часто детские вопросы помогают ему в написании книг.
История книги «Заколдованные косички» началась, когда Сергей Анатольевич работал в журнале «Костёр». Он получил письмо от девочки Светы из далёкого сибирского поселка, которая спрашивала, что делать, если мальчишки в классе всё время дергают её за косички. Как вы думаете, можно ли заколдовать косички? Послушайте рассказ Сергея Махотина, и вы это узнаете.
Ссылка на рассказ: https://www.youtube.com/watch?v=ylQKSpakDbs

Детские стихи дарят хорошее настроение, вдохновляют на добрые дела, рассказывают, как устроен мир. Стихи нужно читать каждый день. И, конечно, есть стихи, которые стоит выучить наизусть. Предлагаем послушать беседу и чтение стихов Тима Собакина и Галины Дядиной.

Сказки Игоря Жукова замечательны тем, что волшебство не приходится долго искать, вызывать. Автор не проводит границы между обыденным и чудесным. Буквально с первой строчки читателя затягивает водоворот неожиданных, часто смешных, иногда ироничных и порой поучительных событий. Двоечник может стать круглым отличником – стоит только завести говорящий дневник. А Бармалей, оказывается, любит посмотреть телевизор… С героями этой весёлой книжки происходят смешные и невероятные истории.
Послушать произведение Игоря Жукова «Бессонница Синего волка» можно, перейдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=IXaJxTENirs&t=169s

Ирина Алексеевна Антонова – талантливый детский писатель, она написала великое множество замечательных произведений. Они публиковались в таких детских журналах, как «Миша», «Мурзилка», «Колобок и два жирафа», «Спокойной ночи, малыши!», «Почитай-ка» и во многих других.
Ирина Алексеевна писала сценарии для известного киножурнала «Ералаш», а также для телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Предлагаем вам послушать её рассказ «Талисман», опубликованный в февральском номере журнала «Мурзилка» за 2019 год.
Послушать рассказ можно, перейдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=fdgk-2J4IjY

Начало писательской деятельности Дмитрия Михайловича Холендро связано с Замоскворецким домом пионеров в Москве. В этом неугомонном, жизнерадостном Доме, в одной из его комнат, в определённые дни проводились занятия кружка поэзии, участником которого в 1930-е годы был пионер Митя Холендро. Как и другие кружковцы, он читал здесь свои стихи, слушал замечания и отзывы товарищей, а иногда – известных поэтов. Печатался он в «Пионерской правде», «Вечерней Москве», после войны его детские стихи публиковались в книге для чтения в начальной школе «Родная речь». Предлагаем послушать рассказ Дмитрия Холендро, напечатанный в журнале «Мурзилка», в № 11 1995 года. Ссылка на рассказ: https://www.youtube.com/watch?v=R3a3QJIDXQw

Татьяна Кирюшатова – автор многочисленных сказок о народных куклах, русских ремёслах и целебных травах, вышедших в разных издательствах, а также на страницах журнала «Мурзилка». Сказочные истории полюбились и взрослым, и детям. Библиотекари читают эти сказки своим читателям, создают инсценировки, мастерят куклы, а дети слушают сказки, следят за сюжетом и впитывают в себя красоту народных сказаний. А случается, что за счастьем далеко ходить не надо. Оно у порога ждёт. Как в сказке Татьяны Кирюшатовой «Алёнкины рушники» опубликованной в № 7, 2017 года журнала «Мурзилка». Ссылка на сказку: https://www.youtube.com/watch?v=eYk02P4lJWA
С малышами читаем сказки, с ребятами постарше — детектив, а с подростками изучаем фантастические сюжеты.
Сотрудники московских читален по выходным рассказывают о книгах, которые понравятся всей семье. Заведующая библиотекой № 10 Анна Клемина советует познакомить детей с книгами Андрея Усачева, Валько, Виктории Ледерман и других.
Малышам
«Умная собачка Соня» Андрея Усачева
Первая книжка, которую я хочу порекомендовать для чтения с детьми, — «Умная собачка Соня». Думаю, многие родители помнят это чудесное произведение, которое не теряет актуальности. Конечно, нужно читать современные книги, но обязательно возвращаться и к проверенной временем классике.
Героиня на собственном примере учит малышей, как себя вести, подсказывает, где могут таиться опасности. Например, малышам быстро становится ясно, что лучше не иметь дел с электрическим током. Полезные знания поданы легко и хорошо запоминаются.
После знакомства с героиней можно посмотреть мультфильмы про собачку Соню. Сценарии тоже написал Андрей Усачев, именно с них и началась книга.
«Большая книга сказок Волшебного леса» Валько
Вторую книжку, которую я советую, написал современный немецкий автор и иллюстратор Валько (Вальтер Кесслер). Мне нравится, что в своей книге он отходит от клише. Главный герой — заяц — носит прозвище Рыцарь. Он совершенно не труслив. Со своим другом, медведем Лакомкой, Рыцарь все время попадает в разные передряги. Но благодаря дружбе и отзывчивости они очень легко выходят из них.
Иллюстрации — настоящие шедевры. Впрочем, убедитесь в этом сами.
Ребятам постарше
«Аля, Кляксич и буква А» Ирины Токмаковой
Это веселая повесть-сказка о том, как девочка Аля и буква А путешествуют по азбуке в надежде одолеть злодея Кляксича, который хочет заменить все буквы кляксами. Без помощи читателей не справиться — им надо будет выполнять несложные интересные задания после каждой главы. Например, нарисовать забор… единичками или несколько строчек «бубликов».
Ирина Токмакова — известная детская писательница. Повесть «Аля, Кляксич и буква А» впервые была опубликована в 1967 году.
«Агата Мистери» Стива Стивенсона
Еще хочу посоветовать серию книг «Агата Мистери», созданную Стивом Стивенсоном. Под этим именем скрывается итальянский писатель Марио Паскуалотто — псевдоним он взял в честь своего любимого автора Роберта Льюиса Стивенсона. В «Агате Мистери» захватывающих приключений не меньше, чем в «Острове сокровищ».
Главная героиня Агата (конечно, это отсылка к знаменитой Агате Кристи) мечтает стать писательницей. Она пытлива, ей интересно все на свете. У нее есть кузен Ларри, который учится в школе детективов. Он не очень находчив, поэтому всегда обращается за помощью к Агате. Вместе они расследуют таинственные дела и путешествуют по разным странам.
Серия про Агату хороша для расширения кругозора. Юные читатели не только следят за детективной историей, но и узнают о достопримечательностях и укладе жизни каждой страны, где оказываются герои. В нашей библиотеке эти книжки очень популярны и всегда на руках — из всех 36 на полке всегда стоят максимум две или три.
Подросткам
«Время всегда хорошее» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак
Книга о том, что во всех временах есть что-то уникальное. Сюжет тут очень интересный, фантастический: мальчик из 1980 года переносится в 2018-й, а девочка из 2018-го отправляется почти на 40 лет назад.
Мы видим плюсы и минусы двух эпох: когда-то дети больше гуляли во дворе, знали множество уличных игр, зато сегодняшние хорошо умеют управляться с компьютерами, переписываться в мессенджерах. Справедливо и для прошлого, и для настоящего одно: если у тебя есть хорошие друзья, с ними будет весело в любых обстоятельствах.
Я прочитала книжку с огромным удовольствием. Тут затронуты очень многие темы — взаимоотношения мальчиков с девочками, первая любовь, дружба. Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак получили за «Время всегда хорошее» российскую литературную премию «Алиса», а потом книга заняла третье место во всероссийском конкурсе «Книгуру».
«Теория невероятностей» Виктории Ледерман
Уже первая фраза зацепит любого современного подростка: «День не заладился с самого утра: отключили интернет». Главному герою Матвею предстоит провести без связи с миром целые сутки. За завтраком мама сообщает новость: дочка ее подруги временно поживет с ними. Матвей своей территорией делиться не хочет, обижается и уходит подышать свежим воздухом на улицу, где его настигает новая неприятность.
Убегая от хулиганов, Матвей залезает в обыкновенную трубу, а вылезает в совершенно другом мире, где все перевернуто с ног на голову: его не существует, а у его мамы подрастает дочка. Герой пытается найти своих друзей, чтобы те помогли ему вернуться. Книга показывает, как часто мы не ценим того, что у нас есть.
Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».
Андрей Усачев
Волшебная Колыма
© А.А.Усачев
© ООО «Вимбо», 2021
Предисловие ко второму изданию
Много сказок рассказывал мне Юкагирыч во время нашего путешествия по Колыме. Большую часть я успел записать, но кое-что подзабылось. Я вспомнил несколько чудесных историй, только когда книга уже вышла. И мне стало ужасно стыдно. «Сказки не должны пропасть!» – говорил мой друг, колымский ворон. И еще он говорил, что у человека короткая память.
Надеюсь, увидев это второе дополненное издание, старый ворон простит меня и, может быть, изменит нелестное мнение о людях вообще, и о столичных писателях, в частности…
И когда я выйду из магаданского аэропорта, он снова встретит со связкой ключей и летным планшетом через плечо.
АУ
1
Ворон Юкагирыч, или Как меня заманили на Колыму
Ночью раздался звонок.
– Добррое утрро! – послышался в телефоне хрипловатый голос. Я посмотрел на часы:
– Какое утро? Три часа ночи!
– Это у вас трри часа. А у нас уже одиннадцать. Самое что ни есть утрро!
– Где это у вас?!!
– На Колыме, – ответил голос. – Меня зовут Ворон Юкагирыч. И я хочу пригласить тебя на Колыму…
«Что еще за Ворон Юкагирыч?.. Странное имя!», – подумал я. Раздражало и то, что незнакомец, кто бы он ни был, обращался ко мне на ты. И вообще, все это было похоже на дурацкий розыгрыш.
– Спасибо. У меня другие планы. Через пару дней я уезжаю на рыбалку.
Я не врал. В городе стояла жара. Кондиционер в квартире не работал, и я собирался переехать на дачу.
– Рыбалка будет. И харриус, и горрбуша, и щука. Обещаю…
– Хорошо. Я подумаю.
Я отключил телефон и попытался уснуть. Но странный звонок не выходил из головы. Я залез в интернет и набрал: «Колыма». Все сходилось. И разница в восемь часов, и коренные северные народы – юкагиры, эвены, коряки. А главное, волшебные слова: хариус и горбуша… Это вам не сидеть на подмосковной даче и ловить в пожарном пруду карася!
Августовская духота, врожденное легкомыслие и страсть к приключениям победили: «Была не была! В конце концов, что я теряю?»
Наутро я позвонил:
– Согласен.
– Бери билет до Магадана и прилетай. Я встречу…
– А что мне с собой брать?
– Водительские права есть?
– Есть.
– Больше ничего не нужно. В аэропорту будет ждать черный «Ниссан-сафари»…
В магаданском аэропорту меня никто не встретил. Ругая последними словами и себя и неведомого Юкагирыча, полчаса пошатался по зданию аэропорта и вышел на площадь. В отдалении поблескивал на солнце черный «Ниссан-сафари». Рядом с машиной никого не было. Но подойдя поближе, я увидел сидящего на капоте большого ворона с планшетом, какие в старину носили летчики.
– Прривет! Юкагиррыч – это я, – сказал он и достал из планшета ключи. – Жду уже полчаса…
Я открыл рот и от удивления не мог произнести ни слова.
– Между пррочим, мог бы позвонить…
– А телефон у вас откуда? – вместо приветствия растерянно спросил я.
– Ну, ты же не думаешь, что вороны покупают телефоны в магазине. Один турист потерял. Ррастяпа! – ворон хрипло расхохотался.
Я тоже засмеялся.
Так мы и познакомились. Юкагирычу было, по его утверждению, сто шестьдесят лет. И не верить ему причин у меня не было. Это был крупный черный ворон: перья на солнце отливали синевой, хотя кое-где уже просвечивала седина.
У меня сразу возникло множество вопросов: Кто ему дал мой телефонный номер? Чей это «Ниссан-Сафари»? Откуда у него летный планшет?
На все вопросы Юкагирыч отвечал коротко:
– Друзья!
Друзья, как выяснилось, у него были везде. По крайней мере, на Колыме.
– Если живешь больше ста лет, и у тебя нет друзей, считай, ты и не живешь, – сказал ворон и, видимо, чтобы закончить бессмысленный разговор, спросил:
– Ты веришь в сказки?
– Конечно, – кивнул я. – Я ведь их сам пишу.
– Вот и прекррасно, – сказал он. – Значит, я не ошибся.
2
Знакомство с Колымой началось с моря. Мы выехали на берег, и я вышел полюбоваться чудесным видом. Висящие над горизонтом облака казались далекими островами. А может, это и были острова или дальние неведомые берега?.. День выдался солнечный. Юкагирыч сидел на капоте и грелся.
– Это море или океан? – спросил я.
– Бухта. А дальше – Охотское море, а там – и Тихий океан.
– А киты сюда приплывают?
– Касатки иногда появляются. И Сельдяные киты заходят[1]. Но редко.
– Жаль, – вздохнул я.
– Сами виноваты, – сказал ворон.
– Кто?
– Люди. Ведь вы же ближайшие родственники китов. И вы, и киты кормите детей молоком.
– Знаю. Ученые давно доказали, что жизнь вышла из воды…
– Ваши ученые доказали, – хмыкнул Юкагирыч, – а на Колыме это знали всегда. У чукчей существует сказание о том, что у людей и китов одна мать. Женщина.
– А отец кто?
– Океан. Но это было давно, еще до Великого потопа.
– А разве и на Колыме был Великий потоп? – удивился я.
– Великий потоп был везде, – прищурился ворон.
– А ты то откуда знаешь? Или тебе пять тысяч лет?
– Сто шестьдесят, – уточнил Юкагирыч. – Но сказки живут дольше и людей, и птиц. Если, конечно, это хорошие сказки.
Мне показалось, что ворон обиделся.
– А расскажи мне про Великий потоп, – попросил я.
– Хорошо, – кивнул ворон. – Слушай…
Великий потоп, или Почему киты больше не подходят к берегу
Когда-то, давным-давно, люди и киты были братьями. Только люди жили на суше, а киты – в воде. По земле им было трудно передвигаться. Но киты часто приплывали к берегу и разговаривали с людьми, которых называли своими молочными братьями. Иногда они подгоняли к берегу рыбу, ведь люди тогда еще не умели строить лодки и рыбачили только с берега…
И вот однажды, неизвестно за что рассердился небесный владыка Пон-Шукун и устроил на земле потоп. Нет, он не стал посылать дождь. А наоборот, разогнал тучи. Поначалу все обрадовались теплой погоде. Но солнце растопило лучами снега, ледники начали таять, а вода в океане – прибывать. Вскоре она затопила тундру и поднималась все выше и выше. Вода добралась уже до самой высокой сопки, на которой собрались люди и звери. Все жители земли должны были погибнуть. Уцелели бы только рыбы и птицы, умевшие плавать. И тогда самый большой Кит решил спасти своих земных собратьев.
– Я буду возить вас до тех пор, пока вода не уйдет. Ничто не вечно, закончится когда-нибудь и потоп, – сказал он, подплывая к сопке. – Всем найдется место на моей спине. Забирайтесь, пока не поздно!
Кит этот был такого размера, что на нем уместились все: и медведи, и лисы, и песцы, и волки, и лоси, и олени…
Но люди попросили Кита пустить их внутрь: наверху было слишком тесно, днем – жарко, а ночью – холодно…
– Хорошо, – сказал Кит. – Сэвник кэлуник!
Что на древнем языке означало: Добро пожаловать!
В огромную пасть Кита могла бы въехать оленья упряжка. Люди так и сделали. Им даже не пришлось оставлять свои вещи на берегу. Они переселились прямо с ярангами, нартами[2], оленями и собаками…
И вовремя. Поднявшаяся вода затопила самую высокую сопку. И самый большой Кит поплыл по волнам всемирного океана.
Хорошо было людям внутри кита, да еще в теплой юрте. Только темновато. И они разожгли огонь.
– Что вы там делаете, братья? – спросил Кит, чувствуя внутри жжение.
– Мы разожгли очаг. Не сидеть же нам в темноте и есть сырую пищу!
– Ладно, братья, – сказал Кит. – Я потерплю.
Потом у людей закончились дрова. Тогда они взяли и отрезали кусок жира, чтобы поддержать огонь:
– Кит большой, от него не убудет…
– Что вы там делаете? – спросил Большой брат, чувствуя режущую боль.
– Мы взяли у тебя немного жира.
– Ладно, – сказал Кит.
Прошло еще время. Вода не убывала. И у людей кончилась запасы.
– Зачем мы будем голодать, когда вокруг полно еды, – решили они. – Кит большой. От него не убудет…
И отрезали большой кусок печени.
– Что вы там делаете, братья? – вздрогнул Кит.
– Обедаем, – сказали люди.
Конечно, Кит мог бы выплюнуть людей вместе с их ярангами и повозками. Но они же были его молочными братьями.
А потом люди потихоньку отрезали кусочки китового сердца, ведь чем-то надо было кормить собак.
Сорок дней Кит носил всех живущих по океану. Наконец, вода стала спадать, и над волнами показались вершины сопок. Когда Кит пристал к суше, все спасенные выбрались на берег и низко поклонились ему:
– Спасибо, большой брат!
– Спасибо, – сказали люди, выезжая из кита на своих повозках. – Мы никогда этого не забудем!
– Я тоже, – сказал Кит и уплыл в океан.
С тех пор киты близко не подходят к берегу. И уже ни за что не впустят в себя человека. Когда Великий потоп закончился, они попросили Небесного Владыку дать им решетку, сквозь которую могли бы проходить только рачки и мелкая рыбешка. Но не человек. Даже если ему станет плохо… Киты не посмели бы отказать в помощи своим молочным братьям. Ведь у них было большое и доброе сердце. Хотя и не такое большое, как вначале.
3
Мы ехали вдоль побережья.
– Видишь вон тот остров, – показал крылом Юкагирыч. – Это остров Недоразумения. Там неплохая морская рыбалка. Но мой друг, капитан катера, сейчас в отпуске…
– Остров Недоразумения? Все равно, что остров Невезения. Откуда такое название?
– Первые мореходы увидели его с воды, и им показалось, что это часть суши. А потом выяснилось, что все-таки остров. Пришлось переделывать каррты, – засмеялся ворон. – Иногда твои сородичи слишком поверхностны…
– Вижу, людей ты не очень жалуешь, – заметил я.
– Люди бывают разные. Недалеко от Магадана есть небольшие островки – Три Брата. Существует легенда, что во время бури поднялась огромная волна, грозя смыть селение. Тогда три брата выплыли в море, чтобы защитить родных, и превратились в скалы. Там они до сих пор и стоят: Старший брат, Средний брат и Младший брат. Я тебе их на обратном пути покажу…
Рядом с островом Недоразумения кружились сотни птиц. Особенно много было чаек и еще каких-то черных птиц с красными лапами и большими красными носами.
– Что это за птицы? Немного на попугаев похожи…
– Топорки. Но их иногда зовут морскими попугаями. Так что ты угадал.
– Сколько же их? Сто? Тысяча?
– Делать мне больше нечего, как попугаев считать. – пожал плечами Юкагирыч. – Здесь их еще немного. А вот дальше, мористее[3], – кивнул он, – есть остров Талан. Там, ваши ученые подсчитывали, около миллиона птиц. Это, наверное, самый знаменитый птичий базар.
– Красивые птицы, – сказал я, разглядывая стремительно летящих над водой топорков. – Куда это они?
– Опять на бал собираются…
– На какой бал?
– Есть такая сказка, – сказал ворон.
Как Топорок и Ипатка собирались на бал
Птичий базар на острове Талан существовал с незапамятных времен. Его жители называли свой остров городом, и не просто городом, а самым великим городом мира. Но базар и есть базар: вечно тут стоял крик, шум и гам. Птицы ругались, спорили, дрались из-за всего: из-за лучших мест, из-за рыбы и креветок, из-за птенцов. Кто только не жил на Талане: чайки, кайры, бакланы, канюги, чистики – множество самых разных птиц. И среди них – Топорок и Ипатка.
Однажды птица-Старик, самый старший и мудрейший житель острова, устроил общее собрание.
– На днях наш Талан стал островом-миллионером, а мы – талантливыми миллионерами. Предлагаю в честь этого события устроить бал.
Сразу поднялся крик:
– Какой бал? А зачем бал? А банкет будет?
Птица-Старик поднял крыло:
– Все будет. Сначала бал, музыка, танцы. А затем, как полагается, и банкет!
– А в чем прилетать на бал?
– В чистом, – сказал Старик. Он был из семейства Чистиковых. – Бал состоится завтра вечером.
И все разлетелись по своим гнездам, чистить перышки и готовиться к торжеству.
Больше всех старался Топорок. Он вечно ходил с грязным носом, так как копал в земле норы клювом похожим на лопатку. Внешность ему от природы досталась невзрачная. И Топорок с завистью поглядывал на других птиц: на чаек в нарядных белых платьях, на гагар в черных кружевах и жемчужных ожерельях, а особенно, на Большую Канюгу. Вот кого Небесный владыка не обидел внешностью: высокая яркая брюнетка с распушенными черными бровями и красным клювом.
Фамильных драгоценностей у Топорка не было. Поэтому он купил на базаре большую банку помады и долго красил свой клюв. А затем, чтобы выделиться, выкрасил еще и ноги.
«Ни у кого таких красивых ног не будет, даже у красавицы Канюги», – думал Топорок.
Не менее тщательно готовилась и Ипатка. Красной помады она не нашла. Поэтому купила оранжевую. И еще баночку желтой. Клюв Ипатка накрасила сразу в два цвета. На ногах нарисовала оранжевые чулки. И вдобавок надела черный фрак с белой манишкой.
Топорок и Ипатка долго собирались и прихорашивались. А когда прилетели на праздник, танцы уже закончились и шел банкет.
– Ну, ты и вырядился, – сказала Ипатка, разглядывая Топорка. – Прямо попугай какой-то!
– На себя посмотри, – обиделся Топорок. – Не птица, а официант во фраке!
– Официант? Где официант? – закружили вокруг другие птицы.
– Эй, официант! Свежих креветок!
– А мне икры!
– А мне селедочки!
– Я не официант, – возмутилась Ипатка. – Я – Ипатка!
– Извини, не узнала, – хихикнула Большая Канюга. – Я подумала, ты – пингвин.
– Что? Кто пингвин?! Я тебе покажу…
И снова начались крики, шум, драки. Бал закончился. И начался обычный базар.
– А пингвины у вас на Колыме есть? – спросил я.
– Вот чего нет, того нет! – развел крыльями ворон. – Все есть. Кроме пингвинов и попугаев.
4
Мы двигались вглубь материка. По обе стороны дороги застыли горы, как горбы огромных чудовищ. Некоторые – в зеленой чешуе лиственниц, некоторые – лысые. «Сафари-Ниссан», который Юкагирыч одолжил у одного из своих друзей, был праворульным. Поначалу я чувствовал себя не слишком уверенно, но довольно быстро освоился. К тому же, Ворон, расположившийся на левом сиденье, командовал:
– Впереди никого, жми педаль!
Машин на трассе было мало. И я сказал об этом Юкагирычу.
– Для столицы, наверное, мало, – усмехнулся ворон. – А для Колымы достаточно. Я помню те времена, когда автомобилей, вообще, не было. И помню, как появились первые машины. На них сбегались посмотреть и люди, и звери. Знаешь, как называли здесь первые машины?
Я помотал головой и услышал такую историю…
Железные звери
– Человек – самое хитрое животное. Никогда не знаешь, чего от него ждать, – говорили звери своим детям. – То он подбирается к вам сзади, то спереди, то справа, то слева. Хитрое, потому что слабое. Человек все время что-то придумывает: капканы, копья, луки…
Поначалу звери опасались людей – люди подкрадывались тихо, стреляли бесшумно. Но затем на Колыме появились новые люди. Дикие. Они стреляли из ружей, которые, говорят, подарил им Владыка неба Пон-Шукун. Эти ружья грохотали, как гроза в начале лета. И хотя били они дальше, всегда можно было понять, откуда идет охота. Ходили новые люди громко, трещали сучьями так, что слышно было аж за несколько километров. Они рыли ямы и даже не забрасывали их ветками. Называли эти огромные ямы котлованами.
– Кот-лованы, – смеялись звери. – Кого они собираются в них ловить? Котов что ли? Или мамонтов?
Мамонты давно вымерли. Это в тайге знали все. Весной, когда реки размывали берега, можно было увидеть бивни и кости этих громадных животных…
– Ловить мамонтов? Вот глупые люди!
В общем, новых людей перестали бояться.
И вот однажды к хозяину тайги прибежал заяц с криком:
– Спасайся кто может! Железные звери!
– Что ты так вопишь? – недовольно спросил медведь, после обеда дремавший в стланике[4].
Заяц рассказал, что в тайге появились какие-то железные чудища. Носятся повсюду и людей едят.
– Людей? – удивился медведь.
– Ага, я сам видел. У них три пасти: две сбоку морды, и одна – сзади.
– Пасть сзади? А ты, заяц, случайно не мухоморов объелся?
– Честное слово, я сам видел. Возле котлована. Передними ртами двух человек проглотил, а задним – еще восемь!
– Восемь людей за раз? – медведь почесал в затылке.
– И глазищи у них здоровенные – фары называются. А рычат эти звери! А бегают! Один за мной погнался. Хорошо, что я в овраг нырнул…
– Что, и оленя могут догнать? И лося?
– Запросто. Не веришь, спроси сохатого. Один зверюга на него наскочил – рога обломал. Еле живым лось ушел. Я же говорю – железные.
– В моей тайге? – Медведь осерчал не на шутку. – Ну я им пообломаю что надо, я им фары-то повыцарапаю!
Через несколько дней заяц нашел медведя в кустах: лежит-стонет, за ребра держится…
– Что с тобой? – спрашивает заяц.
– Да так. Встретил я одного железного. Ну, мы и поговорили…
– А я подсмотрел, – сообщил заяц. – Оказывается, железные звери людей не едят!
– Как не едят?
– То есть, сначала едят. А потом выплевывают…
– Выплевывают?! Так что ли? – заревел медведь и выплюнул из пасти сломанный клык. – Тьфу!
Сначала железных зверей на Колыме было мало, но потом все больше и больше. Появились бульдозеры, экскаваторы, драги[5] и гигантский шагающий экскаватор, по сравнению с которым и мамонты казались не больше евражки[6].
– Ох и хитрые эти люди! Приручили даже железных зверей, – говорили звери своим детям. – Вы держитесь от них подальше!
Прав был Юкагирыч, когда сказал, что ничего, кроме водительских прав, брать с собой не нужно. В машине был полный походный комплект. Палатка, спальник, резиновые сапоги, чайник, котелки и продуктовый набор: тушенка, макароны, сгущенка, сахар, чай… А баночку растворимого кофе я купил по дороге в поселке со странным названием Палатка[7].
5
На ночлег остановились у реки. Я развел костерок. Пока огонь разгорался, закинул удочку и сразу же поймал горбушу. Затем вытащил еще двух. Вместо коптильни использовал старое дырявое ведро, куда настрогал веточек ольшаника[8]. А Юкагирыч устроился с рыбиной на бревне: ворон предпочитал сырую рыбу.
Стемнело. Звезды высыпали на небе, как крупная рыбацкая соль. И тут я вспомнил, что не взял соли. А до ближайшего поселка с магазином было, наверное, километров сто.
– Эх, – вздохнул я. – Соль забыл.
– А ты небо потряси, – хмыкнул Юкагирыч.
– Что? – не понял я.
– Так в старину поступали, – сказал ворон. Он уже покончил со своей рыбой и внимательно наблюдал, как я вожусь с коптильным ведром. – Раньше ведь соли на земле не было…
Я понял, что сейчас будет новая история, и замолчал, боясь спугнуть сказку.
Небесная соль
Раньше соли на земле не было. Вся соль была у Небесного повелителя. На небе ее целые россыпи хранились. Верховный владыка Пон-Шукун лунной леской ловил рыбу, макал в соль и тут же съедал. Так продолжалось довольно долго, пока кусочек соленой рыбы не упал на землю. Всем было интересно, что там едят наверху. Попробовали звери соленую рыбу – вкусно.
Стали думать, как бы раздобыть соли. И так думали, и этак. А ничего умного придумать не могли. Пока Лиса не предложила:
– Нужно небо потрясти. Соль и посыплется…
– Хорошая мысль, – обрадовались все.
Медведь полез на самое высокое дерево, но не удержался, упал и сломал себе хвост. С тех пор у медведей хвосты не растут.
Лось забрался на самую высокую сопку и стал бодать скалу, но только набил на лбу шишки. С того дня у лосей на голове вырастают рога.
А заяц стал дуть что есть силы: дул-дул, дул-дул – до тех пор дул, пока губа не треснула. И до наших дней у зайцев раздвоенная губа.
Верховный Владыка так хохотал, как никогда в жизни не смеялся:
– Хо-хо-хо! Уой! Не могу! Хо-хо-хо! Ух, насмешили! О-хо-хо!
Он так хохотал, что сотрясался весь небесный свод: соль с неба и посыпалась. В основном, сыпалась она над океаном. Но и на землю немного упало.
Обрадовались звери, стали лизать соль. Оказывается, она и без рыбы вкусная!
Спохватился Повелитель Неба, перестал смеяться. Видит, а соли-то наверху немного осталось. Получается, перехитрила его Лиса.
– Ладно, – решил он. – И я над вами пошучу…
Осенью задули ветры. И посыпался на землю снег. Все обрадовались:
– Ух ты, сколько соли нападало!
Стали лизать: лижут-лижут, а соль-то несоленая…
– Эй, дурни! Это снег! Просто замерзшая вода! – крикнул им Пон-Шукун.
С тех пор все – и звери, и люди, и собаки – лижут первый снег. А потом смеются. Просто так. Радуются первому снегу.
И Небесный повелитель тоже смеется – потому и снег летит.
– Ты хочешь сказать, что звезды – это небесная соль? – спросил я.
– Я на небе пока не был, не знаю, – сказал Юкагирыч. – А у тебя, кажется, ужин подгорел…
Заслушавшись сказкой, я совсем забыл о рыбе. Ивовые прутья перегорели, и горбуша хвостом прилипла ко дну ведерка.
– Точно, – вздохнул я и снял коптильню с углей. Горбуша и так сухая рыба, а эта к тому же несоленая и с подгорелым хвостом.
– У тебя еще одна рыбина есть, – сказал ворон. – А за солью я могу слетать. Тут недалеко, километрах в двадцати, солончак…
– Спасибо, не надо.
Я попил чаю с сухарями. И перед тем, как улечься, снова поглядел на небо.
«А может, и правда, звезды это – соль? – подумал я. – Или костры, на которых кто-нибудь коптит рыбу?»
Я хотел еще спросить: может ли ворон долететь до неба?
Но мой провожатый уже спал.
6
Юкагирыч понимал мое рыбацкое нетерпение. Поэтому утром снова рыбачили. Течение у реки было быстрое, но не бурное. Я решил ловить в проводку, то есть, пускал поплавок по течению, а потом подтягивал леску. Не клевало. Я снарядил блесну. Сделал десяток забросов. Безрезультатно…
– Рыбы нет, – сказал я Юкагирычу, который с интересом наблюдал за моими действиями.
– Подожди, – ответил ворон. – Горбуша идет стаями. Против течения. Так прет, что вода вспенивается. Сам увидишь. Она сейчас на нерест идет. Кстати, знаешь, зачем?
– Икру метать, зачем же еще!
– Верно. Но не совсем…
Почему горбуша идет на нерест?
Это было давным-давно. Небесный повелитель Пон-Шукун еще только создал первых зверей, птиц и рыб: кижуча, кету, нерку, щуку, хариуса. И у всякой рыбы была своя стая и свой вожак: Мать-Щука, Отец-Хариус, Князь-Язь, Пионерка-Нерка[9]…
А у горбуш главным был великий мудрец Горбун. Он водил свою стаю по всем морям, оберегая ее опасностей: ни одна рыба не разбилась о скалы, ни одну не съела нерпа или тюлень. Говорят, мудрец Горбун прожил сто лет, что для рыбы просто огромный срок. Поначалу горба у него не было. Но ежедневные заботы и тревожные мысли о своей стае уже не умещались в его голове. Тогда-то у него стал расти горб, и его назвали Великим Горбуном.
Правда, недоброжелатели говорили, что он накапливает не заботы, а жир. Некоторые думают, что легко быть вожаком. Но это не так…
– А ты был вожаком? – спросил я у Юкагирыча.
– К счастью, нет. Мы, вороны, живем семьями, а не стаями. Слушай дальше…
И чем дольше жил Великий Горбун, тем лучше понимал, что забот и трудностей не станет меньше. Что вечно будет он плавать из одного моря в другое, есть одну и ту же пищу, и одно лето будет похоже на другое…
Однажды собрал старый вожак свою стаю и сказал:
– Сто лет я водил вас из моря в море, из океана в океан. Я устал. И хочу вернуться в прошлое…
– Как это – в прошлое? – удивились горбуши. – В какое-такое прошлое?
– В то прошлое, когда я был молодым и полным сил. В то прошлое, когда у меня не было горба. Проще говоря, в Детство.
– Но это невозможно! Где это видано, чтобы можно было помолодеть? – зашумели рыбы. – Может быть, ты нашел море с молодильной водой?
– Говорят, что на востоке есть источник с горячей буль-буль-водой, – забулькал кто-то. – Но одна щука попробовала искупаться в нем и тут же – буль-буль – сварилась!
– Возможно, – сказал Горбун. – Но я много думал и понял, что время – река. И всякая река – это Река Времени. Если плыть по ней в обратную сторону, то попадешь в прошлое, в счастливое прошлое…
Открытие Великого Горбуна сородичам понравилось. Всем захотелось вернуться в счастливое прошлое. Плыть против течения, конечно, было трудно. Но желание снова стать молодыми придавало сил.
Тогда в первый раз и пошла красная рыба на нерест. Впереди шел вожак, рассекая горбом воду, а за ним – вся его стая.
Нелегким оказался путь к истокам. Река становилась все уже и уже, мельче и мельче. И наконец, сделалась такой мелкой, что Великий Горбун не смог плыть дальше:
– Мой путь окончен, – сказал он.
Кто-то решил не расставаться с вожаком, другие продолжили путешествие. Самки метали икру, самцы сбрасывали молоки, и всем стало легче…
Великий Горбун оказался прав. На камнях остались тысячи икринок, в каждой из которых была новая жизнь.
– У меня была одна жизнь, а теперь – тысяча, – сказал мудрец. – Кто хочет, может идти обратно. А я остаюсь. Здесь я закончу эту жизнь и начну другие. И так будет повторяться из года в год, из десятилетия в десятилетие. И миллионы раз я буду рождаться снова и снова…
Узнав, что можно прожить множество жизней, другие рыбы тоже стали возвращаться к своим истокам. Их вылавливают люди, и медведи, и птицы. Но рыба идет и идет на нерест. Потому что, как и все живое, хочет бессмертия.
А Владыка Пон-Шукун, говорят, взял Великого Горбуна на небо. И там появилось Созвездие Рыб[10].
– Ну и что ты развесил уши? Смотри, рыба идет, – ворон кивнул на бурлящую воду.
Рыба шла плотно. Я одну за другой вытащил шесть приличных рыбин. Почти все с икрой.
7
Все хорошо на Колыме, если бы не мошка. Наверху ее сдувало ветром, но стоило спуститься в долину, мошка начинала мельтешить в воздухе.
По совету Юкагиыча я купил в Палатке специальную мазь «Мустанг», которая предназначалась для лошадей. Лошадиная мазь работала: мошка на меня не садилась, только гудела и портила пейзаж.
– Это еще не мошка! Вот две недели назад ты бы увидел небо в крапинку, – насмешливо заметил Юкагирыч, глядя, как я обмахиваюсь веткой. – Кстати, знаешь, откуда взялась мошка?
Я бы, если даже и знал, не сказал. Мне нравились рассказы старого колымского ворона. Поэтому я помотал головой, заодно пытаясь отогнать залетевшего в машину комара.
Откуда взялась мошка?
Один шаман решил изгнать все дурные мысли у людей своего племени. Это был очень опытный и искусный шаман. Обычные шаманы могли изгнать из человека болезни и недуги, нашаманить хорошую погоду, охоту или рыбалку. Но он превосходил своим искусством других. Говорят, сам Небесный владыка Пон-Шукун его отличал и общался чаще, чем с остальными.
– Все беды происходят от плохих мыслей и желаний, – говорил искусный шаман. – Нужно выбросить злобу, зависть, подозрительность и недоверие. Тогда не станет ни болезней, ни ссор, ни убийств, ни войн. И все будут здоровыми, сытыми и счастливыми.
А где находятся мысли? Правильно, в голове. Вот и шаман пришел к тому же выводу. Он развел большой костер, стал прыгать вокруг него, бить бубном по головам соплеменников и выкрикивать:
Умсукчан, дум-дум-сукчан,
Бурундум, бум-бум, умчан!
Что это значит, никто не знал. Потому что шаманы разговаривают с духами на их языке. Но от этих ударов все дурные мысли у людей вылетели… и превратились в мошку, комаров и оводов.
Но куда дальше деваться, злые мысли не знали. Они тучей вились над людьми, лезли в рот, в уши и в глаза, норовили забраться под кожу. Наверное, хотели вернуться обратно…
– Ай, что это? – кричали люди и пытались отмахиваться.
– Видите, сколько дурных мыслей у вас было, – радовался шаман.
Но его сородичей это нисколько не радовало:
– Лучше бы ты их загнал обратно, – вопили они.
Пока костер горел, мошка и комары еще не так донимали. Но как только огонь погас, стали бросаться даже на собак и оленей. Да и самого шамана так покусали, что лицо у него заплыло.
Поняв, что он ничего не может поделать с мошкой, шаман обратился к Небесному владыке. Тот появился через три дня.
– Извини, не узнал, – сказал Повелитель неба. И увидев черный рой, только руками развел:
– Мысли обратно не загонишь.
– Что же мне делать? – спросил Искусный Шаман, которого за глаза теперь называли Искусанным. – Я же хотел как лучше. Я же хотел сделать всех счастливыми.
– Глупый ты, – вздохнул Повелитель Неба. – От плохих мыслей нельзя совсем избавиться. С ними нужно бороться внутри себя. А не выпускать наружу…
Он хотел еще что-то сказать, но тут Верховного владыку цапнул за нос комар. И он поспешил к себе на небо. На небе было прохладно. И мошка туда не долетала.
С тех пор и живет на земле мошка. И ничего не боится. Даже к дыму от костров привыкла. Только зимой она исчезает, потому что не любит холода. А может, зимой у людей дурных мыслей меньше. Им некогда ссориться, злиться, завидовать. Нужно думать о том, как выжить.
– Но и от мошки польза есть. Ею рыба кормится, – сказал Юкагирыч. – Кстати, ты подледный лов любишь?
– Не очень, – признался я.
– Жаль. А то я бы тебе устроил зимнюю рыбалку.
По совету ворона я свернул с трассы. И вскоре увидел огромное ледяное поле. Лед всех оттенков – от светло-розового до голубого светился и сиял на солнце.
– Что это? – ахнул я.
– Наледь. Она появляется зимой, там, где бьют сильные ключи, и держится порой до сентября. А иногда вообще не тает. Обрати внимание, что мошки здесь почти нет, поэтому сюда часто и олени выходят и медведи. Мошка ведь не только человека донимает.
Я вышел из машины полюбоваться искрящимся льдом.
– Смотри, олени, – сказал вдруг Юкагирыч.
– Где? – завертел я головой.
– Вон там, – указал крылом ворон. Я полез в машину, достал из бардачка бинокль… но увидел только две крошечные фигурки, которые быстро удалялись, пока не превратились в точки.
– Их что, медведь вспугнул? – спросил я.
– Не медведь, а ты. Погромче бы дверью машины хлопал!
8
Юкагирыч любил пить чай.
– И как ты этот кофе пьешь? – удивлялся он. – Он же горький. А вот чай полезный. От всех болезней лечит.
Иногда ворон бросал в кружку кусочки сухаря, ждал, пока они размокнут, и ловко закидывал в клюв.
Чай Юкагирыч любил крепкий:
– Больше, больше кидай, чифирь-волдырь – говорил он, наблюдая, как я бросаю черную щепотку в кипящую воду. – Сколько заварки бросишь, столько тебе и счастья Небесный Владыка сверху насыплет…
Я пару раз пробовал пить этот чифирь-волдырь. Но никакого удовольствия не получил. Сердце колотилось так, будто только что я поднялся с тяжелым рюкзаком на высоченную сопку, а в глаза словно насыпали речного песку…
Ворон посмеивался:
– Ничего. Со временем привыкнешь!
Чай я заваривал в походном котелке, который нашел в багажнике машины.
– Правильный чай нужно в чайнике заваривать. Желательно, в медном. Он и не ржавеет, и остывает медленнее, и мошка в него не налетает. Но сейчас таких не делают, – Юкагирыч укоризненно посмотрел на меня, как будто это я перестал производить медные чайники. – Я знаю, где остался один такой. Однако лететь туда долго, и брать его нельзя. Потому что он священный…
– Священный? – удивился я.
– Я расскажу тебе историю, а ты уж сам решай…
Чайник
Эвены – народ кочевой. Дважды в год, а то и чаще они меняют место жительства. Разбирают свои яранги, укладывают их в сани и переезжают на новое место: куда олени – туда и люди. Однажды они меняли стойбище и второпях забыли чайник. Это был старый закопченный медный чайник с мятыми боками…
Нет, все было не совсем так. Чайник – вещь приметная: ни забыть, ни потерять его люди не могли. И все-таки потеряли…
А виноват в этом оказался лось. Лось этот был крайне задумчивый. И если его посещала какая-нибудь мысль, он вставал, как вкопанный, и стоял так, пока мысль не додумывалась. Однажды остановился он в зарослях ольшаника и задумался. Неизвестно, о чем думал лось, и сколько простоял в кустах. Может быть, день, может быть, два, а может, и неделю… А в это время рядом встала на ночевку семья эвенов. Люди развели костер, попили чай, вытряхнули заварку и повесили чайник на дерево…
А когда наутро собрались ехать дальше, обнаружили, что чайник исчез.
Старый эвен удивился:
– Я вроде бы сюда его вешал. Не иначе злые духи украли. И теперь пьют чай из нашего чайника, – старик задумался. – Ну, и пусть пьют на здоровье, все любят чай, однако. Может быть, добрее станут…
Но старый эвен ошибался. Чайник унес лось. Не нарочно унес. Занятый своими мыслями, он даже не заметил, как ему на рога повесили чайник.
Лось шел вдоль ручья, и в голове у него звенело. Лось пробовал убежать от звона, но чем быстрее он бежал, тем сильнее звенело.
– Наверное, я схожу с ума, – подумал он.
Лось пришел к шаманке-лисе:
– У меня звенит в голове, – сказал он. – Я не могу ни о чем думать…
Лиса сразу поняла, в чем дело.
– Я тебя вылечу, – сказала она. – Но за это ты соберешь мне три кузова грибов[11]!
– Хорошо, – кивнул лось. – Дзынь… Ну вот, слышала, опять звенит!
– Закрой глаза и считай до десяти.
Лось послушно закрыл глаза:
– Раз, два, три…
А шаманка-лиса сняла с рогов чайник и быстренько закопала его в мох:
– Я сняла с тебя порчу… Ну как? Больше не звенит?
– Тихо, как в пустом дупле, – радостно затряс головой Лось и побежал собирать грибы.
А лиса повесила чайник на лиственницу. Затем взяла палку и стала лупить по нему:
– Бум-бум-бум! Бам-бам-бам! Дзынь-дзынь-дзынь!
Хитрая шаманка собрала всех зверей и объявила, что эта лиственница – священное дерево, а чайник – священный сосуд, изгоняющий злых духов.
– Но для обряда изгнания злых духов нужны дары…
Звери принесли кто что мог: медведь притащил меду, евражка набрал ягод, бурундуки достали из своих запасов кедровые орехи.
А лиса развела огонь, поставила на него чайник и запела:
Выходите, злые духи!
Бум-бум-бум!
Уходите из нашей тундры,
Бам-бам-бам!
Улетайте из нашей тайги…
Дзынь-дзынь-дзынь!
Тут чайник закипел, и из носика повалил густой пар.
– Вылетайте, злые духи! – закричала шаманка.
Решив, что из чайника вылетают злые духи, звери разбежались. А лиса напилась чаю с медом, ягодами и орехами. И повесила старый медный чайник на прежнее место.
– Чайник тот и поныне висит на дереве, – закончил сказку Юкагирыч. – Я его сам видел. И не я один. Там лет сорок назад самое богатое в мире месторождение золота нашли. Месторождение «Кубака». И ручей так же называется.
– Кубака?
– Куба, по-эвенски, чайник будет. Поэтому – Кубака. Пойдем чай пить, однако.
– Хорошая история, – сказал я. – Интересная. Складная. Но в ней не хватает, может быть, самого главного… Я вот думаю, о чем задумался лось?
Юкагирыч пожал плечами:
– Кто же их знает – о чем думают лоси?!
9
Юкагирыч знал массу интересных вещей и мог часами рассказывать о колымском житье-бытье. Но иногда вдруг замолкал и подолгу думал о чем-то своем.
– А у тебя плохие мысли бывают? – спросил я.
– Бывают.
– И что ты делаешь?
– Пою. Зимы-то у нас длинные. Чем еще заниматься, как не песни петь? Песня все дурные мысли из головы выдувает.
«Это верно», – подумал я.
– А знаешь, у кого песня самая длинная?
– Нет.
– Ничего ты не знаешь, – вздохнул ворон. – Слушай…
Самая длинная песня
Как-то на Праздник Середины Зимы собрались звери. В разные игры играли, силой мерялись, пляски устраивали, ну и без угощений не обошлось: кто рыбу принес, кто морошку, кто грибы и орехи. Хорошо повеселились звери и уже собирались по домам, как началась пурга. Да такая сильная – ветер с ног сбивает, и в двух шагах ничего не видно. Выскочил заяц из чума, так его обратно снежным комом закатило. Выбежал песец – глаза ему пургой, как тестом, залепило. Волк выглянул наружу и говорит:
– Ну и пурга! Я своего хвоста не увидел…
Сидят звери в чуме день, сидят два, сидят три. А пурга не заканчивается. Скучно и есть хочется. Тогда лиса и говорит:
– Давайте песни петь. У кого песня короче, того и съедим.
– Давайте, – согласились все. – А то от голода, да от скуки помрем.
И стали они песни петь. Самой короткой у зайца песня оказалась:
– Бла-бла, бла-бла… – и закончилась. Тут, как говорится, была его песенка спета.
Съели зайца. Сидят, дальше поют.
– Ту-ру-ру, ту-ру-ру, – олень трубил-трубил, да весь воздух из него и вышел. Съели оленя. А пурга не кончается.
– Тяв-тяв-тяв-тяв, тяв-тяв-тяв-тяв, – Песец тявкал-тявкал, пока не охрип. Съели и песца. А пурга все метет и метет…
В конце концов, остались в чуме только трое: лиса, волк и медведь.
Волк выл-выл:
– У-у-у, у-у-у, у-у-у…
Три дня выл, пока не выбился из сил.
– Ну, – говорит лиса, – теперь твоя очередь пришла…
– Э, постой, – говорит волк. – А сама-то ты, рыжая, не поешь. Только рот открываешь…
– Как же не пою? – говорит лиса. – Ты, брат, глуховат стал. Прислушайся…
И незаметно полог чума приподняла. А там пурга воет: -ю-у-у, ю-у-у, юу-у-у, ю-ю-ю…
– Слышишь, как пою? Очень даже хорошо пою-ю-ю-ю…
Пурга воет, а лиса только рот открывает.
Приготовился волк с жизнью расстаться, но тут пурга закончилась. Выскочил волк из чума и дал деру. А лиса усмехнулась, посмотрела на медведя:
– Поешь? Ну, пой-пой! – и тоже побежала по своим делам.
Один медведь в чуме остался. Так до самой весны и пел:
– Хр-р-ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр…
– Так что, – закончил сказку Юкагирыч, – Самая длинная песня у медведя. Даже длинней, чем у пурги. Пурга неделю может выть, ну две. А медведь полгода храпит.
Я лежал в палатке и думал о сказках. Вроде бы сказка – пустяк, ерунда какая-то, а правильные вещи говорит. Так и в жизни бывает: сначала слабых съедают, потом сильных, а выживают только хитрые да ленивые…
10
Колымская трасса петляла между сопок. Мы поднимались на перевалы и спускались в долины. На одном из спусков я притормозил. Низина справа от нас была усыпана то ли комками ваты, то ли клочьями пуха, то ли необычными белыми цветами… Казалось, что здесь только что выпал и еще не успел растаять снег. Впрочем, после того как мы видели наледь, я уже ничему не удивлялся.
– Что это?
– Пушица[12], – сказал Юкагирыч.
– Красиво, как будто снег выпал….
– Так и было задумано.
– Что значит «задумано»? – не понял я. – Кем задумано?
– А кем все это задумано? – спросил в свою очередь ворон, обводя крылом горизонт. – Сопки, реки, тайга, тундра…
Как появилась пушица?
Все на земле создал повелитель неба Пон-Шукун. Но создал не сразу.
Сначала появились тайга и тундра, затем реки, ручьи и озера, деревья и мхи, звери и птицы… Позже всех появились люди.
Первые люди мало чем отличались от нынешних. Разве тем, что они еще не изобрели ружья и автомобили. Опыта у древних людей совсем не было, а память была короткой, как заячий хвост.
Тысячи лет назад все на земле происходило так же, как и сегодня: после зимы наступала весна, за весной приходило лето, за летом – осень, а за осенью – новая зима. Зимы на Колыме были такие же долгие и суровые, что и теперь. И как только пригревало весеннее солнышко и в проталинах появлялась первая травка, люди от радости начинали скакать, кувыркаться через голову, устраивали танцы и пели песни… И напрочь забывали, что не за горами новая зима.
А когда ударяли первые морозы, спохватывались:
– Ай! Как же мы забыли? Ой! Что же нам делать? Зимние яранги не готовы, дров не нарубили, пищей не запаслись! Великий Пон-Шукун, помоги! Спаси! Накорми! Обогрей!
– Вот болваны! – ругался Пон-шукун, слушая жалобные вопли. – Сколько лет живут на земле, а ума не накопили! Или мне так их вечно и кормить?
– Прости, повелитель неба, – плакали люди. – В следующий раз мы будем умнее!
Но как только кончалась зима, все повторялось сначала.
Однажды ранней весной сидел Пон-Шукун на краешке неба и смотрел на землю:
Гуси, прилетевшие гнездоваться на север, сбрасывали старое оперение.
Зайцы линяли, оставляя на кустах клочки белого пуха.
Олени тоже меняли себя старую шерсть на новую.
– Звери и те умнее людей, однако, – думал создатель, – глупые куропатки и те догадливей. Слишком быстро человек забывает о неприятностях. Это, наверное, потому что нет у него ни пуха, ни пера, ни шерсти, ни подшерстка. Но если ему дать шерсть и пух, то это будет уже не человек, а медведь, однако!
Долго думал Небесный Повелитель и, наконец, надумал. Собрал он перья полярного гуся и пух зайца-беляка, выдернул клок шерсти у любимого белого оленя, свалял их вместе, смешал с семенами болотных растений и дунул…
Разлетелись семена по ветру. Рассеялись по земле. И выросла на Колыме пушица.
Белая, словно хлопья снега, и летом напоминает она о зиме.
Но не только для этого нужна пушица. Зимой олени вырывают ее из-под снега. Кормятся пушицей и лоси, и лемминги, и некоторые птицы. А люди набивают ею подушки. Раньше пушицу использовали даже для изготовления тканей и бумаги. На которой некоторые пишут свои сказки, однако.
– Надо же, не знал, – сказал я.
– Не знал или забыл? – усмехнулся ворон. – Память у людей, как была короткой, так и осталась.
Я не стал спорить – вышел из машины и сорвал несколько белых пуховых головок. На память.
11
Я с детства любил карты. Названия городов, рек и озер дразнили воображение. В бардачке «Ниссана» нашелся дорожный атлас. И я с интересом читал местные названия. Внимание сразу привлекло Озеро Джека Лондона. Неужели Джек Лондон был и на Колыме? А с другой стороны, что тут удивительного? От Аляски до Чукотки на лодке можно добраться. А Чукотка с Колымой граничит…
– А Джек Лондон здесь бывал? – спросил я у Юкагирыча.
– Это кто?
– Писатель американский.
– Может, и бывал, – уклончиво сказал ворон. – Много тут кого бывало. И певцы, и художники, и писатели. Вот ты, например…
А еще мне понравилось название «Озеро танцующих хариусов»[13]. Я пару раз видел, как на закате хариусы выпрыгивают из воды и сверкают на солнце, словно небольшие радуги. Я спросил у Юкагирыча, далеко ли до этого озера?
– Дня два лету, – прикинул ворон. – А если на машине, то может и неделю добираться будем…
– Жаль, – сказал я. – Наверное, там красиво.
– А знаешь, почему озеро так назвали?
Озеро танцующих хариусов
Раньше озеро так не называлось. И вообще, никак не называлось. Озеро и озеро. Мало ли их на Колыме. Но хариусов в озере было действительно много, тысяча дюжин и еще один. И когда по весне трещал лед, говорили, что это хариусы снизу стучат головами, оттого и треск стоит.
Однажды, когда лед уже сошел, прибежала к озеру Лиса-шаманка и ударила в бубен:
Весна пришла!
Весна пришла!
Выходите танцевать –
Весну встречать!
Лиса кружилась на берегу, била в бубен и громко пела. Но хариус – рыба осторожная. Приплыли молодые хариусы к большому камню, под которым сидел Отец-хариус: мол, так и так, Лиса-шаманка пришла, на праздник весны приглашает – красиво поет, танцевать зовет.
– Ну что же, дети мои, – сказал Отец-хариус. – Раз весна пришла, почему бы нам и не сплясать?
И вся тысяча дюжин хариусов и еще один выскочили из воды: хвостами бьют, плавниками машут, над водой пляшут. И такая красота разлилась над озером – сам Небесный повелитель залюбовался. Полярное сияние только зимой бывает – и то на небе, а не на земле…
А Лиса-шаманка стояла на берегу и облизывалась: плавать-то она не умела. Плясали хариусы до самой темноты.
– Ну, что шаманка? Хорошо мы плясали? Хорошо весну встретили?
– Ох, х-хорошо, отец Х-хариус! – отвечает Лиса, а сама стучит зубами. То ли от голода, то ли от холода. Забрызгали рыбы и ее и бубен.
– Еще к нам приходи, пошамань, – смеется отец Хариус. – Нам плясать понравилось!
– Приду, – ответила лиса. А про себя подумала: «Ладно, припомню я вам праздничек!»
Настала зима. Как только лед на озерах встал, снова пришла Лиса к озеру с бубном и пешней. Пешней[14] сделала прорубь. А затем ударила в бубен и запела:
Зима пришла!
Зима пришла!
Выходите танцевать –
Зиму-зимушку встречать!
Выскочили хариусы из проруби и давай плясать: хвостами бьют, плавниками машут, на льду пляшут… Ох, зрелище красивое!
Только лиса долго не стала любоваться. А давай хариусов пешней лупить… Хариусы-то домой хотят, да под ними не вода, а лед. Мало кому удалось мимо лисы проскочить, да в прорубь нырнуть. Сам Отец-Хариус едва спасся.
Столько рыбы набила Лиса, что ей почти до самой весны хватило. Да еще подруг угощала и хвастала:
– Хорошо быть шаманкой! Пару раз ударишь в бубен, а тебя за это полгода кормят!
А Хариусы с той поры зимой не танцуют. Только летом, и то не все сразу.
– Красивая история, – сказал я. – В русских сказках тоже хитрее лисы зверя нет.
– Зверя нет, – хмыкнул Юкагирыч. – А птица умнее есть.
– Какая?
– А то ты не догадываешься? – ворон лукаво скосил глаз. – И хитрее, и умнее, и дальновиднее. Пока лиса хариусов со льда забирала да в снег закапывала, ворон-то сверху все видел – и куда таскала, и где закапывала. Поэтому лисе ПОЧТИ до весны хватило. Чтобы быть сытым, необязательно в бубен бить! – подвел он итог.
– А ты слышал басню про ворону и лисицу? – спросил я.
– Не путай ворону и ворона, – сердито каркнул Юкагирыч.
«Кажется, он на меня обиделся», – подумал я. Но ничего подобного.
– А ты сыр в Палатке случайно не купил? – прищурился ворон.
12
Я спросил у Юкагирыча, существуют ли на Колыме сказки про воронов.
– Сколько хочешь. И у юкагиров, и у эвенов, и у чукчей, и у остальных северных народов. Некоторые до сих пор уверены, что Ворон создал землю и первых людей. Это, конечно, не так. Но мой пра-пра-прадед на небе был. Потому что был первым почтальоном.
– Ворон-почтальон? – улыбнулся я.
– Тогда ведь мобильников не было, – заметил Юкагирыч. – А без связи, сам понимаешь, наверху нельзя. И не ухмыляйся. Слушай лучше…
Первый почтальон
Когда небесный владыка Пон-Шукун создал землю, ему потребовался почтальон, посыльный, гонец – как ни назови, – чтобы посылать вести на землю и обратно. В те давние времена все были неграмотные – ни писать, ни читать не умели. Поэтому посыльный должен был передавать устные распоряжения Небесного повелителя.
Стал Пон-Шукун думать, кого сделать первым почтальоном:
«Глухарь – глухой, – размышлял он. – У Куропатки голос тихий, и летает она плохо – до неба не доберется… Гагара хорошо летает, но птица глупая… Сова – умная птица, и летает хорошо. Но днем спит…»
Думал-думал Повелитель неба и выбрал Ворона: Ворон и летал хорошо, и голос у него был громкий, и внешность видная – зимой, в пургу, всякий его заметит. А уж насчет сообразительности – и говорить нечего!
Так Ворон поселился на небе, где стояла яранга Пон-Шукуна и паслись его олени. И стал Небесный повелитель посылать ворона с посланиями на землю:
– Передай Матери-Щуке, что ей пора идти на нерест!
– Сообщи людям, чтобы начинали делать запасы. По моему прогнозу, зима в этом году будет ранней и суровой…
Вы думаете, наверное, хорошо жить на небе, рядом с Небесным владыкой и быть у него на посылках? Ворон тоже поначалу так думал. Однако, ничего подобного. Только прилетит он с земли, не успеет дух перевести, как нужно снова лететь вниз:
– Отправляйся в тундру, найди Великого Лемминга и передай ему…
А тундра на тысячу километров тянется и вся двухметровой толщей снега укрыта – пойди-найди в ней Великого Лемминга, который размером не больше оленьего копыта!
Только вернется Ворон на небо, даже перекусить не успеет, а его опять посылают:
– Срочно сообщи всем эвенам, что завтра в Омсукчане общее собрание оленеводов. И чтобы никто не опаздывал. Я лично буду!
Вскоре понял Ворон, что еще немного, и он от непрерывной работы и голода ноги протянет: ни на охоту, ни на личную жизнь времени совсем не оставалось.
Ворон был умной птицей и стал размышлять, как ему от своей службы избавиться…
Вскоре Пон-Шукуну снизу стали поступать жалобы:
– О, Владыка Небес, твой почтальон занимается разбоем!
– Вчера он съел Быструю Нерку и трех ее сестер!
– А у нас заклевал и сожрал Отца-Песца…
Вызвал Пон-Шукун на небо Ворона и говорит:
– Ты чем в рабочее время занимаешься? Почему не выполняешь мои поручения? Я тебя послал к Отцу-Песцу, а ты его сожрал, однако.
– Я твое поручение выполнил, однако, – отвечает Ворон. – Все передал, как ты велел. А уж потом съел.
– А Нерка?
– И Нерку съел. Потому что голодный был. Но вначале твой приказ исполнил.
– Тебе не нравится, как на небе кормят?! – рассердился Пон-Шукун. – Возвращайся на землю и больше мне на глаза не показывайся!
А Ворону только того и надо было:
– Как прикажешь, Небесный Повелитель!
Вернулся Ворон на землю. Вскоре построил гнездо, завел семью, летал на охоту и рыбалку и был чрезвычайно доволен своей жизнью. А когда его спрашивали, не жалеет ли он, что не остался на небе, отвечал:
– Чем дальше от начальства, тем лучше!
– Это северная мудрость, – сказал Юкагирыч. – Начальство-то любит, где потеплее. А тут север, холод… Народ у нас говорит: «Дальше Колымы не сошлют!» Свободные люди здесь живут. И свободные птицы…
– А это тебе, случайно, не от прадеда досталась? – кивнул я на планшет. – Уж больно почтовую сумку напоминает…
– Нет, знакомый летчик подарил, – приосанился Юкагирыч. – А вороны с тех пор на небо не летали. Потом, говорят, Небесный Владыка сделал почтальонами голубей. Летают они быстро, но птицы не слишком сообразительные, а главное, к нашему климату не приспособленные. Не прижились на севере – только лапы себе поотморозили. А после связь с небом совсем разладилась. Одни громы и молнии Пон-Шукун посылает с неба. А что сообщить хочет или кому угрожает – каждый, как хочешь, так и понимай!
13
Я собрался разжечь костер и снял с березы кусок бересты.
– По-юкагирски береста называется «тос». Иногда ее еще называют «кожей дерева». На ней древние юкагиры писали первые письма, которые тоже назывались – тос… – ворон вдруг замолчал, замер, словно прислушиваясь к чему-то, затем поднял крыло:
– Костер не разводи. Дождь будет…
– С чего ты взял? – спросил я. Небо было ясным. И вообще, все эти дни нас сопровождала солнечная погода.
– Гром слышал. Далеко. На западе. Оттуда ветер дует…
Я прислушался. Но ничего, кроме жужжания мошки не услышал.
– Уши надо брить, – сказал Юкагирыч. – Вы, люди, зачем-то усы и бороды стрижете. А кому они мешают? Брейте уши, или вымрете, как мамонты. Знаешь, отчего вымерли мамонты?
– Кто говорит, что из-за потепления, другие – из-за похолодания, а кто-то – что в этом первобытные охотники виноваты.
Юкагирыч покачал головой:
– Потепления и похолодания случалось на земле множество раз. И что человек с палкой – против горы? Мамонтов погубили самоуверенность, глупость и небритые уши…
Отчего вымерли мамонты?
Мамонты появились на земле намного раньше людей. Это были настоящие великаны – высотой с небольшую сопку: их могучие бивни могли выдернуть столетнюю лиственницу, как морковку из грядки, а когда они трубили, с деревьев осыпалась листва. Но самой большой и сильной была Большая Волосатая, которую все называли Большой Мамой. Потому что она родила остальных мамонтов. Все мамонты на земле были ее детьми, внуками и правнуками.
Так вот Большая мама была высотой в две сопки. Там, где она проходила, тундра расступалась и образовывались маленькие озерца, а большая мохнатая голова ее задевала облака. Она видела на сто километров вокруг и слышала, как Пон-Шукун на небе запрягает своих оленей. Говорят, Небесный повелитель и сообщил ей три главные заповеди для всех мамонтов:
– Плодитесь и размножайтесь!
– Держитесь своего племени!
– Брейте уши!
А первая мамонтиха передала эти заповеди детям, чтобы они передали своим детям, а те – своим…
Не зря ее назвали Большой Волосатой: могучее тело было покрыто густой рыжей шерстью, за исключением огромных бивней и маленьких ушек, которые внимательно прислушивались ко всему, что происходит вокруг.
Большая Мама следила, чтобы никто из ее детей и внуков не попал в беду: не провалился в полынью или попал под метеорит. Так называли большие горячие камни, которые иногда вылетали из очага Пон-Шукуна и падали с неба на землю…
Никто не вечен… Но, говорят, Большая Волосатая не умерла, а просто ушла в землю, и теперь обитает в ледяной пещере, где собираются души всех покинувших наш мир мамонтов.
С тех пор прошла не одна тысяча лет, сменилось множество поколений. Мамонты были уже не такими огромными, как вначале, и все же оставались самыми большими и могучими существами на земле. И так же были покрыты густой рыжей, как ржавая проволока, шерстью. Но все-таки кое-что изменилось…
Нет, потомки не забыли заповедей, но начали в них сомневаться:
– Плодиться и размножаться? Это по крайней мере понятно. Хотя и необязательно, – говорили молодые мамонты.
– Держаться своего племени? Для чего? У нас нет врагов. И толкаться в одном большом стаде нет смысла. Места на земле – до горизонта…
– А зачем брить уши – вообще, непонятно! Спроси любого папонта, он ничего толком объяснить не может.
– Может, когда-то было жарко?..
– Но теперь у нас ледниковый период. Еще уши отморозим!
– Да и мода сейчас другая.
– Я слышала, что слоны вообще лысые ходят… Ха-ха-ха!
Вскоре потомки Большой Волосатой разбрелись по белу свету. Кто-то ушел по зимнику[15] на острова в Северном океане, другие по ледяному мосту перебрались в Америку. Там, говорили, раздолье и кормовая база лучше…
И все-таки они вымерли. Во время Великого потепления одни утонули в болотах, другие провалились под лед, третьи ослабели от голода, и их добили охотники – жалкие дикие люди с палками.
Забыли мамонты заповеди Большой Мамы и не услышали предупреждения Владыки неба о том, что начнется таяние снегов, и всем надо уходить на юг. А не услышали – потому что уши у них шерстью заросли.
Оттого и вымерли мамонты, что не брили уши!
– Не брили уши. И не слушали Маму, – закончил рассказ Юкагирыч. – А теперь быстро в машину!..
Неожиданно небо потемнело, надулось – хлынул ливень. Мы забрались в «Ниссан» и сидели там, пережидая дождь.
– Люди тоже уверены, что они самые могучие, самые умные и великие, – усмехнулся Ворон. – И забыли третью заповедь – перестали прислушиваться к природе.
– А ты видел мамонтов? – спросил я.
– Сто раз. У нас на Колыме их нередко находят во время весенних паводков, или в вечной мерзлоте, когда роют котлованы. Мясо тут же растаскивают звери и расклевывают птицы. А людей, как собак, больше интересуют кости. Бивни и кости… Между прочим, рядом с захоронениями мамонтов ваши археологи откапывают кремниевые скребки, острые как бритва. Как ты думаешь, почему?
– Ими мамонты брили уши?
– Вот и я так думаю, – сказал Юкагирыч.
14
Юкагирыч курил. Я с удивлением уставился на него, когда на одной из стоянок ворон извлек из летной сумки расшитый бисером мешочек и маленькую трубку. Из кисета он клювом достал щепотку табака, набил ею трубку и, вынув из костра тлеющую веточку, раскурил. Все это он проделал необыкновенно ловко.
– Что смотришь? Хочешь табачку?
– Нет, спасибо. Я не курю. И вообще, курить вредно.
– Машины дымят. Заводы дымят. Шахты дымят. Это – полезно! А выкурить маленькую трубочку старому ворону вредно? – Юкагирыч так расхохотался, что даже закашлялся. – Плохой табак, – сказал он. – Если прилетишь еще, привези мне пачку хорошего табака. Правда, табака, какой Великий белый шаман курил, сейчас не найдешь…
– Какой великий шаман? – удивился я. Юкагирыч с подозрением на меня покосился:
– Ты не слышал о Великом земном шамане?
– Я вообще ничего не знаю о шаманах. Знаю только, что они пляшут и бьют в бубны…
– Значит, ты точно ничего не знаешь о них. Ну так слушай…
Кто такие шаманы?
Раньше никаких шаманов не было. Был Владыка неба и те, кто жили на земле. И вначале все говорили на одном языке: люди, и звери, и птицы. Это был священный язык, на котором разговаривал сам Небесный повелитель Пон-Шукун. Это он, населив землю, велел открыть всем рты и вложил в них языки, это он откупорил всем уши и вытащил из них серу.
Но вскоре он понял, что совершил ошибку. Получив язык и научившись говорить, все сразу стали донимать небесного повелителя просьбами:
– Дай нам это!
– Дай нам то…
– Помоги нам!
– Нет, сначала нам!
В общем, дергали его, как внуки деда за бороду.
Поначалу, когда людей, и зверей, и птиц было мало, Владыка Неба еще как-то справлялся. А потом просьбы и мольбы посыпались как град, но в обратную сторону – снизу вверх.
Только соберется Владыка неба попить чайку в своей яранге, как снизу доносятся просьбы.
Только надумает выкурить трубочку – снова зовут.
Только ляжет на теплой шкуре вздремнуть после обеда – опять вопли…
Ни днем, ни ночью нет покоя – хоть вставляй в уши затычки!
Задумался Пон-Шукун: «Что делать? Ну не вырывать же всем языки!»
Долго он думал и, наконец, принял решение.
Взял Пон-Шукун большой небесный бубен, ударил в него – и все живущие на земле забыли священный язык.
Ударил в другой раз – и все заговорили на разных языках: люди, звери, птицы, рыбы.
С того времени и не помнит никто священный язык, а обычный, земной до неба не долетает. Только младенцы понимают, пока говорить не научатся. Но некоторым удается сохранить эту детскую способность. Вот они-то и становятся шаманами. Их слышит Пон-Шукун. А остальные болтают просто так, как мы с тобой…
Юкагирыч задумался. Трубка его давно погасла.
– А кто такой Великий Белый Шаман? – спросил я.
– У всех свои шаманы: у воронов, тюленей, медведей, лис, людей. У каждого человеческого племени свой шаман есть или был. Одни живут в тайге, другие – в тундре, но самый великий шаман жил в Кремле. Кремль – это такая высокая башня, которая…
– Знаю, Кремль я видел.
– Кремль видел, а про Великого шамана не знаешь? – ворон еще раз с подозрением посмотрел на меня. – Великий белый шаман не бил в бубен и не плясал. Но все вокруг били в бубны и плясали. А он сидел высоко над землей и покуривал свою трубку. Стоило ему взмахнуть одной рукой – все смеялись, пели и танцевали. Взмахивал другой – все плакали, стонали и хотели умереть. Он мог сделать счастливым или несчастным всякого живущего на земле. Вот какая сила у него была! Имя его эскимосы вырезали на моржовой кости, а эвены и юкагиры на оленьих рогах. Ни стрела, ни пуля, ни сабля его не брали. Его считали бессмертным. И все-таки он умер. Ты спросишь, как? Говорят, что ему в трубку подсыпали отравленного табаку… Да, были великие шаманы, – вздохнул Юкагирыч, убирая трубку в планшет. – А нынче мелкие пошли. Слышал я, что в Кремле теперь не курят…
– Не курят, – подтвердил я.
15
После долгого сидения в машине захотелось размять ноги. И мы съехали с трассы. Перед нами лежала живописная долина. Среди зелени я разглядел остатки каменных стен и полуразрушенные деревянные строения.
– Что здесь было? – спросил я у Юкагирыча.
– Это – Бутугычаг. На языке коренных жителей – «Страшное место». Но некоторые зовут его «Долина смерти» или «Чертова долина».
– Почему? – заинтересовался я.
– Потому что здесь обитало много духов нижнего мира. Даже ручьи называются Черт, Шайтан, Вельзевул…
Чертей я не очень боялся и решил спуститься – посмотреть. Мне всегда нравились старинные развалины, будь то Колизей или Генуэзская крепость…
– Не советую, – сказал ворон. – Звери, и те сюда не слишком охотно заглядывают. Но если хочешь, иди. А я тебя здесь подожду…
– Суеверная ты птица, – улыбнулся я и стал спускаться. Но через полсотни метров чуть не порезал ногу колючей проволокой.
– Ладно, – сказал я, возвращаясь. – Расскажи мне про этих духов. Может быть, ты знаешь какие-нибудь волшебные слова или заклинания?
– Конечно, – кивнул Ворон. – Но их знает каждый человек…
Три волшебных слова, или Злые духи Бутугычага
Есть Верхний мир, где живет небесный повелитель Пон-Шукун, и Средний мир, где существуют люди, звери и птицы. И есть Нижний мир, в котором обитают злые духи. Так было с начала времен.
Медведь никогда не убьет медведя. Тот, кто сильнее, прогонит слабого – да, отнимет пищу – да. И ворон ворону глаз не выклюнет. И два оленя подерутся и разойдутся. И только человек способен убить другого. Но так было не всегда, и виноваты в этом злые подземные духи.
Раньше люди жили долго. Говорят, почти тысячу лет. Болели они редко. Может быть, потому что много работали, ели свежую пищу и не забывали воздавать благодарность своим небесным покровителям. Если они устраивали пир и жарили добытого на охоте оленя, то жертвенный дым уходил вверх к Небесному повелителю, сами люди ели мясо, собаки грызли кости. А нижним духам почти ничего не доставалось. Были они завистливы и задумали недоброе дело…
В то время жили на Колыме два брата. Старший и младший. Оба – охотники. И вот стали Нижние духи нашептывать Старшему:
– Посмотри на брата своего. Он и зверя больше добывает, и чум у него богаче, и жена красивее, и детей больше. А ведь он младший! Разве это справедливо?
И днем и ночью нашептывали они старшему брату такие слова. Жужжали, как комары и мухи. Словно мошка впивались в уши:
– Раззззве это справедливо? Раззззве это справедливо?..
И однажды на охоте убил старший брат младшего и в землю закопал. Обрадовались нижние духи: устроили пир, плясали вокруг убитого и веселились. Потому что совершили простое открытие:
– Зависть великая сила. Пока люди будут завидовать друг другу, у нас будет достаточно пищи!
А старший брат забрал оленей младшего, и чум, и красавицу-жену его себе взял:
– Будут у меня два чума и две жены!..
А детей младшего брата прогнал:
– Зачем мне чужие дети? У меня и свои есть. А чужого мне не надо!
Дети младшего брата выросли. И стали духи им нашептывать:
– Отомстите за отца! Дядя ваш живет в богатом чуме, а вы – в землянке, он ест ваших оленей, а вы живете впроголодь. Разве это справедливо?
И убили дети своего дядю. Снова пролилась человеческая кровь. И снова возрадовались духи. Устроили пир и пели песню:
Есть три волшебных слова:
Злоба, зависть, месть.
Уэей!
Прошепчешь их – и снова
Ты будешь пить и есть!
Уэей!
С тех пор и пошло, что люди стали убивать друг друга. Бедные из зависти убивали богатых и удачливых. Но и богатые были тоже не ангелы. Всегда есть кто-то богаче, удачливее, красивее, талантливее. И до сих пор подземные духи шепчут людям на ухо эти древние слова. Потому и происходят на земле войны.
– А причем здесь Бутугычаг? – спросил я.
– Здесь, по преданию, и убил старший брат младшего, – сказал Юкагирыч. – На этом месте пировали духи нижнего мира. Поэтому и назвали его в древности – Бутугычаг, плохое место.
А те, кто пришли позже, не знали об этом. Устроили рудники и поселки. Вот обрадовались злые духи, когда люди сами стали спускаться в шахты и подземелья. И попадали к ним в лапы. Мало кому из тех, кто работал под землей, удалось уцелеть. Столько людей не умерло на всей Колыме, сколько душ забрали на Бутугычаге[16]. Теперь здесь рудники не работают. Поселения заброшены. А духи, говорят, перебрались в другие места. Голод ведь не тетка.
Мне почему-то расхотелось совершать прогулку. И мы вернулись к машине.
– А ты кому-нибудь завидуешь? – спросил я Юкагирыча.
– Тебе. Ты писать умеешь… А я пробовал – как курица лапой.
16
Я хотел спуститься к ручью, наполнить флягу свежей водой. Но добраться до воды оказалось непросто. «Места здесь совсем необитаемые, – подумал я, пробираясь через заросли стланика, а затем ольшаника. – Может, и нога человека не ступала!». Наконец я увидел чуть заметную тропку…
Юкагирыч поджидал меня на камне.
– Интересно, откуда здесь тропа, – спросил я. – Геологи или туристы?
– Скорее, медведи. Если увидишь тропку вдоль реки, почти наверняка это медвежья тропа. И стланик – их излюбленное место… – заметив, что я стал озираться, ворон успокоил. – Не волнуйся. Если увижу мишку, дам знать. А это, похоже, когда-то золотоискатели протоптали…
– Золотоискатели?! – наполняя флягу, я невольно начал разглядывать дно ручья. Колыма – золотой край. И у меня была тайная мысль – найти золотой слиток. Я понимал, что это маловероятно, но вдруг…
– А может, и те и другие, – продолжал ворон. – Люди и медведи часто одними тропами ходят и одними и теми же делами занимаются. Когда рыба идет на нерест, ловят рядом. Или ягоду собирают. Или золото в одном ручье моют…
Я засмеялся. У Юкагирыча была такая манера говорить, что не всегда понятно было, говорит он серьезно или шутит.
– Не веришь? Хочешь, историю расскажу…
Как медведь золото мыл
Как-то, после зимней спячки, медведь вылез из берлоги, спустился к ручью и замер. Внизу стоял мужик со странным деревянным корытом и что-то взбалтывал в нем. Медведь понаблюдал-понаблюдал за человеком и одолело его любопытство:
– Никак не пойму, чем ты занимаешься? Не то белье стираешь, не то рыбу ловишь…
– Рыба еще не пошла, – ответил мужик.
– А что же ты делаешь?
– Золото мою.
– Золото? А что это такое?
Мужик достал из-за пазухи маленький мешочек из оленьей кожи и высыпал на ладонь золотой песок:
– Вот. Это золото.
Медведь понюхал. Песок ничем не пах.
– Ну и зачем оно тебе нужно?
– Золото можно обменять на что хочешь. За это золото я могу купить ружье, или лодку, или соболью шубу… Или целую бочку меда!
– Целую бочку меда? За такую горстку? Врешь!
– Вот тебе крест, – сказал мужик и ссыпал песок обратно в мешочек.
– Почему же тогда все не моют золото, раз оно такое ценное? – удивился медведь.
– Потому что опасно. Его могут отнять. За золото даже убить могут. А мороки с ним много: найти, потом намыть, потом просушить, – мужик вздохнул. – Здесь золота мало, я полмешочка неделю мыл. Пойду ниже по ручью, может, там получше будет…
Мужик взял свое корыто и ушел. А медведь подумал:
«Глупый мужик! Глупый и ленивый. За неделю всего горстку песка намыл. А глупый, потому что в этом месте сплошная галька и камни. Вот выше по течению – там дно песчаное…»
Мужик ушел вниз, а медведь взял холщовый мешок и отправился наверх. В укромном месте он выбросил на берег целую кучу золотистого песка. Затем высушил его на весеннем солнышке, доверху набил мешок и понес в ближайший город. Путь был неблизкий. И мешок тяжеленный. Медведь тащил его через три сопки и три долины, через три ручья и три болота. Тащил и размышлял: «Лодка мне не нужна, и соболья шуба тоже, у меня своя неплохая. А вот ружье куплю – охотников пугать. И целую бочку меда… Нет, лучше три!» После зимней спячки хозяин тайги сильно отощал и есть хотел так, что живот сводило.
– А еще лошадь куплю, – сопел медведь, забираясь на последнюю сопку. – Не на себе же все тащить. Пусть лошадь бочки везет!»
Наконец, он добрался до города, пришел в лавку богатого купца и бухнул мешок на прилавок:
– Дай мне три бочки меда, ружье с патронами и лошадь с телегой…
– Что это? – спросил купец.
– Золото.
Купец развязал мешок:
– Какое же это золото? Это не золото…
– Как не золото? Меня не обманешь, – рассердился медведь. – Гони мед, и лошадь, и ружье, а не то я тебе всю лавку разломаю!
Купец был неробкого десятка. Да робкие на Колыме и не выживали.
– Ружье, говоришь? – снял он со стены ружье да как бабахнет. Хорошо, что оно дробью было заряжено. Медведь, забыв и про мед, и про лошадь, бросился бежать.
Бежал он через три сопки и три долины, через три ручья и три болота. Бежал и думал: «Верно мужик говорил – за золото и убить могут. Опасное это дело. И тяжелое – в ледяной воде весь день стоять…»
Усталый, замерзший, голодный, добрался медведь до своей берлоги и решил больше золото не мыть. А пошел корешки копать.
– С тех пор медведь в город не ходил, – закончил Юкагирыч. – Правда, это давно было. Нынешние медведи снова стали к людям наведываться. Но все больше на помойках в отходах роются.
Я набрал воды и стал подниматься наверх. Мне было жалко медведя. Я представил, как он с мешком песка пыхтел и сопел, топая по сопкам…
«А «сопка» не от слова ли «сопеть»? – задумался я. – А про золото надо бы Юкагирыча поподробнее расспросить…»
17
Мы приближались к Сусуману[17]. Вдоль дороги тянулись бесчисленные котлованы и отвалы, как будто землю рыли гигантские кроты. Где-то стояла ржавая техника. Пейзаж в этих местах был полумарсианский.
– Это все бывшие прииски, – объяснил Юкагирыч. – Но рано или поздно они зарастут. Видишь молодые лиственницы? Тайга быстро рубцует раны.
– А золота на Колыме много осталось? – спросил я.
– Еще лет сто будут клевать, а то и больше…
– Клевать?
– Когда пирог делят, крошки сыплются. Я имел в виду золотой пирог…
– Это я понял.
– А знаешь, почему говорят – Золотая Колыма?
– Потому что золота много?
– Прримитивное объяснение. Древние видели мир богаче и ярче…
Золотая колыма
Люди всегда ценили золото. И в наше время, и в прежние годы. Из него на Колыме делали украшения для женщин. А главное, на золото можно было выменять все, что хочешь: оленьи шкуры и рыболовные сети, железные топоры и наконечники для стрел, чай и табак, чаны для варки мяса и даже медные чайники.
– Однако, хорошая вещь золото, – говорили местные жители. – Но его мало, однако.
Однажды обратились они к Владыке Неба:
– Не можешь ли ты сделать так, чтобы у нас было много золота.
– Много это сколько? – спросил Небесный повелитель. – Сколько вы хотите?
– Хотим… хотим… – люди огляделись. В те годы, как и сейчас, все долины и горы были покрыты лиственницами. – Хотим, чтобы все деревья были золотыми. Чтобы все нам завидовали и говорили: Золотая Колыма!
– Хорошо, будь по-вашему, – Владыка Неба хлопнул в ладоши – и все леса стали золотыми.
Столько золота ни до того, ни после не бывало на земле! Обрадовались люди и стали делать все из золота: копья, багры, топоры, нарты для собачьих и оленьих упряжек. Даже шесты у самых бедных и грязных яранг были из чистого золота.
Но недолго они радовались. Золото – металл мягкий и тяжелый, почти в двадцать раз тяжелее воды. Олени надрывались, когда тянули золотые нарты. Золотые стрелы летели на десять шагов. А золотое копье не всякий и поднять мог. Топоры из золота ничего не рубили. А старые, железные, быстро притупились о золотые деревья…
– Ничего, – сказали люди. – Мы наше золото на железные гарпуны и топоры обменяем.
Но главная беда заключалась в том, что обычного дерева в лесах было не найти. Не на чем стало готовить пищу, нечем отапливать жилища. Не сухим же мхом – от него только дым, и глаза слезятся.
Приближалась зима. А зимы на Колыме суровые. Без тепла и горячей пищи долго не протянешь. Охотники возвращались в свои яранги без добычи. Зверь и птица стали уходить из золотой тайги в другие леса.
Снова обратились жители к Небесному Повелителю. Но ждать его пришлось долго. Сухой мох быстро прогорал, и жертвенный олень не хотел поджариваться.
– Владыка Неба, погибаем! Не надо нам золотых деревьев. Сделай так, чтобы все было по-прежнему, – взмолились люди.
– Будь по-вашему, – усмехнулся Пон-Шукун и хлопнул в ладоши. Золотая хвоя лиственниц осыпалась, а золотая кора отвалилась. Весной золотые обломки размыло паводками, унесло ручьями и реками.
А люди зажили по-прежнему. Но с тех самых пор каждую осень лиственницы становятся золотыми и с первыми морозами опадают.
– Красивая легенда, – сказал я.
– Может, легенда, а может, и нет. Жаль, что ты не останешься до осени. А то бы увидел настоящую золотую Колыму!
18
Юкагирыч хотел показать мне еще одну колымскую диковинку – вечную мерзлоту. Мы свернули с трассы и заехали на заброшенные прииски. Одна из стен котлована напоминала черное непрозрачное стекло. Я подошел и потрогал его рукой – лед. Почему он здесь сохранился, объяснения не было и у всезнающего ворона.
Мы собирались двинуться дальше. Но «Ниссан» не завелся. До ближайшего жилья было километров пятьдесят. Я поднял капот и задумался, что делать? Достать ключи и выкрутить свечи? Ну, хорошо, выкручу я их, даже прокалю, а если не заведется?.. Конечно, можно пойти на трассу и остановить какую-нибудь попутку. Но было неловко за свою беспомощность перед Юкагирычем…
– Что стоишь?
– В технике я разбираюсь плохо.
– Ну, я еще хуже, – утешил меня ворон. – Давай подождем. Может быть, она просто устала и хочет отдохнуть. Вот ты устаешь за рулем, так и с машинами случается…
Мы присели на валун. А Юкагирыч продолжал:
– Душа есть у всего. У человека, зверя, птицы, у дерева, камня, даже у железной техники. Однажды мне рассказали историю про драгу и шагающий экскаватор. Ты видел когда-нибудь драгу?
– Нет.
– Это такая большая плавающая машина, похожая на корабль. А шагающий экскаватор…
– Экскаваторы я видел.
– Но вряд ли ты видел шагающий экскаватор. Это настоящий гигант высотой с пятиэтажный дом, с огромной, как столетняя лиственница, стрелой.
Драга и шагающий экскаватор
Шагающий Экскаватор и Драга работали на одном прииске. Экскаватор, или ЭШ-15/90, как звали его люди, ковшом вычерпывал землю. А Драга плавала в заполненном водой котловане и мыла золото. Экскаватор влюбился в нее с первого взгляда. Да и как было не влюбиться! Белоснежная трехэтажная Драга была похожа на морской пароход. Но Шагающий Экскаватор никогда не видел пароходов, и называл ее своей белой уточкой и лебедушкой. Приветствуя возлюбленную, он высоко поднимал стрелу и махал ей стальным ковшом. А Драга в ответ покачивала бортами.
– Драга, ты самое драгоценное, что есть на свете!.. Ты дороже всего золота мира! Ты самая прекрасная водоплавающая машина!
– А ты, Эш, самый красивый и сильный экскаватор на земле! – отвечала ему Драга.
Во время работы разговаривать было особенно некогда. Только когда у людей случался обеденный перерыв, им удавалось перекинуться парой слов.
– Дорогой, ты очень сильно устаешь, – говорила Драга. – Я бы хотела, чтобы ты меньше работал.
– Ничего, – отвечал ей Экскаватор. – Тысяча-две кубометров грунта – это пустяки. Когда я вижу тебя, я готов выполнить хоть три нормы…
– Жаль, что у нас не может быть детей.
– А может, нам усыновить какой-нибудь маленький бульдозер?
– Тогда уж лучше птицу! Ты бы качал ее в своем ковше, а я бы научила ее плавать и крякать!
У всех свои мечты. И ЭШ-15/90 тоже мечтал:
– Тебе, уточка моя, тесно в этой грязной луже. Было бы здорово, если б случилось наводнение, и наш ручей превратился в большую реку. Ты выплыла бы по ней в море, и увидела дальние страны, и все бы увидели, как ты прекрасна, лебедушка.
– Такой большой, а глупый! Если случится наводнение, ты утонешь, – сердилась Драга. – Не нужно мне никаких дальних стран. Мне хорошо с тобой и в нашем котловане.
– Ну тогда я выкопаю для тебя настоящее море. Если потребуется, я буду копать хоть сто лет, хоть тысячу…
Наверное, так бы все и случилось. Ведь любовь безгранична и бесконечна… Но золото, рано или поздно, всегда заканчивается. Закончилось оно и здесь. И люди решили закрыть прииск и перебраться на новое месторождение.
– Ладно, – узнав об этом, сказал ЭШ. – Я выкопаю для тебе другое море, на новом месте.
Уже свернули работу золотодобытчики, уже уехала остальная техника – самосвалы, обычные бульдозеры и другая мелочь.
И вдруг Экскаватор и Драга услышали разговор. Люди говорили о том, что через несколько дней перевезут ЭШа на новое место, а Драгу оставят:
– И механизмы в ней поизносились. И краска пооблупилась от сырости. Дешевле будет оставить ее здесь…
Бросить?! И это после того, как она добыла для них столько золота!!! Да, Драга выглядела уже не белой лебедушкой, а серой с рыжеватыми пятнами уточкой. Но все равно она была самой прекрасной водоплавающей машиной в мире!
– Я не брошу тебя! Я никуда не уйду отсюда! – заскрипел всеми шестернями ЭШ.
– Ничего не поделаешь, – вздохнула Драга. – Ты же знаешь людей: если они что-нибудь решат, то так оно и будет.
Влюбленным оставалось надеяться только на чудо.
Неизвестно, кому молятся экскаваторы, бульдозеры и самосвалы: Главным конструкторам? Великим создателям всех экскаваторов и драг? Или еще кому-то?.. Но в последнюю ночь Небесный повелитель послал им старого бурундука.
Старый бурундук жаждал мести: несколько раз экскаватор своим ковшом сносил его нору со всеми припасами. Увидев, что народу на приисках почти не осталось, бурундук забрался в кабину и перегрыз всю проводку. Когда наутро люди попробовали завести ЭШ-15/90, тот не завелся…
– Не такой уж этот экскаватор и новый. Боюсь, чинить дороже обойдется, – Главный инженер посовещался с начальством. И было решено оставить неисправную технику в покое.
Влюбленные ликовали. А весной сбылась еще одна их мечта: в ковше ЭШа свила гнездо пара уток. Вскоре появились и птенцы – они плавали рядом с Драгой и весело крякали…
Лет пять назад я был в тех местах. И видел их: Шагающий экскаватор и Драгу. Наверное, это самый большой памятник любви в мире!
Меня давно интересовал вопрос: откуда ворон берет свои сказки.
– Ты сказал, что эту историю тебе рассказали. А кто?
– Тот самый бурундук. Я ему предложил: расскажешь сказку – отпущу. Ну, конечно, рассказ у него был примитивный. И мне пришлось кое-что в нем раскррасить…
– И ты отпустил бурундука?
– Он был старый и не слишком аппетитный, – усмехнулся Юкагирыч. – Ты лучше попробуй завести машину…
– Пока и нам какой-нибудь бурундук проводку не перекусил, – кинул я.
«Ниссан» завелся с пол-оборота, и мы выехали на трассу.
19
Ворон предпочитал рассказывать истории вечером, когда останавливались на ночлег:
– Или ехать, или лететь, или сказки рассказывать… Не дело – делать несколько дел одновременно!
Мы уже неделю колесили по Колыме. Видели мертвые поселки и живые водопады, голубые озера в долинах и розовые останцы – каменные короны на макушках лысых гор.
– Ты еще не соскучился по дому? – спросил Юкагирыч.
– Немного, – сказал я.
– Немного – не считается, – заявил ворон. – Чувства должны быть сильными: тоска, радость, голод, любовь. Только сильные чувства могут поднять в небо!
– Это ты про кого?! – честно говоря, я немного разозлился. Потому что не раз сталкивался с мнением, что только в Сибири или на Севере живет настоящий народ, а мы – тепличные столичные фрукты. Вот и этот нахальный ворон туда же. – Ты думаешь, что птицы могут испытывать сильные чувства, а люди – нет?
– Я расскажу сказку, а ты уж решай…
Как люди стали птицами
Это теперь люди толкаются в городах, как волны у берега, или чайки возле рыбокомбината. А в прежние времена от чума до чума, от стойбища до стойбища, от человека до человека, были такие расстояния, что летишь не один день, пока живую душу встретишь. Это сейчас садишься в машину и через час-два приехал в гости к маме, а на самолете так, вообще, – вжик – и ты на другом краю света. А еще сто лет назад, собираясь в гости, люди готовились заранее. Запасались едой, одеждой, брали с собой даже походные чумы. На лодках или на оленях – дорога могла занять неделю, а то и больше. Виделись люди редко, тем радостней были встречи и горестней расставания.
Однажды приехала навестить родных старшая дочь, которая вышла замуж в другую семью. Конечно, и мать, и отец были рады дочери – они не виделись целый год. Но особенно обрадовался младший брат. Он помнил, как сестра нянчилась с ним, играла, песенки пела… И теперь не отходил от нее ни на шаг.
Целую неделю гостила дочь в семье. И вот пришла пора расставаться.
– Не уезжай сестренка, – заплакал мальчик. – Или возьми меня с собой. Я так скучаю без тебя!
– Не плачь, – шепнула сестра. – Я ведь не насовсем уезжаю. Через год мы снова увидимся…
Дочь и ее муж сели в лодку, оттолкнулись от берега и поплыли. А вся семья: и отец, и мать, и младший брат стояли на берегу и махали им вслед. И чем дальше уплывала лодка, тем сильнее махали. А младший брат взмахивал обеими руками, как машут крыльями птицы… Да так сильно, что вдруг поднялся над землей – и полетел!
Отец с матерью сначала замерли от удивления, а затем взмахнули сильнее – и тоже полетели.
– Оказывается мы можем летать, – удивились они.
Семья догнала лодку, покружила над ней и повернула обратно.
– Я к тебе буду каждую неделю прилетать! – крикнул сестре младший брат.
Это были первые люди, которые смогли подняться в воздух. Они передавали это умение из поколения в поколение. Кто-то летать боялся, кому-то это казалось бессмысленной тратой времени и сил. А некоторым так понравилось, что они решили стать птицами. Со временем они обросли перьями и сбросили одежду. Перестали строить жилье на земле и стали делать гнезда на деревьях. Так что люди и птицы родственники. Только очень дальние и давние. Потому что давно это было. И люди были сильнее. И грустили сильнее. И радовались тоже. Сильные были люди. Не то что нынешнее племя, – вздохнул Юкагирыч. – А может земля им силу давала. Волшебная земля Колыма.
– Получается, ты вроде как брат мне…
– Скаррее, дедушка, – засмеялся ворон. – Спать надо, однако.
Он засунул голову под крыло и мгновенно уснул. А мне не спалось. Я все думал о мальчике-птице. Я даже встал на камень и, как дурак, замахал руками. Но не удержал равновесия и свалился в воду. Сначала я засмеялся. А потом заплакал. Оттого, что оказался слабым. И чувства у меня были не такие сильные, как у того маленького мальчика.
20
Мы возвращались в Магадан другой дорогой. Оставалась одна ночевка. Я все посматривал по сторонам в надежде увидеть оленя. Евражку мне Юкагирыч показал, и бурундука – тоже, пару раз дорогу перебегала лиса, а похожие на мышей лемминги часто шмыгали по каменным россыпям…
– За дорогой следи! Что ты там все высматриваешь? – сердито сказал Юкагирыч, когда машина выскочила на обочину.
– Оленя хочется увидеть…
– В это время оленя здесь мало. Олень ушел на север.
– А они у вас дикие или домашние?
– Есть и такие, и такие. А раньше только дикие были…
– Расскажи мне про оленей, – попросил я, когда мы остановились на ночевку.
– Хорошо, – сказал ворон. – Сказок про оленей у нас много. Но мне нравится одна…
Как человек оленя обманул
Раньше домашних оленей на Колыме не было. Все олени были дикие и свободные, так же, как и другие звери. Они носились по тайге и тундре, быстрые словно ветер и легкие как пушица. Сам Повелитель неба – и тот, наверное, не сумел бы их догнать. Иногда охотникам удавалось подстрелить какого-нибудь оленя из лука, но не поймать и не приручить.
Вожаком оленей был большой белый олень: шкура белая как снег, без единого пятнышка. Рога у него были такие, что медведь боялся с ним связываться. Могучий вожак мог без отдыха бежать от одного океана до другого.
– Надо поймать его, – сказал хромой охотник. – Если сумеем приручить вожака, то все стадо будет наше.
– Как же ты его поймаешь? – посмеялись над ним другие. – Ты даже раненую перепелку догнать не можешь?
– Что-нибудь придумаю, – ответил тот. И что же он придумал?
Охотник сделал нарты и хорей. Нарты – это такие деревянные санки с кожаными ремнями-лямками, в которые и теперь запрягают оленей. А хорей – длинный деревянный шест[18].
Закончив приготовления, хромой охотник поднялся на сопку, сел на нарты, махнул длинной палкой, крикнул «Эгей!» и покатился с горы. Да с такой скоростью, что все звери ахнули:
– Ну и ну! Хромой, а мчится быстрее оленя, однако!
– Что это такое? – спросили звери.
– Волшебная вещь – нарты называется, – сказал хромой охотник. – Мне их сам владыка неба Пон-Шукун подарил. И еще палку волшебную. Хорей – называется. Ею взмахнешь, крикнешь «Эгей!» – и они сами едут. Только покрикивай на них…
Было начало зимы. Крепкий наст еще не встал. Даже олени проваливались в снегу. А легкие санки быстро катились с горки. Стояли звери и завидовали. Но особенно завидно было оленям, что хромой охотник быстрее них с крутой сопки съезжал.
– Дай прокатиться, – сказал Белый вожак.
– А что ты мне за это дашь? – спросил охотник.
– Новые рога…
К осени, после гона, рога у самцов всегда отваливаются.
– Ну хорошо, – кивнул охотник. – Садись в санки… Да не так. Видишь, как я сижу? В них нужно задом садиться.
Вожак развернулся, чтобы сесть в нарты. Но не тут-то было. Охотник накинул на него крепкую упряжь, ударил длинной палкой и крикнул:
– Эгей!..
Три дня и три ночи носился Белый вожак – с сопки до сопки, от одного океана до другого. Но крепкими оказались ремни из кожи морского зверя, прочными были санки из северной березы. И наконец, могучий вожак устал и сдался:
– Что ты хочешь, хромой охотник? Рога?..
– Нет, – ответил тот. – Я хочу, чтобы ты и твои олени жили с нами.
Покорился Белый вожак человеку. И заключили они договор на вечные времена.
С того дня заботятся люди об оленях при жизни: водят на лучшие пастбища, охраняют от волков, медведей и росомах. Но после смерти олени все отдают человеку: рога, шкуру, мясо, копыта.
Не все олени последовали за Белым вожаком. Некоторые ушли в тайгу и остались дикими. А те, что остались с людьми, возят их в нартах и на спине.
– А до стойбищ далеко? – спросил я.
– Далеко. И летом туда на машине не доберешься, только на многоглазой птице или стальной стрекозе, – ворон, конечно, знал слова «самолет» и «вертолет». Но время от времени изображал из себя незнакомого с цивилизацией туземца. – Вот зимой можно на снегоходе. В следующий раз, может быть, и слетаем…
– В следующий раз? – улыбнулся я. – Ты думаешь, я еще раз приеду?
– Все мы ходим по кругу. Куда олень – туда и люди. Куда люди – туда и собаки, а куда собаки – туда и волки. Все ходят по кругу, – задумчиво повторил Юкагирыч. – Только Небесный повелитель никуда не движется. Он сидит в самом центре неба в своей яранге. Курит трубку. Его конечно не видно, но центральный шест его яранги заметен отовсюду, потому что к нему прикреплена звезда…
– Полярная звезда, – догадался я.
21
Прискачи ко мне, олешек!
Ночью мне приснился сон. Будто я оказался в яранге. У очага сидела девочка лет двенадцати в праздничной, расшитой разноцветным мехом одежде с капюшоном. В черные косички были вплетены нитки бисера. Девочка подбрасывала в огонь сухие ветки и пела:
Прискачи ко мне, олешек,
Круторогий, завитой,
За серебряный орешек,
За орешек золотой.
Я тебе его на рожки,
Как бубенчик, повяжу
Или рядом на дорожке
Аккуратно положу.
Приподняв свое копытце,
Бойко топнешь ты ногой
И расколешь на корытца
Мой подарок дорогой.
А оттуда струйки света
Вдруг забрызжут, как вода.
Только ты не бойся – это
Вылупляется звезда.
Прискачи ко мне, олешек,
Круторогий, завитой,
За серебряный орешек,
За орешек золотой…[19]
Мелодия была простая и трогательная. Мне кажется, я даже ее запомнил. Но когда проснулся, музыка вспорхнула, как испуганная птица, и исчезла. Слышался только дальний звон бубенчиков…
Это звенел котелком Юкагирыч. Он уже разжег костер и раздувал крылом тлеющий сухой мох. Я рассказал ему свой сон.
– Это хорошо, – сказал ворон. – Колыма тебе уже снится. Если приедешь еще раз, отправимся на север, в тундру. Там увидишь и оленей, и настоящие яранги, и эвенов, и юкагиров, самых древних жителей этих мест.
– Скажи, а местные жители охотятся на воронов? – зачем-то спросил я.
– Нет, на Колыме на нас не охотятся. Потому что ворон – птица священная… А главное – несъедобная, – и Юкагирыч громко захохотал.
22
Прощание
Путешествие подходило к концу. Мы ехали в аэропорт. В голове у меня давно вертелся вопрос, который я никак не решался задать Юкагирычу. И все-таки я его задал:
– Скажи честно, зачем меня пригласил на Колыму?
– Ты плохой рыбак, если не понял этого, – ответил ворон. – Жизнь похожа на рыбалку. Все кого-нибудь ловят. Рыбу ловят на снасть. Я тебя поймал на рыбу. А на тебя еще кого-нибудь поймаю…
– Кого поймаешь? – не понял я.
– Ты напишешь сказки. Художник их нарисует, а издатель выпустит книгу. И если книга получится хорошей, другие тоже захотят приехать сюда, увидят эту красоту и своих друзей позовут, а те – своих. Но главное, – Юкагирыч прищурился, – главное – сказки не должны пропасть. Сказки, может быть, лучшее, что есть в этой жизни.
«Да поймал меня старый ворон, – подумал я. – Теперь хочешь не хочешь, а придется книгу писать…»
– Но если даже ничего не напишешь, – словно прочитав мои мысли, сказал Юкагирыч. – Мы ведь неплохо провели время, а?
В аэропорту я поставил «Ниссан» на прежнее место.
– Ключи можешь оставить в замке зажигания. Машины у нас не воруют.
– Надеюсь, если я еще прилечу, мы увидимся?
– Увидимся. Жив буду или нет. В любом случае, я завещал свое чучело краеведческому музею, – засмеялся ворон.
– Говорят, вы, вороны триста лет живете. Так что еще неизвестно, кто из нас раньше отправится к Небесному повелителю…
– Ладно, иди. На рейс опоздаешь. И не волнуйся. Считай, что я твой ангел-хранитель.
– Черный ангел? – улыбнулся я.
– Не совсем черный. Скорее, вороной, – сказал Юкагирыч и блеснул на солнце оперением. – Ну иди, однако! Не люблю долгих прощаний!
Самолет быстро набирал высоту. Я посмотрел в иллюминатор. Солнце уже поднялось высоко и висело у нас на хвосте. Внизу – над зелеными колымскими сопками, над серебряными прожилками рек и голубыми зеркальцами озер – плавно скользила большая черная тень нашего самолета.
А может быть, это была тень старого ворона.
Примечания
1
Сельдяной кит, или Финвал – близкий родственник Синего кита, достигает 27 метров в длину.
(обратно)
2
Яранга и чум – жилища северных народов, построенные из жердей и оленьих шкур. Но яранга – более сложная конструкция и отличается от чума, как дом с сенями от шалаша.
(обратно)
3
Мористее – дальше от берега.
(обратно)
4
Стланик – полукуст-полудерево с кедровыми шишками. В зарослях стланика любят отдыхать медведи, лакомясь шишками.
(обратно)
5
Драга – плавающая землеройная машина, с помощью которой добывают золото.
(обратно)
6
Евражка – небольшой зверек с длинным пушистым хвостом. Научное название: Берингийский или Арктический суслик.
(обратно)
7
Палатка – очень живописный поселок на Колымской трассе. Название не имеет отношения к туристической или продуктовой палатке, а происходит от эвенского «атка» – каменистый.
(обратно)
8
Ольшаник – кустарниковая ольха, заросли ольхи.
(обратно)
9
Пионер – в переводе с латыни означает «Первый», а Пионерка-Нерка – «Первая красная рыба», так как внутри, а иногда и снаружи, она – ярко-красного цвета.
(обратно)
10
Созвездие РЫБЫ – большое зодиакальное созвездие в Северном полушарии. Его делят на «Северную рыбу» и «Западную рыбу».
(обратно)
11
Кузов. Имеется в виду не кузов машины. Так на севере называют заплечную корзину, короб для грибов и ягод.
(обратно)
12
Пушица – многолетнее растение с белой пушистой головкой, отдаленно напоминающей одуванчик.
(обратно)
13
Озеро танцующих хариусов, как и Озеро Джека Лондона, находится в верховьях реки Колымы.
(обратно)
14
Пешня – небольшой лом для прорубания льда во время зимней рыбалки.
(обратно)
15
Зимник – дорога, проложенная по снегу или льду.
(обратно)
16
Бутугычаг – в 1930-1950-х гг. исправительно-трудовой лагерь, где заключенные работали на оловянном и урановом рудниках.
(обратно)
17
Сусуман – город, рядом с которым находятся прииски «Сусуманзолота» – старейшей на Колыме золотодобывающей компании.
(обратно)
18
Здесь «Хорей» – длинная палка, которой погоняют оленей и ездовых собак в упряжке. А не стихотворный размер, которым написано пушкинское: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…». Хотя и в том, и в другом есть стремительность.
(обратно)
19
«Прискачи ко мне, олешек…» – стихи Галины Дядиной. Написаны как раз четырехстопным хореем.
(обратно)




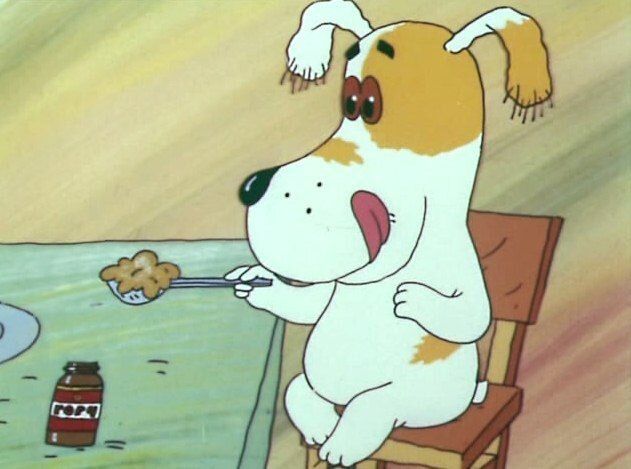
.jpg)
