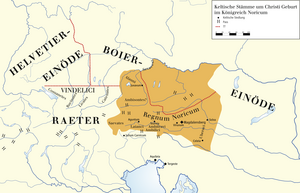Панкельтский флаг, разработанный бретонцем Робертом Бертелье в 1950 году. Он состоит из двух переплетенных трискелионов .
Панкельтизм ( ирландский : Pan-Cheilteachas , валлийский : Pan-Geltaidd , шотландский гэльский : Pan-Cheilteachas ), также известный как кельтизм или кельтский национализм, является политическим, социальным и культурным движением, выступающим за солидарность и сотрудничество между кельтскими народами (оба гэльские и Brythonic ветви) и современные кельты в Северо-Западной Европе . Некоторые панкельтские организации выступают за отделение кельтских народов от Соединенного Королевства и Франции и создание вместе их собственного отдельного федеративного государства, в то время как другие просто выступают за очень тесное сотрудничество между независимыми суверенными кельтскими народами в форме ирландского национализма , шотландского национализма , валлийского национализма. , Бретонский национализм , корнуоллский национализм и мэнский национализм .
Как и в случае с другими паннационалистическими движениями, такими как панславизм , пангерманизм , пантуранизм , пан-иранизм , пан-латинизм , панарабизм и другие, панкельтское движение выросло из романтического национализма и было специфическим для себя. Celtic Revival . Панкельтское движение было наиболее заметным в 19 и 20 веках (примерно с 1838 до 1939). Некоторые ранние пан-кельтские контакты прошла через Gorsedd и Eisteddfod , в то время как ежегодный Кельтский конгресс был начат в 1900 г. С этого времени Celtic лига стала видным лицом политической пан-кельтицизм. Инициативы, в основном ориентированные на культурное сотрудничество кельтов, а не на политику, такие как музыкальные, художественные и литературные фестивали, обычно называются межкельтскими .
Терминология
Существует некоторая полемика вокруг термина » кельты» . Одним из таких примеров был кельтский лиги «s Галицкая кризис . Это были дебаты о том, следует ли признавать испанский регион Галисию . Заявка была отклонена из-за отсутствия кельтского языка.
Некоторые австрийцы утверждают, что у них есть кельтское наследие, которое было романизировано под римским правлением, а затем германизировано после германских вторжений. В Австрии зародилась первая кельтская культура. После аннексии Австрии нацистской Германией в 1938 году в октябре 1940 года писатель ирландской прессы взял интервью у австрийского физика Эрвина Шредингера, который говорил о кельтском наследии австрийцев, сказав: «Я считаю, что между нами, австрийцами и кельтами, существует более глубокая связь. Имена мест в австрийских Альпах имеют кельтское происхождение ». Современные австрийцы гордятся своим кельтским наследием, а Австрия обладает одной из крупнейших коллекций кельтских артефактов в Европе.
Такие организации, как Кельтский Конгресс и Кельтская лига, используют определение, что «кельтская нация» — это нация с недавней историей традиционного кельтского языка.
История
Современное представление о кельтских народах
Джордж Бьюкенен был одним из первых современных историков, заметивших связь между кельтскими народами.
До Римской империи и возникновения христианства люди жили в Британии и Ирландии железного века, говоря на языках, от которых произошли современные гэльские языки (включая ирландский , шотландский гэльский и мэнский ) и бриттские языки (включая валлийский , бретонский и корнуоллский ). Эти люди, наряду с другими жителями континентальной Европы, которые когда-то говорили на ныне исчезнувших языках той же индоевропейской ветви (например, галлы , кельтиберы и галаты ), ретроактивно упоминались в коллективном смысле как кельты , особенно в широком смысле слова. Распространен способ с начала 18 века. Вариации термина «кельт», такие как « кельтой», использовались в древности греками и римлянами для обозначения некоторых групп этих людей, например , использование его Геродотом по отношению к галлам.
Современное использование слова «кельт» по отношению к этим культурам постепенно росло. Пионером в этой области был Джордж Бьюкенен , шотландский ученый XVI века, гуманист эпохи Возрождения и наставник короля Шотландии Якова IV . Бьюкенен из шотландской гэльско- говорящей семьи в своей книге « Rerum Scoticarum Historia» (1582) ознакомился с трудами Тацита, который обсуждал сходство между языком галлов и древних бриттов. Бьюкенен пришел к выводу, что если галлы были кельтами , как их описывают в римских источниках, то бритты тоже были кельтами . Он начал видеть закономерность в названиях мест и пришел к выводу, что бритты и ирландские гэлы когда-то говорили на одном кельтском языке, который позже расходился. Лишь более века спустя эти идеи получили широкую популяризацию; сначала бретонским ученым Полем-Ивом Пезроном в его « Antiquité de la Nation et de la langue celtes autrement appelez Gaulois» (1703 г.), а затем валлийским ученым Эдвардом Луидом в его « Британской археологии: отчет о языках, истории и обычаях народов мира». Первоначальные жители Великобритании (1707 г.).
К тому времени, когда возникло современное представление о кельтах как о народе, их состояние существенно уменьшилось, и их захватили германцы . Во-первых, кельтские бритты в субримской Британии были затоплены волной англосаксонских поселений с 5-го века и потеряли большую часть своей территории. Впоследствии их стали называть валлийцами и корнуоллами . Группа этих людей вообще покинула Британию и поселилась в континентальной Европе в Арморике , став бретонцами . На какое-то время гэлы фактически расширились, вытеснившись из Ирландии, чтобы завоевать Пиктленд в Британии, основав Альбу к 9 веку. Начиная с 11 века прибытие норманнов стало проблемой не только для англичан, но и для кельтов. Норманны вторглись в валлийские королевства (основание княжества Уэльс ), ирландские королевства (установление лорда Ирландии ) и взяли под свой контроль шотландскую монархию посредством смешанных браков. Этот прогресс часто делается в сочетании с католической церковью «s реформами григорианской , которая централизующая религией в Европе.
Зарождение Европы раннего Нового времени повлияло на кельтские народы таким образом, что они увидели, какую небольшую степень независимости они оставили в твердом подчинении формирующейся Британской империи, а в случае герцогства Бретань — Королевства Франции . Хотя и короли Англии ( Тюдоры ), и короли Шотландии ( Стюарты ) того времени заявляли о кельтском происхождении и использовали это в культурных мотивах Артура, чтобы заложить основу для британской монархии («британцы» были предложены елизаветинцем Джоном Ди ), обе династии продвигали централизованную политику англицизации . Ирландские гэлы потеряли свои последние королевства в пользу Ирландского королевства после бегства графов в 1607 году, в то время как Статуты Ионы попытались де-гэлицизировать горных шотландцев в 1609 году. Считает их естественным лидерским элементом, покровительствовавшим их культуре.
Под англоцентрическим британским правлением кельтскоязычные народы превратились в маргинализированных, в основном бедных людей, мелких фермеров и рыбаков, цепляющихся за побережье Северной Атлантики . После промышленной революции 18-го века многие люди были англицизированы и бежали в диаспору вокруг Британской империи как промышленный пролетариат. Дальнейшая де-гэлицизация имела место для ирландцев во время Великого голода и для горных шотландцев во время расчисток на горных территориях . Аналогично для бретонцев, после Французской революции , то якобинцы требовали большей централизации, против региональной идентичности и для галлизация , принятой в каталоге Франции в 1794 году Однако, Наполеон Бонапарт был очень привлекают романтический образ кельтов, который был основан частично на Жан-Жак Руссо «прославления s из благородного дикаря и популярность Джеймс Макферсон » s Ossianic сказок по всей Европе. Племянник Бонапарта, Наполеон III , позже установил памятник Верцингеториксу в честь кельтского галльского лидера. Действительно, во Франции фраза «nos ancêtres les Gaulois» (наши предки — галлы) использовалась романтическими националистами, как правило, в республиканской манере, для обозначения большинства людей, вопреки аристократии (которая считается франкской — Германского происхождения).
Зарождение панкельтизма как политической идеи
После угасания якобитизма как политической угрозы в Британии и Ирландии, с твердым установлением ганноверской Британии под либеральной, рационалистической философией Просвещения , в конце 18 века произошел откат романтизма, и «кельты» были реабилитированы в литературе, в движении, которое иногда называют «целтоманией». Наиболее видные отечественные представители начальных стадий этого кельтского Возрождения были Джеймс Макферсон , автор стихотворения Оссиана (1761) и Iolo Morganwg , основатель Gorsedd . Образ «кельтского мира» также вдохновлял английских и шотландских поэтов из низин, таких как Блейк , Вордсворт , Байрон , Шелли и Скотт . В частности, друиды вдохновляли посторонних, поскольку английские и французские антиквары, такие как Уильям Стукли , Джон Обри , Теофиль Корре де ла Тур д’Овернь и Жак Камбри , начали связывать древние мегалиты и дольмены с друидами.
В 1820-х годах начали развиваться ранние панкельтские контакты, в первую очередь между валлийцами и бретонцами, когда Томас Прайс и Жан-Франсуа Ле Гонидек вместе работали над переводом Нового Завета на бретонский язык. Эти двое мужчин были поборниками своих языков и оба имели большое влияние в своих странах. Именно в этом духе , что пан-кельтский Конгресс проходил на Cymreigyddion у Fenni ‘ годовой s Eisteddfod в Абергавення в 1838 году, где присутствовали бретонцы. Среди участников был Théodore Hersart де Ла Villemarqué , автор Макферсона-Morganwg влияние Barzaz Breiz , который импортирован Gorsedd идею в Бретани . В самом деле, бретонские националисты будут самыми горячими панкельтистами, выступающими в качестве связующего звена между различными частями; «запертые» в другом государстве (Франция), это позволило им черпать силы из родственных народов по ту сторону Ла-Манша, а также они разделяли сильную привязанность к католической вере с ирландцами.
По всей Европе современные кельтские исследования развивались как академическая дисциплина. Немцы проложили путь в поле с индоевропейским лингвиста Франца Боппа в 1838 году, а затем вверх Иоганн Каспар Цейс ‘ Grammatica Celtica (1853). Действительно, по мере того как власть Германии росла в соперничестве с Францией и Англией, кельтский вопрос представлял для них интерес, и они смогли почувствовать сдвиг в сторону кельтского национализма. Генрих Циммер , профессор кельтского языка в Университете Фридриха Вильгельма в Берлине (предшественник Куно Мейера ), говорил в 1899 году о мощной агитации на « кельтской окраине богатого пальто Соединенного Королевства» и предсказал, что панкельтизм станет политической силой. столь же важны для будущего европейской политики, как и более устоявшиеся движения пангерманизма и панславизма . Другие научные процедуры включали Эрнест Ренан «s La poésie де расы Celtiques (1854) и Мэтью Арнольд » s Изучение кельтской литературы (1867 г.). Внимание, оказанное Арнольдом, было обоюдоострым мечом; он хвалил кельтские поэтические и музыкальные достижения, но делал их женоподобными и предполагал, что они нуждаются в цементе трезвого, упорядоченного англосаксонского правления.
Среди некоторых европейских филологов возникла концепция, особенно сформулированная Карлом Вильгельмом Фридрихом Шлегелем , согласно которой «забота о национальном языке — это священное дело», или, проще говоря, «ни языка, ни нации». Это изречение было также принято националистами в кельтских странах, в частности Томасом Дэвисом из движения « Молодая Ирландия », который, вопреки более раннему католическому активизму «гражданских прав» Дэниела О’Коннелла , утверждал ирландский национализм там, где ирландский язык будет снова стать гегемоном. По его словам, «народ без собственного языка — это всего лишь половина нации». В менее явно политическом контексте возникли группы возрождения языка, такие как Общество сохранения ирландского языка , которое позже стало Гэльской лигой . В панкельтском контексте Шарль де Голль (дядя более известного генерала Шарля де Голля ), который участвовал в бретонском автономизме и выступал за Кельтский союз в 1864 году, утверждал, что «до тех пор, пока побежденный народ говорит на другом языке, чем их победа, лучшая часть из них остается свободной ». Де Голль переписывался с людьми в Бретани, Ирландии, Шотландии и Уэльсе, утверждая, что каждому из них необходимо сотрудничать в духе кельтского единства и, прежде всего, защищать свои родные языки или иначе свое положение, поскольку кельтские нации исчезнут. Панкельтское обозрение , известное как Revue Celtique, было основано товарищем де Голля Анри Гайдосом в 1873 году .
В 1867 году де Голль организовал первое панкельтское собрание в Сен-Брие , Бретань. Ирландцы не присутствовали, а гости были в основном валлийцами и бретонцами.
Т. Е. Эллис , лидер Cymru Fydd, был сторонником панкельтизма, заявив: «Мы должны работать для объединения кельтских реформаторов и кельтских народов. Интересы ирландцев, валлийцев и [шотландцев] Крофтеров почти идентичны. Их прошлая история очень похожа на похожи, их нынешние угнетатели такие же, и их непосредственные потребности такие же.
Панкельтский конгресс и эпоха кельтской ассоциации
Первый крупный панкельтский конгресс был организован Эдмундом Эдвардом Фурнье д’Альбом и Бернаром Фицпатриком, вторым бароном Каслтауна , под эгидой их кельтской ассоциации и состоялся в августе 1901 года в Дублине . Это было продолжением более раннего панкельтского настроения на Национальном фестивале Eisteddfod в Уэльсе , состоявшемся в Ливерпуле в 1900 году. Еще одно влияние оказало участие Фурнье в Feis Ceoil в конце 1890-х годов, которое привлекло музыкантов из разных кельтских народов. Два лидера сформировали своего рода особую пару; Фурнье, французские родители, страстно увлекался гибернофилией и выучил ирландский язык , в то время как ФитцПатрик происходил из древней ирландской королевской семьи ( Мак-Джолла Фадрейг из Осрейджа ), но служил в британской армии и ранее был членом парламента от консерваторов (действительно, в оригинале. Панкельтский конгресс был отложен на год из-за Второй англо-бурской войны ). Главным интеллектуальным органом кельтской ассоциации была « Селтия: панкельтский ежемесячный журнал» , редактируемый Фурнье, который выходил с января 1901 по 1904 год и был на короткое время возрожден в 1907 году, прежде чем окончательно прекратить свое существование в мае 1908 года. Франсуа Жафренну . Не связанное с этим издание «Кельтское обозрение» было основано в 1904 году и просуществовало до 1908 года.
Историк Джастин Долан Стовер из государственного университета Айдахо описывает движение как имеющее «неравномерный успех».
Всего Кельтская ассоциация смогла организовать три панкельтских конгресса: Дублинский (1901 г.), Кернарфонский (1904 г.) и Эдинбургский (1907 г.). Каждый из них открывался тщательно продуманной нео-друидной церемонией возложения Lia Cineil («Камень расы»), который черпал вдохновение из Lia Fáil и Stone of Scone . Камень был пяти футов высотой и состоял из пяти гранитных блоков, на каждом из которых была выгравирована буква соответствующей кельтской нации на их собственном языке (например, «E» для Ирландии, «A» для Шотландии, «C» для Уэльса) . При закладке камня верховный друид Эйстедводода Хвафа Мон трижды говорил на гэльском, держа в руках частично обнаженный меч: «Есть ли мир?» на что народ ответил «Мир». Присущий этому символизм должен был представлять собой противовес ассимилировавшемуся Британской империи англосаксонизму, сформулированному такими авторами, как Редьярд Киплинг . Панкельты представляли себе восстановленную «кельтскую расу», но в которой каждый кельтский народ будет иметь собственное национальное пространство, не ассимилируя все в единое целое. Lia Cineil также предназначалось как фаллический символ , ссылаясь на древние мегалиты , исторически связанные с кельтами и опрокидывание «феминизации кельтов на своих саксонских соседей.»
Ответ наиболее передового и воинственного национализма «кельтского» народа; Ирландский национализм ; был смешанным. Панкельтов высмеивал Д. П. Моран в своей книге «Лидер» под названием « Панкельтский фарс ». Особенно насмехались над народными костюмами и друидической эстетикой, в то время как Моран, который ассоциировал ирландскую национальность с католицизмом, с подозрением относился к протестантизму как Фурнье, так и ФитцПатрика. Участие последнего как « Томми Аткинса » в борьбе с бурами (которых ирландские националисты поддержали ирландской трансваальской бригадой ) также было названо необоснованным. Моран пришел к выводу, что панкельтизм был «паразитирующим» на ирландском национализме, созданном «иностранцем» (Фурнье) и стремившимся дезориентировать ирландскую энергию. Другие были менее полемичны; Мнения в Гэльской лиге разделились, и хотя они решили не посылать официального представителя, некоторые члены действительно присутствовали на заседаниях Конгресса (в том числе Дуглас Хайд , Патрик Пирс и Майкл Дэвитт ). Больше энтузиазма вызвала леди Грегори , которая вообразила возглавляемую Ирландией «панкельтскую империю», в то время как Уильям Батлер Йейтс также присутствовал на встрече в Дублине. Выдающиеся активисты гэльской лиги, такие как Пирс, Эдвард Мартин , Джон Сент-Клер Бойд , Томас Уильям Роллстон , Томас О’Нил Рассел , Максвелл Генри Клоуз и Уильям Гибсон, сделали финансовые взносы в Панкельтский конгресс. Руараид Эрскин был помощником. Сам Эрскин был сторонником «гэльской конфедерации» между Ирландией и Шотландией.
Дэвид Ллойд Джордж , который позже станет премьер-министром Соединенного Королевства, выступил с речью на Кельтском Конгрессе 1904 года.
Основатель Союза бретонских регионов Регис де л’Эстурбайон посетил конгресс 1907 года, возглавил бретонскую фракцию процессии и установил бретонский камень на Лии Синейл. Генри Дженнер , Артур Уильям Мур и Джон Крайтон-Стюарт, 4-й маркиз Бьют также посетили конгресс 1907 года.
Эрскин предпринял попытку создать «союз валлийцев, шотландцев и ирландцев с целью выступить от имени кельтского коммунизма». Он написал Томасу Гвинн Джонсу с просьбой дать предложения по поводу того, как валлийцы пригласить в Лондон для встречи по организации такого дела. Неизвестно, имела ли место такая встреча.
В 1912 году в Париже была основана «La Ligue Celtique Francaise», у которой был журнал «La Poetique», в котором публиковались новости и литература со всего кельтского мира.
Панкельтизм после пасхального восстания
Кельтский национализм был чрезвычайно усилен ирландским пасхальным восстанием 1916 года, когда группа революционеров, принадлежащих к Ирландскому республиканскому братству, во время Первой мировой войны выступила против Британской империи, чтобы утвердить Ирландскую республику . Частью их политического видения, основанного на более ранней ирландско-ирландской политике, была гэлицизация Ирландии, то есть деколонизация англоязычной культурной, лингвистической и экономической гегемонии и восстановление исконной кельтской культуры. После первоначального восстания их политика объединилась в Ирландии вокруг Шинн Фейн . В других кельтских народов, группы были основаны проведения подобных взглядов и звонкий солидарности с Ирландией во время ирландской войны за независимость : это включает Бретон-журнал Breiz УОТП , тем шотландцы Национальная лига по Ruaraidh Эрскин и различные фигуры в Уэльсе , который позже пойти на нашел Плед Камру . Присутствие Джеймса Коннолли и Октябрьской революции в России, происходящих в одно и то же время, также заставило некоторых представить себе кельтский социализм или коммунизм ; идея, связанная с Эрскином, а также революционерами Джоном Маклином и Уильямом Гиллисом . Эрскин утверждал, что « коллективистский дух кельтского прошлого» был «подорван англосаксонскими ценностями жадности и эгоизма».
Надежды некоторых кельтских националистов на то, что полунезависимая Ирландия может стать плацдармом для ирландской республиканской армии — эквивалентов их собственных наций, и «освобождения» остальной части кельтосферы, оказались разочарованием. Боевики шотландских добровольцев, основанные Гиллис, Фианной на альба ; которые, подобно Óglaigh na hÉireann, выступали за республиканизм и гэльский национализм; был обескуражен Майклом Коллинзом, который сообщил Гиллису, что британское государство в Шотландии сильнее, чем в Ирландии, и что общественное мнение больше против них. Как только Ирландское свободное государство было создано, правящие партии; Прекрасный Гаэль или Фианна Файл ; были довольны тем, что участвовали в межправительственной дипломатии с британским государством в попытке вернуть округа в Северной Ирландии , а не поддерживать кельтских националистических боевиков внутри Великобритании. Ирландское государство, особенно при Иамоне де Валере, действительно приложило определенные усилия на культурном и языковом фронте в отношении панкельтизма. Например, летом 1947 года ирландский Taoiseach де Валера посетил остров Мэн и встретился с мэнксменом Недом Мэддреллом . Там он поручил Ирландской фольклорной комиссии сделать записи последних, старых носителей мэнского гэльского языка, включая Мэддрелла.
Послевоенные инициативы и кельтская лига
Группа под названием «Aontacht na gCeilteach» («Кельтское единство») была создана для продвижения панкельтского видения в ноябре 1942 года. Ее возглавил Эймон Мак Мурчада. MI5 считала это секретным прикрытием ирландской фашистской партии Ailtiri na hAiseirghe и должно было служить «точкой сплочения ирландских, шотландских, валлийских и бретонских националистов». У группы был тот же почтовый адрес, что и у партии. В своем основании группа заявила, что «нынешняя система полностью противоречит кельтской концепции жизни», и призвала к новому порядку, основанному на «особой кельтской философии». Сама Ailtiri na hAiseirghe имела панкельтское видение и установила контакты с про-валлийской политической партией Плед Симру и шотландской активисткой за независимость Венди Вуд . Однажды вечеринка накрыла город Южный Дублин плакатами с надписью «Rhyddid i Gymru» (Свобода Уэльса). Членом является Ризиарт Тал-е-бот , бывший президент Европейского свободного альянса .
Флаг кельтских народов, в верхнем левом углу которого находится флаг Галиции . Сегодня они вообще не считаются кельтской нацией.
Оживление ирландского республиканизма в послевоенный период и в период «Неприятностей» вдохновило не только других кельтских националистов, но и воинствующих националистов из других «малых народов», таких как баски с ETA . Действительно, это было особенно актуально для сепаратистского национализма Испании, когда эра франкистской Испании подходила к концу. Кроме того, в 1960-х и 1970-х годах возобновился интерес ко всему кельтскому. Менее воинственно элементы галисийского национализма и астурийского национализма начали ухаживать за панкельтизмом, посетив Фестиваль Interceltique de Lorient и Панкельтский фестиваль в Килларни , а также присоединившись к Международной секции Кельтской лиги. Хотя этот регион когда-то находился под властью иберийских кельтов , имел сильный резонанс в гэльской мифологии (то есть — Breogán ) и даже в раннем средневековье имел небольшой анклав кельтских британских эмигрантов в Британии (аналогично случаю с Бретанью), кельтской мифологии не было. на языке здесь говорили с 8-го века, и сегодня они говорят на романских языках . Во время так называемого «галисийского кризиса» 1986 года галичане были приняты в Кельтскую лигу как кельтская нация (Пол Моссон выступал за их включение в Карн с 1980 года). Впоследствии это было отменено в следующем году, поскольку Кельтская лига подтвердила, что кельтские языки являются неотъемлемым и определяющим фактором того, что такое кельтская нация.
После референдума о Брексите прозвучали призывы к панкельтскому единству. В ноябре 2016 года первый министр Шотландии , Старджен высказал идею о «Селтик коридора» острова Ирландии и Шотландии обратились к ней. В январе 2019 года лидер валлийской националистической партии Plaid Cymru Адам Прайс высказался за сотрудничество между кельтскими странами Великобритании и Ирландии после Brexit. Среди его предложений были Кельтский банк развития для совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта и связи в Ирландии, Уэльсе, Шотландии и на острове Мэн, а также создание кельтского союза, структура которого уже существует в Соглашение Страстной пятницы согласно цене. В разговоре с RTÉ, национальным ирландским телеведущим, он предложил Уэльсу и Ирландии совместно работать над продвижением языков коренных народов каждой нации.
Антикельтизм
Движение некоторых, в первую очередь английских археологов, известное как «кельтоскептицизм», возникло с конца 1980-х по 1990-е годы. Эта школа мысли, инициированная Джоном Коллисом, стремилась подорвать основы кельтизма и поставить под сомнение законность самой концепции или любого использования термина «кельты». Это направление мысли было особенно враждебно ко всем, кроме археологических свидетельств. Частично являясь реакцией на рост кельтских деволюционистских тенденций, эти ученые были против того, чтобы описывать людей железного века Британии как кельтских бриттов, и даже не одобряли использование фразы «Кельтский» при описании кельтской языковой семьи. Коллис, англичанин из Кембриджского университета , враждебно относился к методологии немецкого профессора Густава Косинны и враждебно относился к кельтам как этнической идентичности, объединяющейся вокруг концепции наследственного происхождения, культуры и языка (утверждая, что это было «расистским»). Помимо этого, Коллис враждебно относился к использованию классической литературы и ирландской литературы в качестве источника для периода железного века, о чем свидетельствуют кельтские ученые, такие как Барри Канлифф . Во время дебатов об историчности древних кельтов Джон Т. Кох утверждал, что это «научный факт существования кельтской семьи языков, которая не затронула споры кельтоскептиков».
Коллис был не единственной фигурой в этой области. Две другие фигуры наиболее известных в этой области были Малколм Чапман с его Кельты: Конструирование мифа (1992) и Саймон Джеймс из университета Лестера с его The Atlantic кельтов: Древние люди или современное изобретение? (1999). В частности, на страницах Antiquity Джеймс участвовал в особенно горячих разговорах с Винсентом Мегоу (и его женой Рут) . Megaws (наряду с другими, такими как Питер Берресфорд Эллис ) подозревали политически мотивированную повестку дня; движимый негодованием англичан и тревогой по поводу упадка британской империи; во всей предпосылке теоретиков кельтоскептиков (таких как Чепмен, Ник Мерриман и Дж. Д. Хилл) и что антикельтская позиция была реакцией на формирование шотландского парламента и Ассамблеи Уэльса . Со своей стороны, Джеймс выступил вперед, чтобы защитить своих собратьев-кельтоскептиков, заявив, что их отказ от кельтской идеи был политически мотивирован, но ссылался на « мультикультурализм » и стремился деконструировать прошлое и представить его как более «разнообразное», а не кельтское единообразие. .
Попытки идентифицировать отдельную кельтскую расу были предприняты «Гарвардской археологической миссией в Ирландию» в 1930-х годах под руководством Эрнеста Хутона , который сделал выводы, необходимые правительству-спонсору. Результаты были расплывчаты и не выдерживали критики, и после 1945 года они не рассматривались. Генетические исследования Дэвида Райха предполагают, что в кельтских областях произошло три основных изменения населения и что последняя группа в железном веке говорила на кельтских языках. , прибыл примерно в 1000 г. до н.э., после постройки знаковых якобы кельтских памятников, таких как Стоунхендж и Ньюгрейндж . Райх подтвердил, что индоевропейский корень кельтских языков отражает изменение населения, а не просто лингвистическое заимствование.
Проявления
Панкельтизм может действовать на одном или всех из следующих уровней, перечисленных ниже:
Лингвистика
Лингвистические организации способствуют развитию языковых связей, в частности Горседд в Уэльсе, Корнуолле и Бретани , а также спонсируемая правительством Ирландии Инициатива Колумбия между Ирландией и Шотландией . Часто здесь наблюдается раскол между ирландцами, шотландцами и мэнцами, которые используют Q-кельтские гойделийские языки , и валлийцами, корнуоллами и бретонцами, говорящими на п-кельтских бриттонских языках .
Музыка
Наш цветок красный , как кровь жизни мы пролитые
за дело Свободы против законов чужеродных
Когда Lochiel и O’Neill и Ллевеллин обратили стал
для Альбы и Эрина и благоденствия Cambria вцветок свободного, вереск, вереск
бретонцев и шотландец и ирландец вместе
Манкс, валлийцы и корнуоллы навсегда
Шесть наций — все мы кельты и свободны!
— Могилы Альфреда Персеваля , Песня кельтов .
Музыка — важный аспект кельтских культурных связей. Межкельтские фестивали набирают популярность, и некоторые из наиболее заметных — это фестивали в Лорьяне , Килларни , Килкенни , Леттеркенни и Celtic Connections в Глазго.
Спортивный
Херлинг и Шинти
Ирландия и Шотландия играют друг с другом на международных турнирах по керлингу и шинти .
Гандбол
Как и в случае с Херлингом и Шинти, ирландский гандбол и валлийский гандбол ( валлийский : Pêl-Law ) имеют древнее кельтское происхождение, но превратились в два отдельных вида спорта с другим набором правил и различными международными организациями.
Неформальные межкельтские матчи, скорее всего, были характерной чертой промышленного Южного Уэльса, и ирландские рабочие-иммигранты, как говорят, любили играть в уэльские игры. Однако попытки провести официальные межкельтские матчи начнутся только после образования Валлийской гандбольной ассоциации в 1987 году. Перед ассоциацией была поставлена задача проводить международные матчи против стран с аналогичными видами спорта, таких как Ирландия, США ( американский гандбол ) и Англия ( Fives). ). Чтобы облегчить международную конкуренцию, был разработан новый свод правил, и даже самый известный суд Пель-Ло Уэльса ( Суд Нельсона ) получил новую маркировку, более соответствующую ирландской игре.
Значимые валлийско-ирландские матчи наконец стали реальностью в октябре 1994 года, когда в Дублине прошел «Чемпионат мира с одной стенкой», а в мае следующего года на трех кортах в Южном Уэльсе состоялся первый «Европейский турнир по гандболу с одной стенкой». 1990-е годы были кульминационным моментом для этого межкельтского соперничества. Успех Ли Дэвиса из Уэльса (чемпион мира 1997 года) вызвал большое скопление людей и большой общественный интерес. Однако в последние годы упадок гандбола в Уэльсе вызвал небольшой интерес к межкельтским соревнованиям.
Регби
Панкельтский турнир по регби был предметом периодических обсуждений на протяжении первых лет профессионализма. Первые существенные шаги к Панкельтской лиге были сделаны в сезоне 1999–2000 годов, когда шотландские округа Эдинбург и Глазго были приглашены присоединиться к полностью профессиональному валлийскому премьер-дивизиону , создав Валлийско-шотландскую лигу . В 2001 году четыре провинции Ирландского футбольного союза регби (IRFU) присоединились к новому формату, получившему название « Кельтская лига» .
Турнир сегодня известен как Объединенный чемпионат по регби , и с тех пор он расширился на Италию и Южную Африку , без каких-либо планов расширения на другие кельтские страны. Тем не менее, соперничество между кельтами продолжается внутри лиги под официальным названием организации, проводящей соревнования Celtic Rugby DAC .
Политическая
Такие политические группы, как Кельтская лига , а также Плейд Симру и Шотландская национальная партия , сотрудничали на некоторых уровнях в парламенте Соединенного Королевства , а Плейд Симру задавал в парламенте вопросы о Корнуолле и сотрудничает с Мебионом Керновым . Региональный Совет Бретани , руководящий орган области Бретани , разработал формальные культурные связи с валлийским Senedd и есть миссии по установлению фактов. Политический панкельтизм может включать в себя все, от полной федерации независимых кельтских государств до периодических политических визитов. Во время Смуты , то Временная ИРА приняла политику не усиливающихся атак в Шотландии и Уэльсе, поскольку они рассматривали Англию (побывав нацию , которая первоначально вторгся Ирландии) в одиночку , как колониальной силы , занимающей Ирландии. На это также, возможно, повлиял глава администрации ИРА Шон Мак Стиофайн (Джон Стефенсон), республиканец лондонского происхождения, который идентифицировал себя как «пан-кельтский».
Городские побратимы
Городские побратимы распространены между Уэльсом — Бретани и Ирландией — Бретань, охватывая сотни сообществ, с обменом местных политиков, хоров, танцоров и школьных групп.
Исторические связи
Королевство Дал Риата было гэльским высшим королевством на западном побережье Шотландии с некоторой территорией на северном побережье Ирландии. В конце 6-го и начале 7-го веков он охватил примерно то, что сейчас называется Аргайл, Бьют и Лочабер в Шотландии, а также графство Антрим в Северной Ирландии.
Еще в 13 веке «представители шотландской элиты с гордостью заявляли о своем гэльско-ирландском происхождении и считали Ирландию родиной шотландцев». Шотландский король XIV века Роберт Брюс утвердил общую идентичность Ирландии и Шотландии. Однако в более поздние средневековые времена интересы ирландцев и шотландцев разошлись по ряду причин, и эти два народа разошлись. Обращение шотландцев в протестантизм было одним из факторов. Другой фактор — более сильная политическая позиция Шотландии по отношению к Англии. Третьей причиной было несопоставимое экономическое состояние этих двух стран; к 1840-м годам Шотландия была одним из самых богатых регионов мира, а Ирландия — одним из самых бедных.
На протяжении веков происходила значительная миграция между Ирландией и Шотландией, в первую очередь потому, что шотландские протестанты участвовали в плантации Ольстера в 17 веке, а затем позже, когда многих ирландцев начали выселять из своих домов, некоторые эмигрировали в шотландские города в 19 веке. века, чтобы избежать « ирландского голода ». В последнее время область ирландско-шотландских исследований значительно расширилась с появлением Ирландско-шотландской академической инициативы (ISAI), основанной в 1995 году. На сегодняшний день в Ирландии и Шотландии было проведено три международных конференции в 1997, 2000 и 2002 годах.
Организации
- Международный кельтский конгресс — неполитическая культурная организация, продвигающая кельтский язык в шести странах: Ирландии, Шотландии, Бретани, Уэльсе, острове Мэн и Корнуолле.
- Кельтская лига , является пан-кельтский политической организации.
Кельтские регионы / страны
Кельтское королевство Норикум, покрывающее большую часть нынешней Австрии в 1 году нашей эры.
Некоторые европейцы из центральных и западных регионов континента имеют кельтское происхождение. Таким образом, обычно утверждается, что «лакмусовая бумажка» кельтизма — это сохранившийся кельтский язык, и именно по этому критерию кельтская лига отвергла Галисию . Следующие регионы имеют сохранившийся кельтский язык, и по этому критерию Панкельтский конгресс 1904 года и Кельтская лига считают их кельтскими народами .
- Бретань
- Корнуолл
- Ирландия
- Остров Мэн
- Шотландия
- Уэльс
Другие регионы с кельтским наследием:
- Австрия — в знаменитом культурном регионе Гальштат — возможно, дом кельтов.
- Чехия — Родина Боев (Boiohaemum — Богемия)
- Англия
- Камбрия
- Фарерские острова
- Франция. Ранее, в классические времена, называлась Галлия / Галлия. Классические сочинения о Галлии и ее коренных кельтских племенах представляют собой наиболее обширную литературу того времени.
- Италия . Большая часть Северной Италии, известная как Цизальпийская Галлия, была населена кельтскими племенами.
- Португалия — родина лузитанцев , галлецианцев, турдетани и других кельтских племен.
- Испания — Большая часть Пиренейского полуострова была заселена кельтскими племенами. Испания и Португалия были предположены как место происхождения кельтов профессором Джоном Кохом из Уэльского университета .
- Астурия — княжество Астурия было названо в честь астурского кельтского племени.
- Кантабрия — нынешнее автономное сообщество (бывшее герцогство) было названо в честь племени кантабри .
- Галисия (с Северной Португалией ) — вместе как Gallaecia
- Кастилия и Леон
- Кастилия-Ла-Манча
- Эстремадура
- Сообщество Мадрида
- Андалусия ( турдетани и другие племена)
- Словения Историческая часть кельтского королевства Норикум
Кельты за пределами Европы
Районы с населением, говорящим на кельтском языке
В Атлантической Канаде есть известные ирландские и шотландские гэльские говорящие анклавы .
В аргентинском регионе Патагония проживает значительная часть населения, говорящего на валлийском языке. Валлийское поселение в Аргентине возникло в 1865 году и известно как Y Wladfa .
Кельтская диаспора
Кельтская диаспора в Северной и Южной Америке , а также в Новой Зеландии и Австралии значительна и достаточно организована, поэтому в крупных городах этих регионов есть многочисленные организации, культурные фестивали и языковые курсы университетского уровня. В Соединенных Штатах журнал Celtic Family Magazine — это общенациональное издание, в котором публикуются новости, искусство и история кельтов и их потомков.
Ирландцы гэльский игры из гэльского футбола и швыряя играют по всему миру и организованы гэльский Athletic Association , а шотландская игра детский хоккей видел недавний рост в Соединенных Штатах .
Хронология панкельтизма
Дж. Т. Кох отмечает, что современный панкельтизм возник в результате противостояния европейскому романтическому паннационализму и, как и другие паннационалистические движения, процветал в основном перед Первой мировой войной. Он считает, что усилия двадцатого века в этом отношении, возможно, являются результатом постмодернистского поиска идентичности перед лицом растущей индустриализации, урбанизации и технологий.
- 1820: Королевское кельтское общество основано в Шотландии.
- 1838: Первый кельтский конгресс под названием Панкельтский конгресс , Абергавенни
- 1867: Второй кельтский конгресс, Сен-Брие
- 1888: Панкельтское общество основано в Дублине.
- 1891: Панкельтское общество распускается
- 1919–1922: Ирландская война за независимость , пять шестых Ирландии становятся независимыми, Северная Ирландия получает автономное правительство.
- 1939–1945: Вторая мировая война и немецкая оккупация Бретани.
- 1947: образован кельтский союз.
- 1950: Распад Кельтского Союза
- 1950: в Корнуолле проходит первый кельтский конгресс
- 1961: Основание современной кельтской лиги в Росланерхругоге.
- 1971: Начало кельтского фестиваля в Килларни.
- 1997: Начало инициативы Columba
- 1999: открытие парламента Шотландии и Ассамблеи Уэльса
- 2000: Корниш Учредительное собрание формируется
- 2000–2001: Конституционная конвенция Корнуолла собрала более 50 000 подписей в поддержку призыва к созыву Ассамблеи Корнуолла .
Смотрите также
- Armes Prydein
- Алан Хьюзафф
- Джон Стюарт Стюарт-Гленни
- Руараид Эрскин
- Ричард Дженкин
- Агнес О’Фаррелли
- София Моррисон
- Теодор Эрсар де ла Вильмарке
- Шарль де Голль
- Мона Дуглас
Примечания
использованная литература
Библиография
- Бейлин, Бернард (2012). Незнакомцы в королевстве: культурные окраины Первой Британской империи . Книги UNC Press. ISBN 978-0807839416.
- Берресфорд Эллис, Питер (1985). Кельтская революция: исследование антиимпериализма . Y Lolfa Cyf . ISBN 978-0862430962.
- Берресфорд Эллис, Питер (2002). Кельтский рассвет: мечта кельтского единства . Y Lolfa Cyf. ISBN 978-0862436438.
- Каррутерс, Джерард (2003). Английский романтизм и кельтский мир . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1139435949.
- Коллинз, Кевин (2008). Католические церковники и кельтское возрождение в Ирландии, 1848-1916 гг . Пресса «Четыре корта». ISBN 978-1851826582.
- Фенн, Ричард К (2001). Помимо идолов: форма светского общества . Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0198032854.
- Хехтер, Майкл (1975). Внутренний колониализм: кельтский край в британском национальном развитии, 1536-1966 . Рутледж. ISBN 978-0710079886.
- Дадли Эдвардс, Оуэн (1968). Кельтский национализм . Рутледж. ISBN 978-0710062536.
- Гаскилл, Ховард (2008). Прием Оссиана в Европе . A&C Black. ISBN 978-1847146007.
- Хейвуд, Джон (2014). Кельты: от бронзового века до нового века . Рутледж. ISBN 978-1317870166.
- Дженсен, Лотте (2016). Корни национализма: формирование национальной идентичности в Европе раннего Нового времени, 1600-1815 гг . Издательство Амстердамского университета. ISBN 978-9048530649.
- Мазеруэй, Сьюзан (2016). Глобализация ирландского традиционного песенного исполнения . Рутледж. ISBN 978-1317030041.
- О’Доннелл, Руан (2008). Влияние восстания 1916 года: среди народов . Ирландская академическая пресса. ISBN 978-0716529651.
- О’Дрисколл, Роберт (1985). Кельтское сознание . Джордж Бразиллер. ISBN 978-0807611364.
- О’Рахилли, Сесиль (1924). Ирландия и Уэльс: их исторические и литературные отношения . Лонгмана.
- Ортенберг, Вероника (2006). В поисках Святого Грааля: В поисках средневековья . A&B Black. ISBN 978-1852853839.
- Питток, Мюррей GH (1999). Кельтская идентичность и британский образ . Издательство Манчестерского университета. ISBN 978-0719058264.
- Питток, Мюррей GH (2001). Шотландское гражданство . Пэлгрейв Макмиллан. ISBN 978-1137257246.
- Платт, Лен (2011). Модернизм и раса . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1139500258.
- Таннер, Маркус (2006). Последний из кельтов . Издательство Йельского университета. ISBN 978-0300115352.
- Лоффлер, Марион (2000). Книга безумных кельтов: Джон Викенс и кельтский конгресс Кэрнаруна 1904 . Гомер Пресс. ISBN 978-1859028964.
внешние ссылки
- Кельтская лига
- Кельтский конгресс
- Columba Initiative
- Кельтское царство
Колоссальная, удивительная даже для эпохи универсальных гениев, какою было Возрождение, эрудиция Рабле проступает в каждой детали его сочинения.
Нет ни одного персонажа, ни одного эпизода в романе, который не восходил бы (хотя отнюдь не сводился) к прецеденту, прообразу, источнику, не вызывал бы целую цепочку культурных ассоциаций.
Ассоциативно-хаотический принцип воспроизведения предметов и явлений мира царит и в деталях — например, в знаменитых раблезианских каталогах (перечислении многочисленных игр Гаргантюа, подтирок и т.п.), и в общей структуре сюжета с его непредсказуемо прихотливым, «лабиринтным» развитием и насыщенностью диалогами.
По существу три последние книги романа повествуют не просто о путешествии пантагрюэлистов к оракулу Большой Бутылки, но о поисках истины, рожденных попыткой разрешить диалог-спор Пантагрюэля и Панурга — «человека всежаждущего», гуманиста, но одновременно пьяницы, носящего имя фольклорного черта, и «человека всё-могущего», умельца, но и ловкача, ведущего свою родословную от древнего мифологического образа плуга (трикстера). Таким образом диалог выступает в произведении не только как композиционный прием, но как общий принцип художественного мышления автора: он как будто задает себе и миру бесконечно будоражащие вопросы, не получая, точнее, не давая окончательно исчерпывающих ответов, но демонстрируя многообразие истины и многоцветие жизни. Потому-то «никто, лучше Рабле, не воплотил дух Ренессанса — эпохи, жадной до интеллектуальных поисков, времени художественного расцвета, открытий во всех областях» (Ж. Фревиль).
Характер и смысл книги Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», анализ которой нас интересует, — «писать не с плачем, а со смехом», веселя читателей.
Пародируя ярмарочного зазывалу и обращаясь к «достославным пьяницам» и «досточтимым венерикам», автор тут же предостерегает читателей от «слишком скороспелого вывода, будто в этих книгах речь идет только о нелепостях, дурачествах и разных уморительных небывальщинах».
Заявив о том, что в его сочинении царит «совсем особый дух и некое, доступное лишь избранным, учение, которое откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства», автор сразу же открещивается от попытки аллегорического прочтения романа.
Тем самым Рабле на свой лад мистифицирует читателей — столь же разъясняет свои намерения, сколь и задает загадки: недаром история интерпретаций «Гаргантюа и Пантагрюэля» представляет собой причудливый ряд самых контрастных суждений. Специалисты ни в чем не сходятся в определении ни религиозных взглядов (атеист и вольнодумец — А.
Лефран, ортодоксальный христианин — Л. Февр, сторонник реформаторов — П. Лакруа), ни политической позиции (пламенный сторонник короля — Р. Маришаль, протомарксист—А.
Лефевр), ни авторского отношения к гуманистическим идеям и образам, в том числе существующим в его собственном романе (так, Телемское аббатство рассматривают то как программный эпизод желанной демократической утопии, то как пародию на такую утопию, то как в целом несвойственный Рабле придворно-гуманистический утопический образ), ни жанровой принадлежности «Гаргантюа и Пантагрюэля» (книгу определяют как роман, мениппею, хронику, сатирическое обозрение, философский памфлет, комическую эпопею и т.д.), ни роли и функции основных персонажей.
Объединяет их, пожалуй, лишь одно: обязательное дискуссионное сопряжение своего прочтения романа с бахтинской концепцией карнавальной природы раблезианского смеха. Мысль М.М.
Бахтина о противостоянии поэтики романа Рабле официальной, серьезной литературе и культуре эпохи довольно часто истолковывается как недооценка ученым причастности писателя к высокой книжной гуманистической традиции, между тем как речь идет об определении индивидуального, неповторимого места Рабле в этой традиции — одновременно внутри и вне ее, над ней, в каком-то смысле даже напротив нее. Именно такое понимание объясняет парадоксальное сочетание программности и пародийности знаменитых эпизодов гуманистического обучения Гаргантюа, наставления Пантагрюэля его отцом, Телемского аббатства и многих других. Чрезвычайно важным в этом аспекте представляется замечание Бахтина по поводу отношения Рабле к одному из важнейших течений гуманистической философии его времени: «Рабле отлично понимал новизну того типа серьезности и возвышенности, который внесли в литературу и философию платоники его эпохи Однако он и ее не считал способной пройти через горнило смеха, не сгорев в нем до конца».
Распространенное в современных исследованиях полемическое отношение к основным идеям М.М. Бахтина — о стихии народного карнавала, воплощенной в «Гаргантюа и Пантагрюэле», об амбивалентности (то есть равноправии двух полюсов смерти/рождения, старения/обновления, развенчания/прославления и т.д.
) раблезианского смеха, о космической, «становящейся», выходящей за свои пределы телесности его образов и специфике гротескного реализма — не отменяет того факта, что фундаментальный труд ученого впервые приблизил читателей к действительно глубокому пониманию этого столь же загадочного, сколь уникального произведения, к выяснению природы его художественного новаторства.
Именно в осознании амбивалентности и универсальности смеха Рабле коренится понимание особого значения его книги: ведь «какие-то очень существенные стороны мира доступны только смеху» (М.М. Бахтин). Смех Рабле гуманистичен, по-настоящему радостен.
Это особое мироощущение, выраженное в изобретенном писателем термине «пантагрюэлизм», Рабле определяет в прологе к «Четвертой книге» как «глубокую и несокрушимую жизнерадостность, перед которой все преходящее бессильно».
Источник: Энциклопедия литературных произведений / Под ред. С.В. Стахорского. – М.: ВАГРИУС, 1998
Проблематика романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» – серьезное произведение, в котором были подняты важнейшие, актуальные проблемы мира, человечества Эпохи Возрождения.
Проблематика романа весьма сложна и разнообразна. Одна из важнейших проблем – это антиклерикальная проблематика романа. Франсуа Рабле выступает против религии, невежества и предрассудков.
До Рабле не было такого, чтобы в романе смеялись над монахами, схоластиками, религиозными деятелями в таком масштабе. Все, что связано с практикой католицизма, подвергается у Рабле жестокому осмеянию.
Он ненавидит богословов, глумится над римской церковью и папой, над всякой мистикой. Для Рабле нет ничего ненавистнее монахов.
Наиболее серьезной проблематикой в романе является антивоенный пафос романа. Автор одним из первых в своё время яростно осуждает всякие войны и попытки мирового господства.
До сих пор актуальным являются эпизоды романа, в которых Рабле касается проблемы войны и мира. С памфлетной остротой представлен персонаж короля Пикрохола, который мечтал завоевать весь мир и поработить народы всех континентов.
Легко и быстро перекраивает он географическую карту, превратив ее в мировую пикрохоловскую империю.
Рабле в своем произведение так же, как и Пантагрюэль «вечно что-то жаждет» – пускается в поиски идеального правителя, который бы свой народ ничем не притеснял и дал бы полную свободу.
Раблезианская теория политического и нравственного идеала. Теория подразумевает собой, что правитель должен быть философом, либо философ – правителем.
Только мудрый и справедливый монарх может управлять страной.
Гуманисты эпохи Возрождения были мечтателями, чьи мечты были несбыточными порой. Утопия «Телемского аббатства». Рабле изображает идеал свободного общества, где люди живут так, как хотят.
Нет ни строгих законов, правил. Все свободны и счастливы. Без религиозного догматизма и схоластического ученья.
Людей ничем не угнетают, им дают право выбирать свою судьбу, и быть теми, кем они хотят быть поистине.
Франсуа Рабле всю жизнь боролся за новые гуманистические идеи, а также задумывался над тем, как воспитать свободную личность, необремененную религиозной догматикой. Наряду с итальянскими гуманистами он разрабатывает новую систему воспитания – педоцентрическую. Воспитание всесторонне развитой личности, которая сильна и в духовном, и в физическом аспекте своего развития.
Помимо проблем, касающихся политики, социологии, педагогики проблема отношения мужчины и женщины относительна нова. Рабле впадает в размышления о месте женщины в этом мире, а также анализирует общественную и культурную роль женщины.
Система образов в романе гениального писателя представлена ясно, ярко. Все образы в основном собраны из народа: они существовали, они не вымышлены.
«Носителями идеи просвещенного монархизма являются три образа: Грангузье, Патагрюэль и Гаргантюа, но идея в разной степени в каждом из них проявляется. От дедушки до внука идет прогресс развития этой идеи.
Если в Грангузье было только маленькое зернышко, семя великой идеи, то уже в Пантагрюэле можно пронаблюдать расцвет, торжество идеи просвещенного монархизма, т.е. богатый урожай маленького семя.
Изначально на идеализированный образ мудрого короля воздействовала «просвещенная» политика Франциска I, но книга за книгой образ становится тусклым, и король теряется в глазах своего народа, в качестве государя и показывается всего лишь мыслителем, путешественником и носителем идеи «пантагрюализма».
Типичным типом для эпохи первоначального накопления является образ Панурга. По характеру веселый и остроумный, хвастливый, с богатым воображением, авантюрист-насмешник; собеседник и собутыльник. Нельзя Панурга назвать «неучем», т.к.
его голова завалена бесконечными знания, как его «двадцать шесть карманов, содержащих разного рода хлам». Его образ лишен устойчивости натуры.
Панург – мечтатель, предчувствующий лучшее будущее, в котором такие как он найдут своё место и будут жить, трудиться и развивать себя и свои способности. Он – плебей, сын ренессансного города»[1,256].
Так как основой для создания романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» послужила народная культура Средневековья, наиболее важным образом является монах Жан, потому что он народный, в этом образе воплощается весь народ. Он – плебей, но деревенский.
Рабле не относит его к числу всех монахов, но у него есть общая черта в то же время с ними – это нечистоплотные привычки. Характер у него таков: энергичен, смел, находчив и он никогда не навредит ближнему.
Жан отличается хочет, чтобы жизнь была для всех радостью, а не только для себя. Даже будучи деревенским плебеем, он приемлет высокие идеалы гуманизма. «Он не святоша, не голодранец, он благовоспитан, жизнерадостен, смел, он добрый собутыльник.
Он трудится, пашет землю, заступается за притесненных, утешает скорбящих, оказывает помощь страждущим, охраняет сады аббатства»»[1, 264-265].
Так как этот роман имеет гуманистическую направленность, то об образе Понократа невозможно не сказать.
При помощи образа Понократа – учителя Пантагрюэля, который его превратил в всесторонни развитую личность. Этот образ имеет большое значение в романе, т.к.
в то время главенствовало схоластическое воспитание, которое по сути ничего ценного для ума не давало, а только представляло собой адское мучение.
«Наиболее выразительно показываются образы двух королей: Грангузье и его соседа Пикрохол. Первый – человечный, мудрый, добрый, разумный правитель. Пикрохол – король, варвар старых взглядов. Он возлагает свои надежды на грубую силу, не считается ни с какими принципами в области права и управления.
Он был уверен в своей победе и даже строил дальнейшие планы на завоевание всего мира. Пикрохол и его окружающие люди олицетворяли для его современников и соотечественников феодальную анархию.
Нельзя сказать, что в ком-то из этих королей Франсуа Рабле воплощает свой идеализированный образ короля, он просто показывает, что и тот, и другой имеют некоторые черты, присущие этому образу»[2].
«В романе наблюдается палитра образов: «умышленно грубые, но сочные и резко индивидуализированные – всё взято преимущественно в сатирическом ключе» Образы людей нового времени, жаждущих развиваться, самосовершенствоваться, учиться новому. Своим многообразием образов и эпизодов роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» имеет сходства с такими произведениями, как «Роман о Лисе», «Роман о Розе» или «Большого завещания» Вийона» [1, 260].
«Рабле заимствовал персонажа Гастера у Персия. Гастер является создателем цивилизации. Глава 61 содержит в себе возникновение культуры. Имея хлеб, Гастер изобретает аграрную отрасль, т.е. земледелие, для того бы получить зерно» [2].
рабле роман гаргантюа пантагрюэль
Оппозиция смеха и серьезности в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Раблезианский смех (смех Рабле) – это особый универсальный взгляд на мир. Это точка зрения, трактующая мир по-другому, но не менее существенно, нежели серьезность.
«Гаргантюа и Пантагрюэль» – смех сквозь слезы
Над своей книгой «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле работал на протяжении двадцати лет. По этому произведению читатель может обозреть всю панораму жизни Франции 16 столетия. Здесь представлены все слои общества, все профессии, все занятия. И самое главное, что здесь есть – это смех.
Франсуа Рабле смеется над монахами, трутнями-аристократами, тупыми судьями, над мечтающими завоевать весь мир королями, над бессмысленными занятиями ученых-схоластов. Он смеется над всем отжившим свое, всем, что не дает человеку свободно вздохнуть.
Поэтому неудивительно, что книга Рабле вызывала в свое время такую неистовую ярость, ведь в ней «на орехи» досталось всем.
О королях писатель говорит словами Панурга, который сравнивает правителей с ослами. Однако, писатель не мог представить государство без короля и верил в просвещенного монарха. В своей книге он пытался создать такого монарха искусственно. В его книге старый Гаргантюа и его сын Пантагрюэль предстают добрыми, мудрыми и образованными.
Клеймя современное ему правосудие, Рабле приводит пример судьи Бридуа, исправно служившего сорок лет и вынесшего тысячу приговоров. А метод вынесения приговоров у него весьма своеобразный: «Я наудачу бросаю кости и решаю дело в пользу того, кому на счастье выпадет больше очков».
Не оставляет Рабле без внимания и школьную систему, построенную на бессмысленной зубрежке. В результате применения этого метода Гаргантюа за тринадцать лет обучения выучил всего лишь алфавит.
Особенно яростно Рабле нападает на монахов. В его памяти навсегда запечатлелись годы, проведенные в монастыре. В своей книге Рабле населяет монахами целый остров Звонки. Единственное занятие жителей этого острова – поклон и звон в колокола.
Однако Рабле смеется не над религией, а над церковниками. Он подчеркивает, что дела «святых отцов» существенно отличаются от их слов. Они исповедовали бедность, но сами жили в богатстве и роскоши; они призывали к добру, а сами занимались неблаговидными делами.
Именно поэту остроту своего слова Рабле направляет против католической церкви.
Но писателя сложно обвинить в односторонности взгляда. На собственном опыте он знал, что и в монашеской среде есть честные люди, которые отличаются добродетелью. Таким является Жан Зубодробитель, олдин из любимых героев писателя. Жан, хоть и носит рясу, совсем не похож на тех бездельников, над которыми смеется автор.
для этого героя счастье заключается в труде. Он никогда не сидит без дела – то мастерит тетиву для арбалета, то оттачивает стрелы, то плетет сети. Жан не только труженик, он еще и прирожденный воин. Когда нападают на его родную страну, он не раздумывая отправляется на бой с врагом.
Жан Зубодробитель – настоящий народный герой.
Персонажи произведения «Гаргантюа и Пантагрюэль» часто смеются. Вместе с ними смеется и читатель. Такую цель ставил перед собой Рабле, и добился ее.
Замечание 1
Для Франсуа Рабле смех был оружием, при помощи которого он уничтожал своих гонителей и врагов.
При помощи сатиры Рабле боролся с тупостью и невежеством, утверждал новые идеалы. И не потому, что у него не было другого способа борьбы, а потому, что смех является достоянием добрых, сильных, просвещенных людей.
Миру безделья, косности, глупости и нетерпимости Франсуа Рабле противопоставляет следующих героев:
- Невозмутимый Пантагрюэль
- Брат Жан
- Старый мудрый Гаргантюа
- Выдумщик, остроумный насмешник и очень образованный человек Панург.
Телемская обитель. Гуманистическая утопия Рабле
Талант писателя требовал не только абсолютного обличения человеческих пороков, но и утверждения идеала.
И благодаря невиданной щедрости Гаргантюа на берегу Луары появляется великолепнейшая Телемская обитель, которая совсем не похожа на остальные католические монастыри.
Здесь люди не отрекаются от радостей жизни, не отрицают знания, не мучаю себя ночными бдениями и не истязают себя постами, не ищут спасения в невежестве.
Телемское аббатство открыто для девушек и юношей, отличающихся статностью, красотой, любознательностью и обходительностью. Они живут под общей крышей, вместе проводят досуг и вместе занимаются. Каждый при желании может беспрепятственно уйти из обители и отправиться куда угодно.
В этой обители не дают монашеских обетов послушания и целомудрия. Каждый послушник обители имеет право сочетаться законным браком, пользоваться абсолютной свободой и быть богатым. Все в Телемской обители устроено таким образом, чтобы человек мог радоваться жизни. А прилегающая к монастырю территория описана с огромной любовью.
Все здесь радует душу, ласкает глаз и дает богатейшую пищу для ума.
Замечание 2
В уставе монастыря есть только одно правило: «Делай, что хочешь».
По-гречески «телема» означает «желание». Кажется, что повинуясь ничем не ограничиваемым желаниям, люди могут стать своевольными, жестокими и грубыми. Однако в Телемской обители, где нет никаких правил, нет никаких раздоров и склок.
по этому поводу Рабле говорит, что свободные люди, вращающиеся в порядочном обществе и просвещенные, самой природой наделены инстинктом и честью.
А когда на этих же людей давят принуждение и подлое насилие, они свой благородный пыл обращают на то, чтобы сбросить это ярмо рабства, что влечет к запретному. Человек жаждет того, в чем ему отказано.
https://www.youtube.com/watch?v=MY__hTnaoFU
Это говорит о том, что Франсуа Рабле верил в благородные задатки человека. по его утверждению, о природы человек добр и лишь уродливые формы жизни его толкают на путь порока и зла. Вслед за Т. Мором он создает свою гуманистическую утопию.
Великий насмешник Рабле мечтает о таком пристанище, в котором человек смог бы стать самим собой. Телемское аббатство не является ни монархией, ни республикой.
Это союз образованных, хорошо воспитанных людей, в котором каждый свободный индивид поднимается над неприглядными проявлениями общественного поведения.
Однако, несмотря на смешные моменты книга Рабле – это смех сквозь слезы. Читатель от души смеется над пороками того общества, но при этом осознание того, что эти пороки существуют на самом деле вызывает грусть. Книга Рабле не потеряла актуальность и сейчас. По-прежнему в мире много глупости, невежества, зла, алчности и других пороков.
Смех в этой книге – это противостояние лжи, лицемерию и лести. Он безбоязненно раскрывает правду о власти и мире. Правда смеха снижает власть, а носитель такой правды – шут.
Сатирические и утопические мотивы в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»
ТЕМА: САТИРА И УТОПИЯ В РОМАНЕ Ф.РАБЛЕ ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ.
Крупнейшим представителем французского гуманизма и одним из величайших французских писателей всех времен является Франсуа Рабле (1494 – 1553). У этого писателя необычная биография. Он родился в Шиноне, в семье зажиточного землевладельца и адвоката.
В молодые годы он поступил во Францисканский монастырь и монастырь и до 1525г. пробыл монахом в Фонте-Леконт, но вместо богословских трудов изучал древних писателей и юридические трактаты. Рабле получил сан священника, но служебных обязанностей не исполнял. С самого начала Франсуа Рабле больше привлекали науки, нежели духовные подвиги.
Он изучал латынь, греческий, читал Платона, вступил переписку с главою французских гуманистов Гильемом Бюде, После конфликта с монахами, он покинул монастырь и занялся изучением медицины, а в 1532г. получил должность врача лионского госпиталя. Кроме того, Ф.Рабле изучал в Риме римские древности и лекарственные травы.
После этого он состоял на службе у Франциска I, практиковал как врач, путешествуя по Франции, и получил степень доктора медицины, затем снова вернулся в монастырь. Умер Рабле в 1553г. в Париже.
Однажды, во время работы в Лионе, в руки к Рабле попала лубочная книга «Великие и неоценимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа», в основе которой лежала старинная французская народная сказка о великане Гаргантюа, хорошо известная еще в конце XV столетия. Это и послужило толчком, побудившим Рабле написать свой роман.
Сюжет французской сказки, в которой великан Гаргантюа помогает королю Артуру спастись от гогов и магогов, Рабле использовал как основу для своего сюжета.
Он заимствовал из народной книги имена героев и ряд эпизодов, а так же некоторые приемы, например, гротескный перечень всевозможных предметов или похищение Гаргантюа колоколов собора Парижской богоматери.
Однако читателей привлекала не только фольклорная основа романа, а главным образом содержащаяся в нем явная сатира на фантастику и авантюрную героику старых рыцарских романов и глубокое философское содержание.
Это изогнутое зеркало, в котором причудливо отобразилось буйное жизнелюбие «старой веселой Франции», пробужденной к новой жизни в эпоху Возрождения. Под маской шуток, анекдотов и острот спрятано особенное идейное содержание.
Сам Рабле в предисловии к первой книги «Гаргантюа и Пантагрюэля» сравнивает свое творение с ларцом, на котором сверху нарисованы «смешные и забавные фигурки», а внутри хранятся редкие снадобья, приносящие человеку немалую пользу. «Положим даже, вы там найдете вещи довольно забавные, если понимать их буквально, вещи, вполне соответствующие заглавию, и все же не заслушивайтесь вы пенья сирен, а лучше истолкуйте в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста».
Взять хотя бы воспитание Гаргантюа.
Король Грангузье поручил решение этого вопроса схоластикам и богословам сорбоннского типа, людям старой культуры и старой науки, для которых главный метод обучения – «зубрежка», в результате которой Гаргантюа выучил азбуку наизусть в обратном порядке всего лишь за 5 лет и 3 месяца. Бедный Гаргантюа стал заметно глупеть и на смену учителям-схоластикам пришли гуманисты. И здесь Рабле в очень яркой форме раскрывает свои идеалы.
Педагогика в культуре Ренессанса играла очень большую роль. Ведь Ренессанс – это время научного подхода и открытий, пришедших на место слепой вере, это время воспитание нового человека с новым образом мыслей.
В трудах Леонардо Бруни, Верджерио, Дечембрино, Гварини была разработана целая система новой педагогики, была основана школа в Мантуе, которую называли «домом радости».
Воспитание по Рабле – это не только умственное, но и физическое образование, чередование различных дисциплин и отдыха, а так же не насильственное «вдалбливание» дисциплин, а свободное обучение, воспринимаемое учеником с радостью.
Схоластки, будучи представителями старого мира, душили на корню новые идеалы, вот поэтому-то так жестоко осмеивает их Рабле, выставляя на посмешище их умственную немощь, издеваясь над их человеческими слабостями.
Не менее важная проблема, рассматриваемая Ф.Рабле – это не удовлетворяющая политика феодализма. Рассмотрена она в сюжете войны Гранузье и Пирохла. Поводом для нападения войска Пирохла на утопийцев стали не поделенные плюшки.
Война в романе – это возможность показать не только отрицательные черты существующего строя, но главным образом изобразить тип правителя. Что представляет собой Пирохл? Это король-феодал, король в старом стиле, далекий от гуманизма и других передовых идей, это варвар, который принимает только идею грубой силы.
Ему противопоставлен Грангузье – полная противоположность: добрый король, который заботится о славе и о благе своих подданных. Оба портрета сатира, крайность, но отдельные черты обоих королей можно найти в любом из правителей европейских государств.
Из чего ясно, что Рабле, не отвергающий принципа монархии, не видит достойного короля и достойной системы правления ни в одном из реально существующих государств.
На примере Телемского аббатства (телема в переводе с греческого – желание) Ф.Рабле показывает свои идеалы устройства общества.
Грангузье хочет наградить за подвиги брата Жана, храбро сражавшегося в войне, и способствует в реализации его мечты – строительства удивительного монастыря, не похожего на другие: «… вам надлежит ввести воспрещающее женщинам избегать мужского общества, а мужчинам – общества женского, … как мужчины, так и женщины, поступившие к вам, вольны будут уйти от вас, когда захотят,… каждый в праве сочетаться законным браком, быть богатым и пользоваться свободой». Что хотел сказать Рабле этой утопической картиной?
Феодальному средневековью было незнакомо понятие свобода. Это время свирепствования жесткого принуждения и насилия. Гуманизм отвергал такие общественные категории и боролся за свободу и уважение человека, утверждая, что самое совершенное, что есть на свете – это личность.
Отставляя в сторону нравы средневековья, Рабле рисует свою картину устройства общества – Телемское аббатство, на дверях которого написан единственный принцип жизни телемитов: «Делай, что хочешь». Эта картина утопична, но признать ее абсолютно не приемлемой тоже нельзя.
Скорее, это база, начальная информация для построения нового общества – общества свободных людей.
Дальнейшая работа над романом затормозилась вследствие реакции новой политики Франциска I. Она выразилась в беспощадном преследовании гугенотов и всех инакомыслящих.
Подстрекаемый католической партией, Франциск I вступил на путь жестоких репрессий. Запылали костры. Многие просвещенные, талантливые люди гибнут от рук инквизиции. Самого Рабле обвиняют в безверии, кальвинизме и всех смертных грехах.
Рабле пришлось замолчать. Он исчез из Лиона и уехал в Италию с кардиналом Жаном дю Белле.
Теперь Рабле жил в Риме и мог наблюдать за жизнью католического центра и нашел там много интересного для себя.
В таких условиях этому остроумному писателю и борцу молчать было не возможно, и он снова принялся за свои дела. С 1534г. он создает продолжение романа и перепечатывает старые две книги «Гаргантюа», потом «Пантагрюэль» на новый лад – им убраны места с особо острой критикой.
В 1546г. вышла «Третья книга», довольно мягкая по сравнению с предыдущими.
Главный герой этой книги – плут и транжира Панург, который « … знал 63 способа добывания денег, из которых самым честным и самым обычным являлась незаметная кража, и был он озорник, шулер, кутила, гуляка и жулик, каких и в Париже немного. А в сущности, чудеснейший из смертных».
Перед Панургом встает вопрос: жениться ему или не жениться, ибо он очень боится остаться «рогатым». Многим представителям «учености» задает он этот вопрос, и каждый дает ему мудрые советы, которые на самом деле нелепы и глупы до невозможности.
Таким образом, Рабле разворачивает целую галерею комических личностей. Среди них богослов, врач, философ и юрист, а еще раньше были поэт и астролог. Но после четырех консультаций Панург вместе с Пантегрюэлем решили ехать в Китай к оракулу Божественной Бутылки.
Эта книга, как и две предыдущих была осуждена Сорбонной, по-прежнему продолжались казни уважаемых Рабле людей. На костре инквизиции был сожжен друг и соратник Рабле Этьен Доле, вновь опасность нависла над самим Рабле, и он вынужден был бежать за границу.
Затем последовала смена на престолах французском и папском. Это дало возможность вернуться Рабле в Париж. Будучи священником, Рабле получил два прихода. Теперь у него было достаточно времени на написание «четвертой книги», которая начата была еще раньше, за границей.
Рабле окончил книгу, и в 1552г. Она вышла в свет.
Сюжетом «четвертой книги» стало путешествие Панурга и Пантагрюэля через океан в Китай к оракулу Божественной Бутылки. По дороге они останавливаются в разных удивительных странах, населенных невероятными существами и претерпевают ряд приключений.
В первой части описываются два ярких эпизода. Первый – это «панургово стадо», Мотив его заимствован у итальянца Фоленго. Такую же шутку проделал герой его поэмы «Бальдус».
Этот эпизод полон иронии и тонко характеризует психологию Панурга. Второй – описание бури и поведения во время нее пассажиров корабля – Пантегрюэля, Панурга, Брата Жана, Эпистемона.
Корабль тонет, и всплывают черты, раскрывающие образы этих героев.
С каждой главой усиливаются сатирические аллегории, направленные на уклад католической церкви. Вот остров, где царствует враждебный всему естественному Постник, который приводит на память притчу о Физисе и Антифизисе.
Антифизис (Противоестество) плодит детей, ходящих вверх ногами, а так же монахов, христопродавцев, «святош», «неуемных кальвинистов, женевских обманщиков», бесноватых «путербеев» и «прочих чудищ, уродливых, безобразных и противоестественных.
А с самого Постника Рабле нарисовал портрет типичного фанатика.
Далее следовали острова Папефигов (показывающих фигу папе, т.е. кальвинистов) и папоманов. Некогда папефиги были веселы и богаты, но однажды их угораздило показать папе фигу, и тогда папоманы вторглись на их остров и разорили его. Зато папоманы чувствуют себя отлично. Они покланяются папским Декреталиям.
Как известно, сборник папских постановлений, носящий это название, односторонним решением пап был объявлен источником канонического права, и именно Декреталии санкционировали всякого рода вымогательства курии; Благодаря их «златекучей энергии» Франция ежегодно отдавала Риму в виде дани четыреста тысяч дукатов.
На этом заканчивается четвертая книга.
Вскоре после ее окончания король заключил мир с папой, и Рабле, предчувствовавший это, перед самым окончанием книги поспешил скрыться. Книга эта, как и три предыдущие, была осуждена, а Рабле вернулся в Париж и умер там во второй половине 1553г. В 1562г. появилась в печати «пятая книга» под названием «Остров звонкий». Скорее всего, перу Ф.
Рабле принадлежат лишь наброски, весь текст написан, возможно, каким-нибудь его другом или последователем. В художественном плане эта книга уступает четырем книгам Рабле, в ней слишком уж много аллегорий и резких нападок на церковь. Впрочем, когда она издавалась, было сравнительно безопасное время.
Верх взяли войны гугенотов, и проблемы Декреталий и Острова Звонкого отошли на второй план.
Рабле – ученый и гуманист. Он и филолог и естествовед, а кроме того, он представители словесности, как необходимого орудия для овладения материальным миром и для пропаганды.
Проза Рабле рассчитана на массового, демократического писателя, и завоевать его Рабле хотел именно смехом. «Поэтому смех его особенный. Так смеяться, как он не умел никто.
Это оглушительный, раскатистый смех во все горло, который понятен каждому, и потому обладает огромной заразительностью, от которого рушится все, над чем он разражается, смех здоровый, освежающий и очищающий атмосферу. Так смеялся у Чосера Мельник, у Пульчи – Морганте.
Так будет смеяться Санчо Панса. Так смеются люди из народа. И Рабле знает, чем можно вызвать такой смех у народа». (вступ ст. А.Дживелегова М.:Правда).
Рабле, обладая особым чувством слова и яркой сатирой, описал массу замечательных персонажей, живых, неувядающих образов. Все он – достойные плоды пера Рабле, но все-таки из этой славной компании выделяются два самых ярких – Панург и брат Жан.
Панург – типичный городской житель, порождение улиц ренессанского города. Он не глуп, дерзок, упрям, в нем силен дух авантюризма и озорства, а кроме того, он студент-недоучка и голова его завалена кучей разнообразных знаний.
О его добродетельности и честности говорит тот факт, что он знал массу способов добывания денег, из которым самым честным было воровство. Настоящей, крепкой устойчивости в его натуре нет.
Он может в критическую минуту пасть духом и превратиться в жалкого труса, который только и способен восклицать: «О! Горе мне, горе», как это было в эпизоде о разыгравшейся буре. Панург задолго до встречи с Пантагрюэлем отбросил в сторону этические принципы и общественную мораль, в нем прочно сложился характер плута и эгоиста.
Он пародия на среднестатистического городского бродяжку, каких полным-полно бродило по свету. Но в то же время он не лишен какого-то большого обаяния, которым сам зачастую любуется и на которое надеется в критических ситуациях. Но самое главное, что он предчувствует лучшее будущее, в котором такие, как он будут иметь место под солнцем.
Панург нужен не только Пантагрюэлю, но и самому Рабле. Великому писателю нужен его острый язык, его дерзость, его умение выставлять в смешном виде все то, с чем боролись гуманисты.
Другой яркий образ в романе – брат Жан, приятель Гаргантюа. Это тоже человек из народа, веселый и обходительный. У него мозолистые руки, изворотливый ум, масса энергии. Он привык труду, никогда не тратит время в пустую.
Даже в то время, когда, стоя на клиросе, он поет за панихидой или заутреней, он мастерит тетиву для арбалета, оттачивает стрелы, плетет сети и силки для кроликов. По поводу соблюдения поста и целомудренности у брата Жана свои соображения: «Из всех рыб, не считая линя,… лучше всего крылышко куропатки или же окорочек монашки».
Когда враги вторглись в утопию, Жан превратился в богатыря и разнес «в пух и прах» неприятеля, проявив чудеса храбрости. По поводу основного своего занятия, монашества, то тут брат Жан не питает особых идей. Рясу он носит по привычке, а спится ему лучше всего на проповеди или молитве.
Во французской литературе эпохи возражения не найти другого такого яркого и привлекательного изображения простолюдина, любящего жизнь и способного на подвиг.
Общий друг Панурга и брата Жана – Пантагрюэль. С первого появления он в центре рассказа, хотя иногда и уступает передние планы другим. Уравновешенный, мудрый, ученый, гуманный, он обо всем успел подумать и составить мнение.
Его спокойное, веское слово всегда вносит умиротворение в самые горячие споры, осаживает пылкие порывы брата Жана и хитроумные планы Панурга. В нем Рабле выразил свой идеал монарха, и, быть может, человека. Пантагрюэль не похож ни на одного из реально существующих монархов.
И Франциска и Генриха II он далеко превосходит по своим качествам. Пантагрюэль великан и по росту и по своим достоинствам.
Роман Рабле – крупнейший памятник французского Ренессанса. Великое произведение этого борца за новое общество, художника и мыслителя, имеет полное право считаться национальным и мировым шедевром.
Роман создан в эпоху Возрождения – время, когда мир закончил свое политическое объединение и создавал новую, весьма отличную от старой, культуру.
Роман писался на стыке эпох, во время перемен и потрясений, и отражает все противоречия и недочеты, существовавшие в жизни.
В мировой литературе роман по праву занимает одной из самых почетных мест. Многие крупнейшие писатели восторгались им, шли за ним, учились у него и реализму и сатире, учились смеяться, ведь смех Рабле вселяет веру в конечное торжество прогресса и разума. В его смехе всегда звучат победные нотки.
Список используемой литературы.
- Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – М.: Правда, 1981.
- Зарубежная литература. Эпоха Возрождения. Сост. Б.И.Пуришев. Москва, «Просвещение» 1976.
- Б.И.Пуришев. Литература эпохи Возрождение. Курс лекций. Москва «Высшая школа» 1996.
- История зарубежной литературы Раннее средневековье и Возрождение под общей ред. В.М.Жирмунского Учпедгиз Москва 1959.
- Энциклопедический словарь юного литературоведа Москва «Педагогика» 1987.
Дата добавления: 24.08.2000
Анализ романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Вселенная таит в себе множество загадок.
Строение и особенности различных космических объектов, возможность межпланетных путешествий привлекают внимание не только ученых, но и любителей научной фантастики.
Естественно, наибольшей привлекательностью обладает то, что имеет уникальные свойства, что, в силу разных обстоятельств, недостаточно исследовано. К подобным объектам относятся чёрные дыры.
Основные темы
Автор обличает извечные человеческие пороки и высмеивает слабости, недостатки и проблемы своего времени.
Излюбленными объектами для насмешек Рабле являются церковь и католический институт монашества, что неудивительно — он знал о лени, невежестве, алчности, ханжестве и лицемерии духовного сословия не понаслышке, ведь сам в молодости жил в монастыре. Кроме того, известно, что Рабле был медиком, значит, имел рациональное мышление и живой ум, а не зашоренное сознание фанатика.
Досталось от его пера и средневековой схоластике, оторванной от той реальности, которую во всех ее проявлениях так любят главные герои.
Слепая вера и религиозное лицемерие вызывали у Рабле такое неприятие, что он не постеснялся замахнуться даже на Священное писание, кое-какие эпизоды из которого ловко спародировал в романе.
Так что, немудрено, что все части «Гаргантюа и Пантагрюэля» были осуждены богословским факультетом Сорбонны как еретические.
Гаргантюа и Пантагрюэль
Глава XXIII
О мет о де, применявшейся Понократом, благодаря которой у Гаргантюа не пропадало зря ни одного часа
Франц Кафка, “Замок”: краткое содержание и отзывы о книге
Увидев, какой неправильный образ жизни ведет Гаргантюа, Понократ решился обучить его наукам иначе, однако ж на первых порах не нарушил заведенного порядка, ибо он полагал, что без сильного потрясения природа не терпит внезапных перемен. Чтобы у него лучше пошло дело, Понократ обратился к одному сведущему врачу того времени, магистру Теодору, с просьбой, не может ли он наставить Гаргантюа на путь истинный; магистр по всем правилам медицины дал Гаргантюа антикирской чемерицы и с помощью этого снадобья излечил его больной мозг и очистил от всякой скверны. Тем же самым способом Понократ заставил Гаргантюа забыть все, чему его научили прежние воспитатели, — так же точно поступал Тимофей с теми из своих учеников, которые прежде брали уроки у других музыкантов.
Чтобы вернее достигнуть своей цели, Понократ ввел Гаргантюа в общество местных ученых, соревнование с коими должно было поднять его дух и усилить в нем желание заниматься по-иному и отличиться.
Затем он составил план занятий таким образом, что Гаргантюа не терял зря ни часу: все его время уходило на приобретение полезных знаний.
Итак, вставал Гаргантюа около четырех часов утра.
В то время как его растирали, он должен был прослушать несколько страниц из Священного писания, которое ему читали громко и внятно, с особым выражением, для каковой цели был нанят юный паж по имени Анагност[150], родом из Баше.
Содержание читаемых отрывков часто оказывало на Гаргантюа такое действие, что он проникался особым благоговением и любовью к Богу, славил Его и молился Ему, ибо Священное писание открывало перед ним Его величие и мудрость неизреченную.
Затем Гаргантюа отправлялся в одно место, дабы извергнуть из себя экскременты. Там наставник повторял с ним прочитанное и разъяснял все, что было ему непонятно и трудно.[151]
На возвратном пути они наблюдали, в каком состоянии находится небесная сфера, такая ли она, как была вчера вечером, и определяли, под каким знаком зодиака восходит сегодня солнце и под каким луна.
После этого Гаргантюа одевали, причесывали, завивали, наряжали, опрыскивали духами и в течение всего этого времени повторяли с ним заданные накануне уроки. Он отвечал их наизусть и тут же старался применить к каким-либо случаям из жизни; продолжалось это часа два-три и обыкновенно кончалось к тому времени, когда он был совсем одет.
Затем три часа он слушал чтение.
После этого выходили на воздух и, по дороге обсуждая содержание прочитанного, отправлялись ради гимнастических упражнений в Брак или же шли в луга и там играли в мяч, в лапту, в пиль тригон, столь же искусно развивая телесные силы, как только что развивали силы духовные.
В играх этих не было ничего принудительного: они бросали партию когда хотели и обыкновенно прекращали игру чуть только, бывало, вспотеют или же утомятся. Сухо-насухо обтерев все тело, они меняли сорочки и гуляющей походкой шли узнать, не готов ли обед. В ожидании обеда они внятно и с выражением читали наизусть изречения, запомнившиеся им из сегодняшнего урока.
Наконец появлялся и господин Аппетит, и все во благовремении садились за стол.
В начале обеда читалась вслух какая-нибудь занимательная повесть о славных делах старины, — читалась до тех пор, пока Гаргантюа не принимался за вино.
Потом, если была охота, чтение продолжалось, а не то так завязывался веселый общий разговор; при этом в первые месяцы речь шла о свойствах, особенностях, полезности и происхождении всего, что подавалось на стол: хлеба, вина, воды, соли, мяса, рыбы, плодов, трав, корнеплодов, а равно и о том, как из них приготовляются кушанья. Попутно Гаргантюа выучил в короткий срок соответствующие места из Плиния, Афинея, Диоскорида, Юлия Поллукса, Галена, Порфирия, Оппиана, Полибия, Гелиодора, Аристотеля, Элиана и других. Чтобы себя проверить, сотрапезники часто во время таких бесед клали перед собой на стол книги вышепоименованных авторов. И все это с такой силой врезалось в память Гаргантюа и запечатлевалось в ней, что не было в то время врача, который знал хотя бы половину того, что знал он.
Далее разговор возвращался к утреннему уроку, а потом, закусив вареньем из айвы, Гаргантюа чистил себе зубы стволом мастикового дерева, ополаскивал руки и глаза холодной водой, после чего благодарил Бога в прекрасных песнопениях, прославлявших благоутробие его и милосердие. Затем приносились карты, но не для игры, а для всякого рода остроумных забав, основанных всецело на арифметике.
Благодаря этому Гаргантюа возымел особое пристрастие к числам, и каждый день после обеда и после ужина он с таким увлечением занимался арифметикой, с каким прежде играл в кости или же в карты.
В конце концов он так хорошо усвоил ее теоретически и практически, что даже английский ученый Тунстал[152], коему принадлежит обширный труд, посвященный арифметике, принужден был сознаться, что по сравнению с Гаргантюа он, право, смыслит в ней столько же, сколько в верхненемецком языке.
И не только в арифметике, — Гаргантюа оказывал успехи и в других математических науках, как-то: в геометрии, астрономии и музыке. В то время как их желудки усваивали и переваривали пищу, они чертили множество забавных геометрических фигур, а заодно изучали астрономические законы.
- Эпоха, культура, философия
- Гуманизм в Италии
- Начало итальянского гуманизма
- Платонизм ренессенса
- Аристотелизм ренессанса
- Реформация
- Гуманисты заальпийских европейских стран
- Натурфилософия ренессанса и новое естествознание
- Новое естествознание
- Философия природы
- Социальные теории
- Идеология централизованного государства
- Теория естественного права
- Предшественники утопического социализма
^
Эпоха, культура, философия
Эпоха, культура, философия. Ренессанс определяется как исторический процесс идейного и культурного развития накануне ранних буржуазных революций, имеющий самобытную ценность. Его элементы начинают проявляться на поздней фазе феодализма и обусловлены начинающимся разложением феодальной системы. Весь процесс длится вплоть до ранних буржуазных революций.
Ф. Энгельс подчеркивал, что «Ренессанс в своей европейской форме» основывается «на всеобщем разложении феодализма и наступлении городов», оценивал его как «величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством…».
В развитых странах Европы уже на переломе XII и XIII вв. в связи с развитием ремесел и торговли, с расцветом городов происходит рост производительности труда. Город представлял силу, благодаря которой феодализм пришел к вершинам своей экономической зрелости, но вместе с тем в росте городов проявлялись черты, которые переходили за рамки феодального строя. С прогрессирующим экономическим развитием городов связан процесс быстрого накопления торгового и ростовщического капитала, а впоследствии возникают зародыши (локальные, ограниченные, неустойчивые) капиталистических производственных отношений. Мануфактуры были, однако, сначала скорее исключением, чем правилом. В сущности Ренессанс является периодом преодоления предшествующей длительной стагнации производительных сил.
В феодальной Европе существовали большие различия в экономическом, политическом и культурном развитии городов, поэтому Ренессанс не возникает сразу во всех странах, но прежде всего в самых развитых. Его колыбелью является Италия — почти весь первый период своего развития Ренессанс был «итальянским явлением», и лишь во втором периоде он приобретает европейский характер [В историографии на Западе бытует лапидарная хронология Ренессанса: ранний Ренессанс — Trecento (начиная с 1300 г. XIV в.), зрелый Ренессанс-Quattrocento (XV в.), поздний Ренессанс- Cinquecento (XVI в.). Это деление неосновательно, ибо оно абстрагируется от национальных и иных различий развития Ренессанса в разных странах тогдашней Европы.].
Главные носители идеологии Ренессанса — городские высшие слои, умельцы, мещане, монастырские и церковные интеллектуалы — находились в остром политическом противоборстве со средними и низшими слоями городского населения, презирали бедноту («плебс»), неимущих. В тот период еще не созрели классовые противоречия между мещанами и феодальным дворянством, наоборот, дворяне и даже высокие представители церкви симпатизировали мещанским слоям, положение и образ жизни которых представлялись привлекательными.
Идеология Ренессанса имеет как бы двойную направленность: с одной стороны, антифеодальную, с другой — антиплебейскую. Мещанские верхи стремились к стабилизации и расширению товарно-денежных отношений при помощи реформ государственного аппарата и церкви. Термин «ренессанс» правильно употреблять именно в этой классовой определенности. Главное содержание и даже главную черту этого исторического процесса отражает не дословный перевод этого термина (фр. renaissance — возрождение, т. е. возрождение, новый расцвет античной культуры, науки и философии), а антифеодальное содержание процесса, направленность против церкви, дворянства и всех феодальных порядков.
Для мышления, идеологии и культуры Ренессанса решающей тенденцией, которая характеризует переворот, является переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира. Это процесс диалектический, противоречивый, сложный, осуществляется он повсеместно, но в различных модификациях, вариантах, формах.
Ренессанс охватывает ту фазу истории, в которой христианская религия уже не имеет доминирующей, монолитной позиции. Этот переворот совершается прежде всего в религиозных рядах; ни в философии, ни в искусстве или литературе сразу не устраняется существовавший столетиями традиционный образ мыслей.
В борьбе со средневековым теократизмом на первый план культуры Ренессанса выступают гуманистические, антропоцентрические мотивы. Презрение к земному естеству заменяется признанием творческих способностей человека, разума, стремления к земному счастью. Реализация человечности предполагает освоение достижений культурного богатства прошлого, поэтому гуманизм Ренессанса побуждает интерес к античному культурному наследию, к овладению многоликим богатством древней философии вновь и поиному открываются Платон и Аристотель, а также неоплатоники, стоики, эпикурейцы, Цицерон и др Их философия рассматривается в историческом контексте. Ренессанс — это прежде всего свободное осмысление произведений античности, отказ от готовых и неизменных истин. Вместо надындивидуального понятия истины самой личности предоставляются возможность и право решать, что истинно, а что нет. Древние философы принимаются скорее как союзники, чем «высшая инстанция». Ученые, философы уже выступают не как представители закрытых школ, но как отдельные исследователи. Этому соответствовали новые формы философского объяснения, индивидуального стиля литературной обработки. Как реакция на схоластическую измельченность и сложность повсеместно наблюдалось стремление к более понятному изложению. Против прежнего схематизма и априористических спекуляций больше учитывается реальность, внимание сосредоточивается на вопросах, которые имеют практическое значение и пользу.
Однако было бы неправильным идеализировать гуманизм Ренессанса и не замечать его внутренних противоречий, которые в конце концов отвечают его исторической обусловленности XIII–XV вв. Границы эти зримо проявляются в элитарности, в «аристократических» тенденциях. Так, гуманистические идеи нравственности были предназначены высшим социальным кругам и классам, имевшим возможность получить образование. Люди, которые провозглашали гуманизм, имели доступ к античной культуре и философии, знали языки (знание латинского языка, литературы было существенным признаком Ренессанса). Нельзя забывать, что гуманизм Ренессанса с самого начала резко противоречил аверроизму (в некоторых работах излагается мысль, что итальянский гуманизм является католической реакцией на ученый аверроизм), ибо гуманисты прежде всего подчеркивали субъективную, активную, практическую сторону познания.
Поворот к антропоцентризму нельзя здесь понимать упрощенно, как мгновенно побеждающее действие или как некое «прозрачно чистое» выражение материалистических воззрений. Суть в том, что гуманизм Ренессанса проявлялся в революционных идеях, обращенных на внутреннюю, земную «божественность» человека, в отказе от внешней «институциональной» истины божьей, в привлечении человека к жизненной активности, в утверждении веры человека в себя. Но и это новое, несомненно прогрессивное, будучи исторически обусловленным, могло проявиться лишь в той или иной форме, определяемой рамками религии.
Часто дискутируется проблема отношения между Ренессансом и Реформацией. Иногда упрощенно утверждается, что между ними существует противоположность, состоящая в том, что Ренессанс — явление международное, общеевропейское, тогда как Реформация — явление лишь национальное (немецкое). Существенным, однако, является то, что Ренессанс и Реформация имеют общую антифеодальную направленность, в их основе лежит антифеодальное движение, носителем которого в разлагающемся феодальном обществе были городские слои общества. Если Ренессанс выдвигает требование преобразования общества путем расширения светского образования, то Реформация остается в рамках средневекового мира мыслей человека и в этих границах предлагает ему новый, упрощенный путь к богу. Идеи Ренессанса могли активизировать лишь верхние буржуазные слои (в сущности не было никакого гуманистического варианта, выражающего интересы средних и низших слоев); напротив, идеи изменения церкви и ее учения — как главное содержание Реформации — были способны мобилизовать средние и низшие слои общества, более привязанные к религиозным представлениям в силу условий своего существования.
^
Гуманизм в Италии
Духовное и культурное преобразование Западной Европы, проходящее в различных условиях, имеет свои характерные черты и периоды. В первом, раннем периоде, т. е. в XIV–XV вв., новая культура имеет прежде всего «гуманистический» характер и сосредоточивается главным образом в Италии; в XVI и в значительной мере в XVII в. она имеет главным образом естественнонаучную направленность. Гуманизм Ренессанса в этот период переходит в другие европейские страны.
Гуманизм (лат. humanus — человеческий) в общем смысле слова означает стремление к человечности, к созданию условий для достойной человека жизни. Гуманизм начинается тогда, когда человек начинает рассуждать о самом себе, о своей роли в мире, о своей сущности и предназначении, о смысле и цели своего бытия. Эти рассуждения имеют всегда конкретные исторические и социальные предпосылки, гуманизм по своей сущности всегда выражает определенные социальные, классовые интересы.
В узком смысле слова гуманизм определяется как идейное движение, которое сформировалось в период Ренессанса и содержанием которого является изучение и распространение античных языков, литературы, искусства и культуры. Значение гуманистов надо рассматривать не только в связи с развитием философского мышления, но и с исследовательской работой по изучению старых текстов
[Итальянские гуманисты собирали произведения древних авторов при помощи греков, которые в это время оседали в Италии. Петрарка, например, встречался с греческим ученым-монахом Ваарламом, византийский ученый-гуманист Хризолорас привез в Италию ряд греческих литературных памятников. Возрастающий интерес к изучению древней литературы поддерживали и городские патрицианские роды. В некоторых городах возникали культурные центры, в которых были сосредоточены античные тексты и памятники.].
Поэтому итальянский гуманизм характеризуется как литературный, филологический. В историографии значение античного наследия иногда односторонне абсолютизируется. Делается вывод, что понятие «гуманизм» относится лишь к культурному и образовательному воздействию греческой и римской культуры. Однако в таком понимании гуманизм относится только к духовной сфере
[Примером одностороннего культурно-духовного понимания гуманизма является идея так называемого, христианского Запада, которая сегодня в модифицированной форме вновь появляется в концепциях католического клерикализма. Согласно этой идее, западноевропейский (или европейский) гуманизм покоится на двух столпах: на гуманистическом наследии античного мира и на христианстве, которое является якобы историческим ферментом сохранения и развития традиционных духовных гуманистических ценностей и для современности.], выхолащивается его практический, динамический, воинствующий момент. Этот момент нельзя выпускать из поля зрения, он всегда в наличии, хотя и по-разному проявляется в конкретных условиях. Относится это и к итальянскому гуманизму, который был выражением конкретного общественного движения и представлял в этом смысле огромный исторический прогресс, несмотря на свою историческую обусловленность и ограниченность.
^
Начало итальянского гуманизма
Данте Алигьери (1265–1321). Ф. Энгельс характеризовал его как колоссальную фигуру, как последнего поэта средневековья и вместе с тем первого поэта Нового времени.
Свое гуманистическое мировоззрение Данте изложил прежде всего в бессмертной «Комедии» [Боккаччо переименовал ее в «Божественную комедию»], затем в трактатах «Пир» и «Монархия». Его литературное и идейное творчество составляют единство. Элементы нового, нарождающегося мировоззрения Ренессанса содержатся в его поэтическом творчестве. Христианскую догматику Данте принимает как неизменную истину, однако дает новое изложение отношения божественного и человеческого. Он не противопоставляет эти начала, но видит их во взаимном единстве. Бога нельзя противопоставлять творческим силам человека. Человек детерминирован двояким способом: с одной стороны, богом, с другой — природой. К блаженству, таким образом, ведут два пути: философское поучение, т. е. человеческий разум, и «духовное поучение», исходящее от святого духа. Подчеркивание божественного в человеке выступает как отклонение от средневековых традиций, за это Данте был подвергнут критике и осуждался томистами.
Гуманизм Данте антиаскетичен, он полон веры в силы человека. Человек сам ответствен за свое благо, решающим здесь являются его личные качества, но ни в коем случае не богатство или унаследованное положение [О Дантовой «Комедии» Ф. К. Шалда написал: «Не знаю во всей мировой литературе произведения, которое несло бы в себе больше любви к земле и к телесности, чем песнопения Рая. Не слушайте тех, кто говорит, что Дантово произведение аскетично или загробно. Смысл его как раз обратный. Данте, мыслит как поэт конкретности, его божественный стих полон земных реальностей. Даже в момент наибольшего отторжения мысли он не ощущает земное как бремя или помеху…» (Soubor dila F. X. Saldy. Sv. 9. Praha. 1948. S. 85).].
Данте испытал влияние латинского аверроизма, хорошо знал Сигера Брабантского, не были ему чужды и неоплатоновские тенденции средневековья, исходившие от Псевдо-Дионисия Ареопагита. Знакомство с учением Аверроэса о возможностях и об активности разума приводит Данте к пониманию того, что задачей человечества является реализация возможностей разума, прежде всего теоретического, воплощение их в практической деятельности. Политический, антицерковный смысл своей позиции он разрабатывает в «Монархии». Церковь должна заниматься вопросами «вечности», земные же дела являются уделом людей, которые стремятся к созданию общественного устройства, помогающего реализации человеческого существования, основанного на счастье, блаженстве, всеобщем и прочном мире. Данте принадлежал к тем идеологам, которые свой гуманизм соединяли с теорией так называемой двойственной истины.
Концепция Данте содержит много наивных и схоластических аргументов, но она сильна своей основополагающей идеей: все человеческое (и политика) должно быть подчинено человеческому разуму.
Один из представителей итальянской гуманистической мысли — Марсилий из Падуи (1278–1348) — сформулировал в своем политическом учении (трактат «Защитник мира») республиканские идеи, предугадав события буржуазных революций XVII–XVIII столетий.
Он пришел к выводу, что ни церковь, ни государство не имеют божественной природы, но являются различными формами человеческой власти и общественной организации людей. Как и Данте, он исходил из двух основных предпосылок человеческого счастья: мира и власти монарха. Главенство принадлежит народу, граждане имеют законодательную власть, свою волю они выражают на собраниях голосованием. Идея о том, что народ является источником всякой власти, отличает его концепцию от схоластической средневековой и приближается к более поздним концепциям об общественном договоре.
Марсилий черпает из трудов Аристотеля, но совершенно иным образом, чем средневековые схоласты. Аристотель является для него единственным источником рационального познания. Библию он использует лишь в качестве иллюстрации. Хотя Марсилий был убежденным католиком, идеологом францисканского ордена, его учение о естественной природе власти государства объективно помогало разрушить схоласти-ко-феодальную иерархию ценностей.
Франческо Петрарка (1304–1374) считается «первым гуманистом», его называют «отцом гуманизма». Великий пропагандист античной культуры собирал подлинные латинские тексты. Его собрание классических латинских текстов было в свое время уникальным.
К античной культуре и образованию он подходил исторически, не усматривал в них лишь прошедший золотой век и потерянный рай, но старался наследие античности наиболее точно и понятно донести до современников. Греции он предпочитал Рим и не сомневался, что Рим является классическим образцом цивилизации вообще. Интересовался он и средневековыми традициями, и Августином [Петрарка — один из творцов новой европейской лирики, автор знаменитых сонетов к Лауре, патриотических стихов и стихов гневных, обращенных против папской курии. В его поэзии отчетливо звучат гуманистические идеи Нового времени. Петрарка вместе с Данте и Боккаччо является основателем итальянской (италоязычной) литературы.].
Данте еще принимал «вечность» в понимании схоластов, Петрарка же ее полностью отвергает. Его полемический трактат «О собственном незнании и незнании других» направлен против аверроизма, а учение о двойственной истине существенно отличается от анти-аверроистской полемики Фомы Аквинского, которого он, впрочем, вообще в своем трактате не упоминает. Он отвергал культ авторитета, однако при этом не отвергал Аристотеля, но высмеивал «глупых аристотели-ков», их схоластический, надуманный способ ведения споров. Утверждал, что университеты позднего средневековья приходят в упадок, их преподаватели лишены набожности, вредят доброму имени теологии, которое она снискала в эпоху «отцов церкви». Подчеркиванием собственного незнания он выражает идею независимости своего мышления от схоластической университетской учености.
Христианство он принимает, но лишь в его несхоластической интерпретации. Он склоняется также к идее активной самореализации человека, его антропоцентризм выступает как противовес средневековому геоцентризму. Интересовали Петрарку прежде всего внутренние, этические проблемы человека, что является признаком индивидуализма эпохи Ренессанса. В философском диалоге «Моя тайна» он вскрывает глубочайшие внутренние конфликты человека и способы их преодоления. Творчество Петрарки отличается земным характером, полным пониманием радостей и страстей человека [Петрарка повлиял и на развитие гуманизма в Чехии; в 1356 г. он посетил Прагу, известна его переписка с Карлом IV, Арноштом из Пардубиц, Яном из Стржеды, относящаяся к 1351-1368 гг.].
Среди тех, кто способствовал созданию новых, гуманистических традиций в итальянской культуре, был друг Петрарки, флорентиец Джованни Боккаччо (1313–1375), который в своем «Декамероне» высмеивал глупое и лживое духовенство, восхвалял разум, энергию, полнокровие нового городского класса. В его творчестве отразились типичные черты Ренессанса: земной характер, телесная чувственность, практический утилитаризм, который он выражает живым, лишенным аллегорий языком.
К последователям Петрарки в области анализа старых трактатов принадлежит, между прочим, Колуччио Салутати (1331–1406), который собирал старые тексты и снабжал их аннотациями. Он имел большое влияние на последующих флорентийских гуманистов, например Паджио Браччиолини и Леонардо Бруни. Салутати пробуждает интерес к изучению греческой литературы. По его приглашению в 1397 г. во Флоренцию прибывает византийский ученый Мануэль Хризо-лорас, чтобы преподавать греческий язык. Он привозит с собой греческую литературу и первым в Европе пишет учебник греческой грамматики. Все это имело большое значение для развития итальянского гуманизма.
К выдающимся гуманистам XV в. принадлежит и Лоренцо Валла (1407–1457), замечательный филолог, один из основателей метода сравнительного анализа, который он применял не только к трактатам Тита Ливия, но и к Новому завету. Он отвергал схоластическую логику, выдвигая против нее риторизм Цицерона как способ, помогающий человеку по-новому мыслить и дискутировать. Большую огласку получило и его раскрытие неподлинности так называемого Дара Константина — документа, который был известен как юридическая основа светской власти папства. Валла опровергает его подлинность, приводя как исторические, юридические, так и филологические аргументы. В этике Валла близок к эпикуреизму и предпочитает его стоицизму. Он подчеркивает естественность человека, полагает, что добродетельным является все, что относится к жизненно важному инстинкту самосохранения, поэтому никакое наслаждение не является безнравственным. Этика Баллы является индивидуалистической. Большое значение имеет и то, что обновление и оживление эпикуреизма возвращают в философское сознание эпохи забытый античный атомизм.
^
Платонизм ренессенса
Гуманизм Ренессанса в Италии в большой степени ориентировался на Платона. Эта тенденция, опирающаяся на расширяющиеся возможности познания подлинных произведений античности, была мотивирована необходимостью выступить против схоластического Аристотеля, его интерпретации томизмом. Платон в антисхоластической философии Ренессанса становится символом прогресса [В представлении платоников Ренессанса Аристотель был лишь «физиком», в то время как Платон — «философом», «мудрецом» (sapiens).], его философия считается синтезом всей философии прошлого, а также теологии — греческой науки, включающей орфизм, пифагореизм и восточные доктрины.
Платонизм Ренессанса представлял Платона в некоем христианизированном смысле в духе воззрений Августина и Апулея [Луций Апулей- римский писатель, живший примерно в 125-180 гг. Наилучшее его произведение- «Метаморфозы», называемое также «Золотой осел».]. Во флорентийской платоновской Академии Платон считался «богом среди философов», подчеркивалось большое значение его идей для христианства, в частности с точки зрения философской разработки концепции двойственной природы человека. В вопросе об отношении философии и религии флорентийский платонизм отстаивал понимание, согласно которому философия является надежным знанием о человеке, о мире и о боге, которое наиболее полно представлено в творчестве Платона и его последователей. Все платоники считали религию философско-теологической доктриной (также и культовым институтом).
Для интеграции Платона в эту эпоху определенную роль играли и неоплатоновские традиции в духе Плотина. Нельзя также обойти тот факт, что при общей конфронтации платоников и аристотеликов некоторые представители платонизма выступают и в духе примирения Платона с Аристотелем. Этот подход, присущий прежде всего византийским традициям, и был перенесен на Запад [В частности, в лице кардинала Иоанна Бессариона (1395-1472), ученика Платона, отстаивавшего идеи своего учителя и в то же время допускавшего возможность примирения Платона и Аристотеля (он переводил работы Аристотеля), против чего выступал Пикоделла Мирандола.]. По существу споры между платонизмом и аристотелизмом периода Ренессанса в XV в. велись не совсем четко, допускались компромиссы.
Оживлению платонизма в Италии способствовал прежде всего поздний византийский неоплатоник Геор-гиос Гемистос (1360–1425), который из уважения к Платону принял имя Плетон. Происходил он из Константинополя, поселился во Флоренции, где проповедовал идеи Платона, при этом резко отвергая Аристотеля. Его мышление носило эллинистический характер, он хотел преодолеть традиционное христианство при помощи античного языческого политеизма. Интерес к средневековому неоплатонизму приводит его к восточному мистицизму, каббале и зороастризму.
Он учил, что мир зависит от бога, но не был им сотворен во времени, ибо существует вечно. Идея христианского творения из ничего, а также «свободная воля» творца в этом случае не имеют смысла. Переход от божественного принципа к миру имеет характер детерминации. Не только вселенная, но и сам бог подчиняются необходимости. Плетон здесь не ссылается на неоплатоновскую идею эманации. В объяснения необходимого перехода к миру он прибегает к помощи языческого греческого пантеона богов. Зевс, стоящий во главе, является абсолютным бытием. Мир, однако, образуется не непосредственно, но через посредство особой субстанции природы, которая также имеет божественный характер. В наметившемся признании бесконечности бога и природы скрываются пантеистические тенденции.
Мир в своем гармоническом единстве прекрасен, в этом состоит его божественность. Призвание человека — быть «средним звеном», соединением этой гармоничности. И человек является «божественным», если он реализует в себе и в отношении к природе, к миру эту красоту гармонии — это и есть путь его нравственного совершенствования.
Философия Платона в Италии была принята благосклонно. Он впервые представил неоплатонизм не в средневековой рясе или в реконструированных системах древности, но в оригинальной, живой философской форме. Действительно новый синтез не может исходить лишь из древнего язычества, но должен принимать во внимание традиции уже почти пятьсот лет существующего развития христианства.
Время наибольшего расцвета итальянского платонизма связано с уже упоминавшейся флорентийской платоновской Академией, которую в 1459 т. по предложению Плетона основал Козимо Медичи. Эта Академия, а также и другие культурные общества, возникшие в других городах тогдашней Италии, объединяли видных философов, поэтов, художников, дипломатов и политиков того времени. Характер этих объединений полностью отличался от характера официальных философских центров, университетов и монастырских школ; здесь не читались лекции, но велись беседы. Вилла в Кареджии, которую Козимо предоставил платоновской Академии [Об этом упоминает Н. Макиавелли: «Козимо был также доброжелателем и защитником литераторов. Он пригласил во Флоренцию известного греческого ученого Аргиропулоса, чтобы он обучал молодежь греческому языку и другим наукам. Содержал также в своем доме Марсилио Фичино, приверженца платоновской философии, которого весьма уважал. Чтобы Фичино мог беспрепятственно предаваться изучению наук и чтобы с ним можно было часто встречаться, Козимо подарил ему имение поблизости от своего сельского владения в Кареджии» (Machiavelli N. Florentske letopisy. Praha, 1975. S. 341-342).], становится в то время культурным центром не только Италии, но и всей ученой Европы. Академия достигла своего наибольшего расцвета при Марсилио Фичино и Пико дел л а Мирандола.
Видной фигурой среди платоников XV столетия был Марсилио Фичино (1422–1495), выделяясь своей деятельностью по переводам. Он не только перевел всего Платона на латынь, но и познакомился с античным неоплатонизмом [Не случайно он начал с перевода так называемого «Corpus Hermeticum» — сборника анонимных греческих теологическо-философских трактатов, которые создавались, вероятно, постепенно в ходе I в. до н. э. и I в. н. э. Авторство этого сборника приписывалось Гермесу Трисмегисту (греческое имя египетского бога Тота — бога письма, чисел и книг). Сборник сохранился в сокращенном виде, его тексты местами нарушены. Всего в нем изложено 18 текстов и тайных религиозных, астрологических магических и мистических учений. Для Фичино и его современников эти тексты были документом древней мудрости, из которых вырастала платоновская религиозно-философская традиция.], переводил Плотина, Ямвлиха, Порфирия, Прокла, интересовался и христианским неоплатонизмом, заново перевел ареопагитику.
В своих комментариях он развивал идеи неоплатонизма. Его главным произведением является «Платоновская теология о бессмертии души», другие трактаты имеют гораздо меньшее значение. Платонизм Фичино направлен против томистской схоластики. Философия не служанка теологии, но ее «сестра»; философия совершенствует теологию, она является «ученой религией» [Фичино был горячо верующим католиком, при Лоренцо Медичи он становится духовником и отпускает грехи Платону.]; совершенство теологии зависит от степени ее философского уровня.
— К вопросу об отношениях бога и мира он подходит с пантеистических позиций. Его пантеизм имеет мистическую направленность: бог — первопричина иерархически построенного мира, исходная точка, содержащая в себе весь мир; в мире он постоянно проявляется в динамических силах и при их пбсредстве. Это представление, очевидно, не имеет ничего общего со средневековым креационизмом и дуализмом.
От католической ортодоксии Фичино отклоняется и в утверждении идеи о том, что все религиозные культы и религиозно-философские учения — проявления общей религии (religio universalis). Христианству он придает решающее значение, видит в нем прежде всего наивысшее «законодательство» в этическом плане. Обоснование универсальной религии он находит в положении о том, что идея бога является врожденной, что все происходит от единого совершенного бытия, т. е. от бога, и поэтому должен существовать один культ, одна религия.
К этим взглядам следует прибавить и воззрения Фичино о генезисе религии, начиная с ее древнейших форм и до христианства, которое он считает продолжением и совершенствованием антики. Понятие развития у Фичино открывает возможность дальнейшего философского совершенствования религии, включая христианство. В этом заключается антисхоластическая направленность его идей. Те выводы платоника из Ренессанса, которые как бы предвосхитили Реформацию, указывают также на близость гуманизма Ренессанса и Реформации.
К центральным категориям платонизма Фичино относится «душа». Она обусловливает единство всех звеньев мировой иерархии, сообщает всем вещам и телам движение.
Новая, гуманистическая ориентация Ренессанса наиболее заметно проявляется в его учении о человеке, который в гармонической (а значит, прекрасной иерархии мира занимает первое, и высшее, место [Искусство Ренессанса нашло в философии платоновской Академии, и прежде всего в учении Фичино о прекрасном, свой теоретический фундамент.]. В духе Платона и неоплатонизма Фичино ставит перед человеком задачу — совершенствоваться и тем самым возноситься к наивысшему сущему, к богу. Одним из самых важных моментов этой человеческой деятельности является стремление к свободе. Так же как и Платон, Фичино рассуждает о том, что законодатели и правители должны хорошо знать философию, быть философами.
Наиболее выдающимся членом кружка Марсилио Фичино был Пикоделла Мирандола (1463–1495), который прославился тем, что на беседах в вилле Кареджио выступал с критикой по общим вопросам. Его платонизм был эклектическим. В Падуанском университете он глубоко изучил средневековые философские и теологические традиции, проявил также интерес к падуан-екому аверроизму. Кроме того, познакомился с парижским и оксфордским номинализмом. Изучал он и восточную философию, в частности мистику и каббалу.
В его творчестве отразились типичная жизнь и деятельность образованного гуманиста. Он намеревался представить на римском собрании ученых всего мира трактат («Соnclusiones рhilosорhiсае, саbаlisticае еt thеоlоgiсае»), содержащий 900 тезисов обо всем, что было познано. В этих тезисах он выразил и некоторые новые философские взгляды. Однако дискуссия не состоялась, потому что папа большинство тезисов запретил как еретические. Впоследствии Пико преследовался инквизицией.
В его понимании мира заметен пантеизм. Мир устроен иерархически: он состоит из ангельской, небесной и элементарной сфер. Чувственный мир возник не из «ничего», но из высшего бестелесного начала, из «хаоса», неупорядоченность которого «интегрирует» бог. Мир прекрасен в своей сложной гармоничности и противоречивости. Противоречивость мира в том, что, с одной стороны, мир находится вне бога, а с другой — его становление божественно. Бог не существует вне природы, он в ней постоянно присутствует. Здесь речь идет, однако, не о натуралистическом пантеизме, отождествляющем принцип природы и бога. В понимании Пико, бог представляется скорее как завершающий сущность мира.
Смыслом его полемики с «лженаукой», с «пророческой астрологией» было стремление обратить внимание человека на такое проникновение в тайны природы, которое бы было практически действенным, активизировало его и не углублялось в общие абстракции о причинах движения небесных тел и т. д. В его воззрениях на роль так называемой естественной магии обнаруживаются некоторые ценные идеи. Он считал «естественную магию» наукой о практическом познании природных сил, о возможности создания «удивительных вещей» при использовании этих сил.
Судьбу человека определяет не сверхъестественная совокупность звезд, судьба является следствием его естественной свободной активности. В речи «О достоинстве человека» (1486), которую он написал для несостоявшейся дискуссии, говорится о человеке как особом микрокосмосе, который нельзя отождествлять ни с одним из трех «горизонтальных» миров неоплатоновской структуры (элементарный, небесный и ангельский), так как он проникает вертикально через все эти миры. Человек имеет исключительное право на то, чтобы творить свою личность, свое существование собственной волей, свободным и соответствующий выбором. Таким образом, человек отличается от остальной природы и идет к «божественному совершенству». Человек сам творец своего счастья, «fortunae suae ipse faber». Гуманизм Пико антропоцентричен, человека он помещает в центр мира. Человеческая природа существенно отличается от животной, она является более возвышенной, совершенной; человек — это существо, которое способно стремиться к «божественному» совершенству. Эта возможность не дана заранее, но становится, человек сам ее формирует.
^
Аристотелизм ренессанса
Философия Аристотеля только на последней, высшей стадии средневековья была признана наиважнейшим и величайшим заветом антики, и в то же время она была деформирована в целях приспособления к потребностям церковной ортодоксии. Поэтому понятно, что новое мышление Ренессанса осуждало Аристотеля и усматривало в нем главного учителя схоластики. Отвержению Аристотеля способствовало и его оправдание со стороны консервативного ортодоксального католицизма [Помимо прочих прежде всего Георгии Трапезундский, боровшийся против проникновения платонизма в Италию и усматривавший в нем прежде источник всяческой ереси, утверждал, что истинная христианская теология может опираться лишь на Аристотеля. Имел он при этом в виду Аристотеля схоластического, томистского.].
Переход к изучению подлинного Аристотеля является длительным процессом, который связан с общим созреванием философского мышления. Ренессанс выступает как начало этого поворота в истории философии. Аристотелики Ренессанса способствовали этому процессу тем, что критиковали аристотелевский томизм. В рамках этой критики они часто выступали и против аверроизированной формы аристотелизма, которая была несколько ближе к подлинной философии Аристотеля. Возникают две полемизирующие друг с другом школы: александристов, которые сосредоточились вокруг университета в Болонье, и падуанских аверроистов [Александристы в духе греческого комментатора III в. Александра из Афродизиады отрицали бессмертие души, тогда как аверроисты утверждали, что Нус, соучаствующий в мышлении, является нематериальным и бессмертным, душа, однако, как числовая единица смертна. Оба подхода были отвергнуты на соборе в Боневенто при понтификате папы Льва Х в 1512 г.]. Их спор касался прежде всего вопроса о бессмертии души, характерным было, однако, то, что это уже не был спор, ведущийся с позиций защиты средневековых томистских традиций. Таким образом, падение «схоластического» Аристотеля было неотвратимо.
Пьетро Помпонацци (1462–1525} принадлежал к александристам. Его творчество является наглядным доказательством перемены старого, средневекового университетского аристотелизма, превращения его в ренессансный. Его учение сохранило внешнюю форму средневековых традиций, однако содержало уже новую философию, которая отказывалась от схоластической косности.
В рамках теории двойственной истины Помпонацци проводит прогрессивные идеи о независимости философии от теологии; философия должна исходить из, научных принципов, истина является результатом рационального познания. Религию следует сохранить лишь для воспитания народа.
К главным трактатам Помпонацци относятся «О бессмертии души», «О причинах явлений природы», «О судьбе, свободе воли, предопределении и божественном предвидении».
Трактат «О бессмертии души» является результатом длительных рассуждений. Решение вопроса о бессмертии души Помпонацци совпадает с положениями Ренессанса о необходимости естественной этики, отвергающей откровение и чудеса. Он ссылается на учение Аристотеля о зависимости идей от органов чувств, о неотделимости души от тела — душа является материальной и поэтому смертной. Бессмертие души нельзя рационально, философски обосновать, в него можно лишь верить. Человек «бессмертен» лишь потому, что он способен мыслить общими понятиями, абстрагироваться от единичного, частного, отдельного. То, что человек образует представления о нематериальных, бессмертных духовных сущностях, является доказательством различия между человеческой и животной чувственностью, инстинктивностью. Преимуществом человека является не достижение бессмертия, как учат средневековая этика, философия и теология, но возможность достижения счастья и блаженства на основе рационального познания, что является целью и смыслом существования рода человеческого вообще. Этика Помпонацци — антропологическая и светски ориентированная — существенно отличается от христианского аскетизма. Книга «О бессмертии души» вызвала неприязнь клерикалов и была публично сожжена.
Трактат «О причинах явлений природы» указывал путь новому естествознанию. Рациональное, материалистическое объяснение природных процессов и явлений становится актуальным в эпоху, когда в Италии, в Западной и Северной Европе велась «охота на ведьм». Согласно Помпонацци, ангелы и демоны не имеют телесных органов чувств и поэтому не должны ввязываться в дела людей. Эти идеи, несмотря на их наивную аргументацию, обозначали правильное направление поисков, Помпонацци верил, что космическое движение подчиняется всеобщим естественным закономерностям, что все в природе имеет причину. Мир подчинен вечному закону движения, все возникает, изменяется и гибнет. Это приводит к постоянному повторению. Понятие детерминизма у Помпонацци выливается в представление о вечном круговороте движения, о движении по кругу.
В трактате «О судьбе, свободе воли, предопределети и, божественном предвидении» он выражает идею, что случайные события являются проявлением, общей необходимости (она подобна небу или интеллекту), которая выступает как фатум, судьба. Человеческое поведение также определяется отношением причин и следствий. Человек может выбирать, но при этом его выбор обусловлен внешней объективной средой и собственной природой. Помпонацци указывает также на божественное предопределение и личную ответственность индивида: как может бог судить о единичном индивидуальном человеческом поведении, если он является абсолютной причиной всего существующего, а значит, и человека? Христианский бог, таким образом, сам должен бы быть ответствен за грехи, за зло в мире.
Согласно Помпонацци, бог не имеет свободной воли, его «деятельность» строго детерминирована, она сама является естественной, природной необходимостью. И лишь в этом случае он не должен обвиняться в ответственности за мирское зло. Зло также принадлежит к необходимости — борьба добра и зла выражает необходимую противоречивую гармонию мира. С этой точки зрения социальное неравенство лишь релятивно, но в общем принадлежит к целостной, противоречиво проявляющейся гармонии мира. Эти мысли можно оценить как подходы к диалектическому мышлению. Помпонацци отождествляет бога с фатумом, природной необходимостью, что показывает его ориентацию на пантеизм.
Продолжателями идей Помпонацци были прежде всего логик Жакоб (Яков) Забарелла из Падун (1532–1589), Лучилио Вамини (1585–1619) и др. В XVI в. спор между александристами и аверроистами затих, аристотелики приняли компромиссное решение. Среди тех, кто дальше развивали подлинное учение Аристотеля, находился и естествоиспытатель Андреас Цесальпиний (1519–1603), придворный папский лекарь, ученый, который открыл закон кровообращения, систематизатор растительного мира.
^
Реформация
Реформация непосредственно является исторической ситуацией XV и XVI вв., а как понятие исторической науки определяет время, в период которого в Средней и Западной Европе происходит широкое движение народных масс. Особое значение это понятие имеет для исторического определения революционного движения в Германии. Термин «реформация» выражает ту существенную сторону движения, центром которой является революционная критика и атака на монопольное положение католической папской церкви и ее учения в политической, идеологической системе тогдашнего европейского общества. В связи с целым комплексом изменений, возникающих в этой ситуации, Ф. Энгельс определил революционизирующее протекание реформаторского движения как первую решающую битву европейского мещанства против феодализма. Эта характеристика относится к немецкой Крестьянской войне, однако аналогичные революционные черты содержатся в каждом антифеодально ориентированном реформаторском движении, ибо в нем отражаются освободительные интересы наступающего мещанства, зародыша будущей буржуазии. Реформация была международным движением, она не закончилась с поражением Крестьянской войны в Германии, но продолжалась в дальнейшем революционном цикле.
В XVI в. реформаторское движение достигло апогея своего развития. В ряде европейских стран, хотя и разными путями, был осуществлен переход к новой, протестантской церкви. Кое-где мещанство удовлетворилось реформацией католической церкви. XVII век уже не знает Реформации. В последующем развитии постепенно образуются условия для эпохи «классических» буржуазных революций.
Процесс преодоления средневековой схоластики в принципе осуществлялся двояким образом с одной стороны, через Ренессанс, с другой — путем европейской Реформации. Оба течения отличаются друг от друга способом критики средневековой схоластики, однако оба они выражают необходимость гибели средневековой философии и идеологии, выступают проявлением ее кризиса, образуют предпосылки создания основ философии Нового времени.
Для европейского реформаторского движения, для его первых шагов большое значение имеют учения английского реформатора Виклифа и его последователя мастера Яна Гуса. Их учения являются первыми проявлениями реформаторской антифеодальной идеологии. Антифеодальная направленность и вытекающие из нее аспекты учения Нового времени не возникают, однако, как ясно осознанные: они были лишь следствием потребности улучшить отношения в церкви. Эта потребность была очевидной для общества. Вик-лиф и Гус нападали на церковь как на чужеродное, паразитирующее образование; в этом смысле их взгляды совпадают. Под влиянием конкретных условий в учении Гуса подчеркивается социальная и гуманитарная направленность. Воинствующий гуманизм его учения оправдывал выступление народа против верхов.
Целый ряд элементов, предвосхищавших реформу церкви, содержался уже в выступлениях мыслителей Ренессанса. Следовательно, Реформация и Ренессанс неотделимы друг от друга.
Реформаторское движение в лице Мартина Лютера (1483–1546) имело своего выдающегося представителя. Этот немецкий реформатор, основатель немецкого протестантизма, на которого оказали влияние мистика (И. Таулер) и учение Гуса, не был философом и мыслителем. Несмотря на это, импульсивная религиозность его теологии содержала некоторые философские элементы и идеи.
Лютер выступил против церкви как единственного посредника между богом и человеком. Его первое публичное выступление касалось именно этой проблемы, оно было направлено против выдачи отпущений грехов. В свою очередь оно стало сигналом ко всеобщему выступлению против моральной нечистоплотности римской церкви н против католического духовенства вообще. Лютер становится во главе стихийно нарастающего антицерковного движения.
Своей критикой «видимой» церкви и требованием понимания ее как сообщества тех, на кого снизошла божья милость, он выражал точку зрения, согласно которой дело освобождения находится в руках каждого человека. Такая позиция перекликается с идеалом освобождения индивида в Ренессансе. Лютер, однако, не покидает религиозную почву. Наоборот, он подчеркивает чувство вины и греха, а с ними и всю беспомощность индивида, который теперь сам стоит перед богом с просьбой об искуплении. Возможность опасения он усматривает в непосредственной вере в Писание, в слово божие, как оно есть в Евангелии. Поэтому его учение называется евангелическим.
В рамки учения Лютера входит и его изложение предопределения. Бог предопределяет людей к вечному спасению, потому что знает — они уверуют в течение своей жизни. Другими словами, спасение человека не зависит от церковных таинств, обрядов и жертв в пользу церкви, но достигается чистой верой, которая является «божьим даром».
В требовании о том, что не нужно ничего иного, кроме откровенного слова божия, выражено отвращение к рациональному, на котором он выжигает клеймо «чертовой девки». Отсюда и отношение Лютера к философии: слово и разум, теология и философия должны не смешиваться, а ясно различаться. В трактате «К христианскому дворянству немецкой нации» он отвергает языческое учение Аристотеля, ибо оно уводит от истинной христианской веры в откровенное слово, и призывает к запрету изучения книг Аристотеля.
Реформа Лютера, несмотря на относительно прогрессивные черты, имела классовый и исторически ограниченный характер. В сущности она выражала интересы князей и городского богатого патрициата, но не интересы широких масс. Этот мир является юдолью греха и страданий, спасения от которых следует искать в боге. Государство — орудие земного мира, и поэтому оно отмечено грехом. Мирскую несправедливость нельзя искоренить, ее можно лишь терпеть и признавать и подчиняться ей. Христиане должны подчиниться власти, не бунтовать против нее. Взгляды Лютера поддерживали интересы, требующие сильной государственной власти. К. Маркс писал: «…Лютер победил рабство по набожности только тем, что поставил на его место рабство по убеждению».
Сподвижник Лютера Филипп Меланхтон (1497–1560) вновь обратился к старым схоластическим традициям, подчеркнул роль Аристотеля в качестве философской опоры, в которой нуждается протестантская церковь и ее учение. В отличие от Лютера Меланхтон не был способен к живому, темпераментному бою. Его учение характеризовалось консерватизмом и скованностью, носило догматический характер. Первоначальный бунтующий тон лютеранства иссяк, исчезла его мистическая сила. Вновь — теперь уже при протестантизме философия становится служанкой теологии, оживают схоластические традиции.
В первой половине XVI в. лютеранство распространяется в другие страны (Австрию, Скандинавские страны, Прибалтику, частично в Польшу, Венгрию и Францию). Особенно сильно движение Реформации охватило Швейцарию, где с XV в. начали разлагаться старые феодальные отношения, развивалось мануфактурное производство. Швейцарское мещанство, нарождающаяся буржуазия были в отличие от немецкой более последовательными и решительными. Здесь возникают новые направления Реформации: цвинглианство и кальвинизм.
Реформатор Ульрих Цвингли (1484–1531) проводит радикальную реформу церкви: был уничтожен статус священников как особого сословия, церковное имущество передано государству, ликвидированы церковные обряды.
После спада первой волны Реформации (1531) подымается вторая волна, связанная с личностью французского теолога Жана Кальвина (1509–1564), который большую часть своей жизни провел в Швейцарии, где написал свой главный трактат «Наставления в христианской вере». Его догмы выражали интересы самой смелой части тогдашней буржуазии.
Кальвин стоит на тех же позициях, что и Лютер, т. е. земная жизнь — это путь к спасению, в этой жизни нужно терпеть и т. д. Он, однако, подчеркивает большую возможность активного включения христианина в земные дела. Приобщение к светским благам связано с владением имуществом и его умножением, необходимо лишь умеренное пользование богатством в согласии с божьей волей. Учение Кальвина о предопределении также было на руку молодой буржуазии. Согласно этому учению, бог сам определяет, кто будет спасен, а кто — нет.
Так же как и в средние века, на теологический рационализм в период Реформации оказывали влияние религиозные мистические учения. Реформация вообще связана со средневековой мистикой, приняла ее элементы и приспособила к своему учению о внутреннем, индивидуальном отношении к богу.
С наиболее радикальным изложением мистического пантеизма мы встречаемся в учении вождя народной революции в Германии Томаса Мюнцера (1490–1525). Он отошел от мещански ограниченного лютеранства, критиковал его за то, что в нем речь идет лишь о вопросах индивидуального спасения и без внимания остается земной порядок, который считается неприкосновенным. Религиозно-философские воззрения Мюнцера основаны на идее необходимости установления такой «божьей власти» на земле, которая принесла бы социальное равенство. Он излагает идею уравнительного коммунизма, которую обосновывает пантеистическим способом. Бог вездесущ во всех своих творениях. Он проявляется, однако, не как данность, но как процесс, открывающийся тем, кто несет в себе божью волю. Христос не является исторической личностью, а воплощается и обнаруживается в вере. И только в вере, без официальной церкви может быть выполнена его роль искупителя. Внутренне прочувствованная воля Божия приводит человека на путь подчинения личных интересов интересам общности, выражающей власть бога на земле.
[Теологические воззрения Мюнцера и их социально-политическую роль четко определяет характеристика Энгельса: «Его теолого-философские доктрины были направлены против всех основных догматов не только католицизма, но и христианства вообще. В христианской форме он проповедовал пантеизм, обнаруживающий замечательное сходство с современными спекулятивными воззрениями и местами соприкасающийся даже с атеизмом. Он отказывался, рассматривать библию как единственный и безупречный источник откровения. Настоящее и живое откровение, по его мнению, есть разум, откровение, которое существовало во все времена и у всех народов и которое существует до сих пор. Противопоставлять разуму библию значило бы убивать дух мертвой буквой, ибо святой дух, о котором говорит библия, не есть нечто, существующее вне нас; святой дух и есть наш разум. Вера является не чем иным. как пробуждением разума в человеке, и потому обладать верой могли и язычники. Посредством этой веры, посредством пробудившегося разума человек уподобляется божеству и достигает блаженства. Поэтому рай не является чем-то потусторонним, его нужно искать в этой жизни, и призвание верующих состоит в том, чтобы установить этот рай, т. е. царство божье, здесь на земле» (Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 370).]
Политическая программа Мюнцера близка к утопическому коммунизму. [«Эта программа, которая представляла собой не столько сводку требований тогдашних плебеев, сколько гениальное предвосхищение условий освобождения едва начинавших тогда развиваться среди этих- плебеев пролетарских элементов, требовала немедленного установления царства божьего на земле тысячелетнего царства, предсказанного пророками, — путем возврата церкви к ее первоначальному состоянию и устранения всех учреждении, находившихся в противоречии с этой якобы раннехристианской, в действительности же совершенно новой церковью. Но под царством божьим Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй. в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти. Все существующие власти, в случае, если они не подчинятся революции и не примкнут к ней, должны быть низложены, все промыслы и имущества становятся общими, устанавливается самое полное равенство. Для того, чтобы осуществить все это не только во всей Германии, но и во всем христианском мире, нужно основать союз; князьям и дворянам следует предложить присоединиться к нему; если они этого не сделают, союз должен при первом удобном случае свергнуть их с помощью оружия или уничтожить» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 371–372).] Она с необходимостью вела к полному расхождению с мещанской реформацией Лютера. Лютер и Мюнцер выражали различные классовые интересы, один — бюргеров и князей, другой — крестьянских и плебейских масс.
После поражения крестьянских масс и смерти Мюнцера тенденция мистического пантеизма продолжалась в движении анабаптистов (новокрещеных) и в других еретических сектах, в радикальных народных выступлениях (например, в попытке анабаптистов создать уравнительный коммунистический порядок в Мюнстере в 1534–1535 гг.). Позднейший мистицизм, однако, уже удаляется от актуальной социально-политической проблематики и переносит осуществление этих идеалов в загробную жизнь.
Необходимо упомянуть и о мистическом учении, Якоба Беме (1575–1624). [Иногда его причисляют к мистикам Нового времени. Однако его философские воззрения и способ мышления свидетельствуют скорее о том, что его мистика приходится на период, который предшествует эпохе классического механистического естествознания.] Он происходил из бедной крестьянской семьи в Саксонии, был сапожником. [К. Маркс писал о нем: «Сапожник Якоб Беме был большой философ. Некоторые именитые философы — только большие, сапожники» (Маркс К… Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 77).]
Воспитан в лютеранстве, источником его философствования было Священное писание (переведенное Лютером на немецкий язык). Он читал очень много, был знаком с религиозной, в частности мистической, философской и научной литературой, знал труды Т. Бомбаста из Гогенгейма (Парацельса), философа такого же типа, как и он сам.
Философия Беме отличается от главного направления философского и научного мышления того времени: не принадлежит ни к схоластическим традициям, ни к гуманистической и натуралистической линии Нового времени. Терминология, которой пользуется Беме, говорит скорее о его связи с алхимией и астрологией. Язык его образный, метафорический; космические процессы он приближает антропоморфическим образом.
Из его работ наиболее интересны «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», «О трех принципах» и «О тройственной жизни человека».
Людвиг Фейербах называет его «теософическим или религиозным натурфилософом». Беме не интересует проблематика новейшего естествознания. Его теоцентризм исходит из специфических традиций немецкого мистического пантеизма и, в частности, из самоанализа духовного естества человека, ведущего к интуитивному созерцанию божества.
Бог — наивысшее единство, но это единство не может быть познано само по себе, оно недоступно не только человеческому познанию, но даже бог не может познать самого себя. Идея о том, что «самооткрытие» бога возможно лишь благодаря его превращению в природу, представлена Беме в терминологии христианского учения о Троице. Тезис о непосредственном существовании бога в вещах, в природе и в человеке является центральной идеей философско-теологической системы Беме. Природа замкнута в боге как наивысшем и активном первом принципе. Бог находится не только в природе, но и над ней и вне ее. [В. И. Ленин отмечал: «Якоб Беме „материалистический теист“: он обожествляет не только дух, но и материю. У него бог материален — в этом его мистицизм» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 53).]
Переход от бога к природе является процессом диалектического раздвоения. Как солнце сияет более ярко на темном фоне, так и всякая другая вещь не может существовать без своей противоположности. Для человека существование зла является предпосылкой его свободы. Диалектические противоречия как принципы движения и развития в природе проявляются как «мука материи». [«Первым и самым важным из прирожденных свойств материи является движение, — не только как механическое и математическое движение, но еще больше как стремление, жизненный дух. напряжение, или, употребляя выражение Якоба Беме, мука [Qtial] материи» (Маркс К… Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 142).] Я. Беме связывал немецкое Qual (мука) с латинским qualitas (качество).
Диалектические элементы присутствуют и в его взглядах на человека, который является одновременно «микрокосмом» и «малым богом», в котором происходит все мировое и божественное во всей своей сложной противоречивости. Он выступает единством божественного и природного, телесного и духовного, зла и добра и т. д.
Некоторые идеи Беме перекликаются с итальянским (гуманистическим) вольномыслием XVI в.: если человек живет в святости, нравственно и разумно, он заслуживает спасения и не нуждается при этом в посредничестве церкви. В отличие от Мюнцера Беме интерпретирует христианство лишь в нравственной области, его протест против зла в мире не переходит ее границ. В этом смысле на его учение повлияло изменение условий жизни в Германии после поражения Крестьянской войны и кризис в начале Тридцатилетней войны.
Мистицизм Беме находит своих продолжателей в мистических течениях XVII–XVIII столетий, а его диалектика — в немецкой классической философии Шеллинга и Гегеля.
Протестантская Реформация вызвала отклики в католицизме. Начиная с 40-х годов XVI в. католики ведут борьбу за возвращение потерянных позиций; в Западной Европе начинается период контрреформации. Участники движения остро ставят вопрос об укреплении единства в самой организации католической церкви, об усилении внутренней дисциплины и папской централизации, но главной была открытая борьба католицизма против протестантов. Передовым боевым отрядом католиков стал новый орден — «Общество Иисусово» (иезуиты), — основанный испанцем Игнатием из Лойолы в 1534 г. и утвержденный папой в 1540 г. Иезуиты составили ядро инквизиции, реорганизованной для борьбы с Реформацией. Инквизиция возникла как проявление и следствие кризиса церковной власти и идеологии: необходимо было церковную идеологию привести в соответствие с новой общественной ситуацией и новыми идейными течениями эпохи. Тридентский собор (1545–1563), [Целью Тридентского собора была реформа церкви, в которой должны были участвовать и протестанты. Однако его деятельности была придана однозначная антиреформационная ориентация, воинствующий характер которой подчеркнул еще в 1564 г. Список запрещенных книг. Этим замыкается эра интеллектуальных свобод. От всех представителей культуры, философии, искусства требуется строго придерживаться римской ортодоксии.] однако, уклонился от решения философских проблем и споров между школами, не желая нарушить внутреннее единство церкви. В этот период происходит новое оживление схоластической философии в форме томизма. Сначала это было в Италии, затем в Испании, первоначально главную роль играли доминиканцы, затем иезуиты. В XV и XVI вв. Фому Аквинского комментировал кардинал Кайетан (1469–1534), затем испанский доминиканец Франциск де Витториа (1480–1546).
Наибольшее значение для попыток реставрации средневековой схоластики в эпоху Ренессанса имело учение испанского иезуита Франциска Суареса (1548–1617). Этот теолог и философ читал лекции в испанских и португальских университетах, а также в Риме по приглашению папы. Его главным произведением является «Метафизическая диспутация» (1597). Он пытался переработать метафизику Аристотеля и философско-теологическое учение Аквината в соответствии с потребностями времени. Суарес жил в эпоху оппозиции средневековой схоластике, но сам он был в сущности консервативным философом, схоластическим мыслителем томистского толка. Как и все схоласты, он считал важнейшим противопоставление конечного и бесконечного, сотворенного и несотворенного. Главной задачей философии, полагал Суарес, является доказательство того, что истинное бытие есть вечное божественное, а разумность конечного бытия заключается в том, что оно имеет своим источником бытие вечное, и что поэтому должна существовать первопричина и цель всего бог.
Новые социальные и идейные условия принуждают его, однако, отклониться от классической томист-ской схоластики. Из 24 тезисов, которые Ватиканская конгрегация признала в 1914 г. как твердые, вечные, неудалимые из томизма, Суарес в свое время признавал лишь пять (они относились к психологии). В онтологических вопросах он обращал внимание на конкретное, дифференцированное индивидуальное бытие, понимаемое как объект божественного разума. Акт и потенция, в его понимании, не две отдельные реальности, но два аспекта единой конкретной вещи. Материя и форма равноценны, материя является актуальным бытием. Индивидуализация вещей реализуется как сущность и существование, что присуще всему сотворенному миру. Сущность (энтиту) вещи, определяющую ее индивидуальное, конкретное существование, нельзя перевести ни в форму, ни в материю, и в то же время она первична по отношению к ним. Конкретное бытие вещи является предметом человеческого познания. В вопросе об универсалиях — традиционном средневековом споре-Суарес придерживается взгляда, согласно которому общее формируется как следствие обобщения в процессе познания единичных вещей.
Попытка Суареса обновить и приспособить схоластику к современности не преодолела пропасть между нею и прогрессивным движением европейского философского и научного мышления. Влияние Суареса не было значительным; из более поздних философов к нему ближе всех Декарт и Лейбниц, но скорее лишь в терминологическом отношении. Его философия становится официальной доктриной ордена иезуитов. В XVII и XVIII вв. схоластический аристотелизм сохранил свои позиции лишь в нескольких европейских университетах и иезуитских колледжах, однако в сущности он стоял уже вне главных направлений философского развития. На основе энциклики Льва XIII от 1879 г. иезуиты возвратились от суаресизма к томизму.
В завершение главы следует сказать, что Реформация сама непосредственно не прокладывала путь к свободному научному исследованию и развитию европейской философии. Лютер, например, требовал свободы лишь в исследовании Писания, другим же областям он не придавал большого значения. Теорию Коперника он определил как сверххитрую уловку сумасшедшего, который хотел бы перевернуть вверх дном все астрономическое искусство. [В некоторых оценках можно встретить даже осуждение Реформации как шага назад, как нарушения всеобщего процесса раскрепощения европейского мышления (Ницше).]
Несмотря на это, реформаторское движение способствовало ликвидации монополии католической церкви и тем самым открывало путь к дальнейшему развитию общества. В реформаторской идеологии появляются зародыши новой этики, позже овладевшие всей этикой Нового времени, которая вытекает из требований автономности и свободы человеческой личности. Значение реформаторской идеологии состоит не в том, что она обогатила философию познанием общественных процессов, а в том, что она оправдывала существование наднациональных церквей, что являлось формой выражения политических сил, ориентированных в конечном счете против феодализма.
^
Гуманисты заальпийских европейских стран
На переломе XV и XVI столетий гуманистическое мышление Ренессанса не ограничивалось лишь итальянской почвой, но захватило и заальпийские страны от Англии и Нидерландов до Германии и Швейцарии, от стран Пиренейского полуострова до Польши и Венгрии. Итальянский и Северный (заальпийский) Ренессанс, хотя они имеют общие черты и содержание, отличает ряд признаков. Итальянский тип более монолитный, главным его предметом была философия природы, исходной позицией — платонизм, возрожденный гуманистами. Большую роль в гуманизме заальпийских стран играли логика, методология, философия государства и права (хотя итальянцы также имели своего методолога — Баллу и философа государства-Макиавелли). Итальянский гуманизм имел скорее литературный, метафизический характер, «северный» тип гуманизма отличался более строгими позициями.
На возникновение и развитие «заальпийского» гуманизма оказывал влияние не только итальянский гуманизм, но прежде всего исторические условия кризиса феодализма и образования первых зародышей капитализма в отдельных европейских странах. Знаменательным является резкое столкновение гуманистов с господствующей идеологией и философией католицизма. В некоторых случаях гуманисты вступают в полемику и конфликты с реформаторским движением и его идеологами. Отклонение от Реформации было обусловлено также тем, что процесс Реформации выливался иногда в новую исключительность, нетолерантность (детерминированные религиозной борьбой), и это все, вместе взятое, вызывало к жизни представления о свободе человека, свободе совести и веры, о критике и терпимости.
К главным представителям «заальпийского» гуманизма принадлежит Дезидерий Эразм Роттердамский (1469–1536), голландский мыслитель, вдохновенный писатель и ученый, филолог, философ и богослов. Он был внебрачным сыном духовника, учился в школе в Девентере (как и Н. Кузанский), после был рукоположен в священники. Получив епископальную стипендию, он учился в Сорбонне, где познакомило с философией и теологией позднего средневековья. Тогдашние споры томистов и скотистов его отпугивали своей бесплодностью. Позже он высмеял их псевдонаучность в «Похвале Глупости». Наиболее плодотворными для его творчества были контакты и дискуссии с выдающимися гуманистами того времени, в частности с английскими; он поддерживал дружеские отношения с Томасом Мором, которому позже приписал авторство «Похвалы Глупости». Он много путешествовал, изучал древние рукописи. Познакомился с античными источниками, в частности греческими, переводил их на латынь.
Ряд его трактатов имеет сатирическую, направленность. «Сборник поговорочных оборотов» (Париж, 1500) прославил его во всем образованном мире. Однако наибольшую известность принесла ему «Похвала Глупости», в которой он обобщил весь свой жизненный опыт, выразил отвращение к средневековью, к фальшивой морали католической иерархии.
Эразм требовал возврата к подлинной, истинной христианской морали. Христианство должно избавиться от догматизма, от схоластической псевдонаучности, оно должно стать этикой, руководствующейся истинным учением Христа. Аскетизм, отказ от земной жизни и ее даров, является аморальным, смысл жизни состоит в использовании жизненных благ. В этом христианство должно учиться у классической древности. Философия должна сойти «с неба на землю», заниматься основными вопросами естественной жизни человека.
Критика паразитической жизни духовенства и церковных бесчинств сближала Эразма с Реформацией, однако сам он не перешел на сторону лютеранства. [В полемике против Лютера он написал трактат «О свободном выборе» (1524), Лютер ответил на него трактатом «О рабской воле».] Он опасался социально-политических последствий Реформации, поэтому начал искать компромиссов и примирения. Он верил, что очищение церкви от догматизма возможно без разрыва с католической традицией. Эразм полагал, что гуманизация общества и изменение в церковных отношениях могут быть достигнуты при помощи образования под руководством просвещенного правителя. Эти утопические воззрения приблизили его к воззрениям Томаса Мора.
Из французских гуманистов можно назвать видного мыслителя Пьера де ла Раме (1515–1572), замечательного реформатора науки, математика и логика, критика схоластического аристотелизма. Уже в начале своего научного пути он провозгласил, что все, о чем говорил Аристотель, является искусственным, ненаучным. Прежде всего он подверг критике методологические и логические предпосылки его учения. Доказывал необоснованность общих основ логики Аристотеля. Подчеркивал необходимость создания новой научной методологии и, в частности, указывал на роль математики. Мышление необходимо освободить от традиций древности и авторитета Аристотеля, новый метод должен основываться на принципах «естественной мудрости».
Попытка Раме, касающаяся позитивной формулировки логики, имела слабый уровень и была малооригинальной. Он соединяет логику с цицероновской риторикой. Однако его идеи, несмотря на вышесказанное, имели влияние на дальнейшее развитие логики.
Для всей философии Ренессанса характерно отрицание авторитетов. Однако при образовании новых философских традиций нередко бывало, что и сторонники идеалов Ренессанса начинали воспевать свои, новые авторитеты. Радикальный оптимизм вновь нарождающейся культуры приносил и ряд упрощений, поверхностных восприятии. Некоторые мыслители Ренессанса обратили внимание на этот момент и выступили с критикой. Эта критика часто называется скепсисом. К представителям этого своеобразного «ренессансного скептицизма» относятся французы Монтень и Шаррон, которые с отвержением старой и новой «учености» обратились к методу естественного объяснения человека. Поэтому их гуманизм иногда определяется как «натуралистический».
Великий французский гуманист Ренессанса Мишель де Монтень (1533–1592) был одним из современников гугенотских войн, приведших многих людей к отчаянию и безнадежности. Происходил он из купеческой семьи, но был введен в дворянское сословие. Он получил прекрасное гуманитарное образование, хорошо знал культуру древности и восторгался ею. Как член городского магистрата, сам воочию убедился в несправедливостях, которым подвергались невинные жертвы религиозного фанатизма, был свидетелем фальши и лицемерия, лживости «доказательств» при судебных процессах. Все это нашло отражение в его литературном творчестве, в котором он рассуждал о человеке и его достоинстве. Критические взгляды на жизнь человека, общество и культуру своего времени, свои чувства и настроения он излагал в форме эссе, заметок, дневников. [Они были изданы под названием «Эссе».]
Монтень, как решительный противник схоластики, отвергал бессодержательную академичность университетской философии, которая подчинилась авторитетам (Аристотеля, Платона и др.). Он делал упор на самостоятельность суждений, образцом для которых могло быть свободомыслие античной философии. Характерной чертой мышления Монтеня является скептицизм, однако это особый скептицизм, вытекающий из критики жизни, но не в духе пессимизма, а в духе любви к жизни. При помощи скептицизма он хотел избежать фанатических страстей. Подобно Декарту, скептицизм был для него лишь методом достижения истины при опоре на собственный разум, без слепого подчинения авторитетам. Осознание своего ограниченного, несовершенного познания является предпосылкой следующей ступени познания, которое Монтень понимает как процесс. В равной степени он отвергал как самоуспокоенность, самодовольство и догматизм, так и пессимистический агностицизм.
Этическое учение Монтеня является натуралистическим. Против схоластической модели «добродетельной» жизни, против ее суетности, сумрачности он выдвигает гуманистический идеал яркой, любвеобильной, умеренной добродетели, но при этом достаточно мужественной, непримиримой к злобе, страху и унижениям. Такая добродетель соответствует природе, исходит из познания естественных условий жизни человека. [Автор «Эссе» противопоставлял испорченным нравам народов европейской цивилизации нравственно чистый мир недавно открытых народов — индейцев, подчеркивал их тесную связь с природой и ее законами. Монтень очень интересовался культурой народов Америки, восхищался ею.] Этика Монтеня является полностью земной; аскеза, согласно его взглядам, бессмысленна. Он свободен от предрассудков. Человека нельзя вырвать из естественного порядка, из процесса возникновения, изменения и гибели.
Монтень отстаивает идею независимости и самостоятельности человеческой личности. Его индивидуализм направлен против лицемерного конформизма, против того положения, когда под лозунгом «жить для других» часто скрываются эгоистические, корыстолюбивые интересы, в которых другой человек выступает лишь как средство. Он осуждает безразличие, подлость и подобострастие, которые душат самостоятельное, свободное мышление человека.
К богу он относится скептически: бог непознаваем, поэтому он не имеет никакого отношения к делам человеческим и поведению людей; он считает бога неким неличным принципом. Его воззрения на религиозную терпимость были весьма прогрессивны: ни одна религия не имеет преимуществ перед истиной.
Гуманизм Монтеня также имеет натуралистический характер: человек является частью природы, в своей жизни он должен руководствоваться тем, чему его учит природа-мать. Философия должна выступать в роли наставницы, вести к правильной, естественной, доброй жизни, а не быть совокупностью мертвых догм, принципов, авторитарных проповедей.
Идеи Монтеня оказали влияние на последующее развитие европейской философии, в частности на Бэкона, Декарта, Гассенди, французских просветителей Вольтера, Ламетри.
Последователь Монтеня Пьер Шаррон (1541–1603) в работе «О мудрости» систематизировал его взгляды. Он изложил их со схоластической педантичностью, однако это привело к утрате оригинальной остроты и живости учения Монтеня. Шаррон стремился также к примирению скептической философии и христианства.
^
Натурфилософия ренессанса и новое естествознание
В середине XVI столетия гуманизм платоновской школы в Италии перешел свой зенит, его основное время ушло. Во второй половине XVI и в начале XVII в. на сцену выходит специфическая философская область — философия природы. Философия природы — типичное выражение философии Ренессанса. Ее родиной была Италия, наиболее знаменитым представителем — Джордано Бруно.
Приход философии природы был подготовлен всем предшествующим развитием гуманистической философии и культуры Ренессанса. В этот поворотный период человек открывает новые горизонты, приходит к убеждению в возможности своего прочного, творческого и свободного закрепления в этом мире, верит, что он способен познать естественный характер мира и самого себя в нем. Идея незаменимой ценности и достоинства человека, идеалы свободы являются духовным климатом, в котором рождается и новая философия природы, завершающаяся пантеистическим материализмом Бруно.
Философия природы Ренессанса исходила из античного философского наследия — платонизма, стоического пантеизма, ионической философии. Она обращается к неортодоксальным традициям средневекового философского мышления, аверроистским и неоплатонистским пантеистическим направлениям. Характерным для философии природы в период Ренессанса является прежде всего отвращение к схоластике и схоластическому аристотелизму.
^
Новое естествознание
Параллельно с философией природы развивается новое естествознание, реализующее радикальную переоценку старых традиций и предпосылок. Оно приносит ряд эпохальных открытий, становится одним из важнейших источников новой философии. Отбрасываются господствовавшие в средние века философские и методологические основы науки, и создаются новые. Схоластическое учение о природе, высший уровень которого был достигнут парижской и оксфордской школами в XIV в., в сущности никогда не переходило границ теоретических спекуляций. В противоположность этому ученые Ренессанса на первый план выдвигают опыт, исследование природы, экспериментальный метод исследований. Видное место завоевывает математика, принцип математизации науки соответствует основным прогрессивным тенденциям развития науки, научного и философского мышления.
Новые тенденции в науке получили отражение в творчестве Леонардо да Винчи (1452–1519), Николая Коперника (1473–1543), Иоганна Кеплера (15711630) и Галилео Галилея (1546–1642). Важнейшим полем боя, на котором происходило сражение между новым и старым миром, между консервативными и прогрессивными силами общества, религией и наукой, была астрономия. Средневековое религиозное учение было основано на представлении о Земле как богом избранной планете и о привилегированном положении человека во вселенной. Гениальная идея древнегреческого астронома Аристарха была полностью забыта. [Аристарх из Самоса (111 в. до н. э.), греческий астроном и математик, выступил против геоцентрического учения, противопоставив ему свое по сути дела первое в истории европейской астрономии гелиоцентрическое учение. За это был обвинен в безбожии.] Николай Коперник разгромил искусственную систему, основанную на геоцентрических представлениях, и создал гелиоцентрическую теорию. Его основной труд «О круговых движениях небесных тел» вышел в год его смерти.
Учение Коперника было революционным событием в истории науки. «Революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости и как бы повторило лютеровское сожжение папской буллы, было издание бессмертного творения, в котором Коперник бросил — хотя и робко и, так сказать, лишь на смертном одре — вызов церковному авторитету в вопросах природы. Отсюда начинает свое летосчисление освобождение естествознания от теологии…»
С именем немецкого астронома Иоганна Кеплера связана прежде всего теория о закономерностях движения планет, которую он доказал математически. [И. Кеплер в 1600 г. был приглашен к пражскому двору короля Рудольфа II. В течение двенадцатилетнего пребывания здесь он на основе своих наблюдении сформулировал первые два закона о движении планет вокруг Солнца и описал их в книге «Astronomia Nova», первое издание которой хранится в библиотеке «Памятники народной письменности» в Праге.]
Гениальный ученый Ренессанса, физик и астроном Галилео Галилей путем экспериментальных исследований делает ряд открытий, формулирует научные законы. При помощи телескопа, который он сам сконструировал, он обнаружил, что поверхность Луны и Солнца не гладкая, что Млечный Путь является сложной системой звезд, открыл четыре спутника Юпитера, фазы Венеры и т. д. Свои открытия он опубликовал в труде под названием «Звездный вестник» (1610). Наибольшей заслугой Галилея было наглядное подтверждение правильности гелиоцентрического подхода Коперника к объяснению мира. [Главным произведением Галилея является «Диалог о двух главнейших системах, мира Птолемеевой и Коперниковой» (1632).] Все это имело далеко идущие философские, мировоззренческие, космологические последствия, нанесло решающий удар теологическо-схоластическому мировоззрению и также стало фатальным для Галилея. Его преследовала церковь, он был обвинен в ереси, осужден и под угрозой пыток был принужден к отрешению от своих взглядов.
Галилей не был философом, но его научные представления имели огромные последствия. Его творчество знаменует отход от старых традиций естествознания, идущих от Аристотеля. Он выразил следующую идею: книга природы закрыта для нас, но, чтобы мы могли ее читать, нужна математика, ибо эта книга написана математическим языком. Галилей развивает новую методологию науки, основывающуюся на экспериментах и математике. В отличие от старого схоластического, качественного метода, который основывался на учении о свойствах и сущностях вещей и на доказательствах иерархически неизменного бытия, наиважнейшим у Галилея является количественный метод. Природные процессы измеримы, отсюда вытекает возможность установить точными методами их законы как законы временных и пространственных отношений. Этим самым Галилей открывает возможность постижения гармонии мира под другим углом: открыть и вычислить универсальную динамичность движения математическим и геометрическим способами. Это предполагает разложить все на простейшие элементы и затем вновь рациональным математическим способом реконструировать. Из экспериментально доказываемого единства индукции и дедукции Галилей выводит обоснование механики.
В рационализме Галилея уже предугадывается естествознание Нового времени и его философская методология. Все его творчество пронизывает механистическо-материалистическая тенденция. Галилею принадлежит почетное место в истории философии: он способствовал формированию материалистического мировоззрения, в частности, с точки зрения естественнонаучного исследования.
^
Философия природы
К предшественникам итальянской натурфилософии принадлежит немецкий кардинал Николай Кузанский (1401–1464). Он был одним из первопроходцев современного мышления, которое начало складываться на водоразделе средневековья и Ренессанса. Его философия природы и космологические воззрения не выходили за пределы религии. Как иерарх церкви, он подчинялся конкордату средневекового порядка, но его понимание мира и человека было устремлено в будущее. Сын мозельского крестьянина, он получил образование у «Братьев общей жизни» в Девентере, и здесь он, как и в период своей учебы в Гейдельберге, заинтересовался мистическими учениями, в частности учением Мастера Экхарта; он также изучал и оккамистскую «виа модерна», усвоил математические и естественнонаучные знания. Изучая право в Падуе, он познакомился с идеями гуманизма. Только позже, около 1438 г., после защиты докторской диссертации по теологии, его начала беспокоить идея о «docta ignorantia» (ученое незнание, знание о незнании), которую впоследствии он развивает в своем главном труде «De docta ignorantia» (1440). Он написал также логико-философский трактат «О предпосылках» («De coniecturis»), теологический трактат «О скрытом боге» («De Deo abscondito») и ряд других.
Кроме пантеистической мистики Экхарта на его творчество повлиял средневековый пантеизм шартрских платоников, Давида Динантского; он читал в оригинале Платона и Прокла. В своих трактатах отвергает средневековую рационалистическую систему аристотелизма.
Философское решение Кузанским главной проблемы — отношения бога и мира — является теоцентрическим, но в то же время содержит элементы и тенденции, отличающиеся от средневекового католического богословия. Он исходит из концепции «docta ignorantia», означающей, что познание вещей возможно при помощи чувств, разума и интеллекта, однако знание о конечных вещах всегда выходит за свои пределы. Из этого вытекает, что собственно основой познания должна быть противоположность обыденного, конечного постоянно преодолеваемому, знанию, т. е. чему-то абсолютному, определенному, безусловному, а значит, «незнанию», неведению об этом безусловном (божественном). Безусловное знание мы можем постичь лишь символически. Основой этой символики для Кузанского являются математические символы. Разум подчинен закону противоположностей, для которого справедливы «да или нет», круг или многоугольник. В противоположность этому «docta ignorantia» близится к бесконечному, в котором противоположности взаимно сливаются. Бесконечный многоугольник отождествляется с кругом. Если бог бесконечен (бог является понятием для наиболее точного выражения максимума), то в нем сливаются все противоположности и никакие рациональные усилия философии не могут выяснить его сущность. Из этого вытекает также отождествление наибольшего и наименьшего в бесконечном, бесконечное распространение бога во вселенной является тем же процессом, что и развертывание к индивидуальному существованию. Так же как бесконечно расширяется свернутый божественный максимум в космосе, подобное происходит и в минимуме, в микрокосме, в человеческом естестве. И у человека осуществляются процессы «завершения», «наполнения», что является не чем иным, как «божественностью», хотя она у единичного человека и ограниченна. Абсолютное слияние божественного и человеческого реализовалось лишь во Христе, отсюда христологический характер учения Кузанского о человеке. Человек — это также «бог», но не в абсолютном смысле. Он является ограничением божественного принципа, подобно тому как космос является ограниченным максимумом. Однако он является не только частью целого, но и новым целым целого, индивидуальностью.
Этим пониманием Николай Кузанский преодолевает схоластическую креационистическую версию о сотворении мира из ничего, бог не является чем-то вне мира, он находится в единстве с миром.
Космология Кузанского прямо связана с его онтологией. В ней он предугадывает гелиоцентрическое понимание мира. Мир — не изолированный шар в лоне абсолюта, но он (мир) бесконечен и является бесконечным шаром. Уже этим его воззрение отличается от геоцентрического, ибо бесконечный шар не имеет определенного центра, он имеет центр везде и нигде. Нигде нет ничего устойчивого и абсолютного, нет также и абсолютного покоя. Абсолютной является лишь бесконечность. Кузанский здесь развивает идею о релятивности движения. Своими космологическими представлениями он предсказал деструкцию птолемеевско-аристотелевского понимания космоса, которую начал Коперник и завершили Кеплер, Галилей и Ньютон.
Кузанский развивает идеи диалектики познания сущности и явления. Предметом познания является пантеистический бог, который существует в неразрывном единстве с чувственно воспринимаемым миром природы. Познание «развернутого» мира, т. е. бога, является делом разума, а не веры, которая хочет постичь бога в его «свернутой» форме. Идеи Кузанского о математическом познании истины были по сути антисхоластическими, антидогматическими, они предвосхищали дух естествознания грядущих времен.
Кузанский оказал огромное влияние на дальнейшее развитие философии. Наследие его диалектического мышления было воспринято Д. Бруно, Я. Беме и перешло в немецкую идеалистическую философию XVIII и XIX вв. Из его пантеизма исходит Б. Спиноза, космологические идеи развивает Р. Декарт. [Кузанский.(лат. Cusanus) связан и с чешской историей. В начале чешского реформационного движения он встречается с гуситами, возглавляемыми Прокопом Голым и Яном Рокнцаной, в базельском парламенте в 1433 г.; чешским вопросом он занимается и в 1450-1453- гг.; в конце чешской Реформации его учение повлияло на концепцию Коменского об «общем исправлении» человеческих дел (об этом см.: Floss P. Mikulas Kusansky. Ртапа, 1976).]
Представителем магическо-мистической философии природы оккультного типа был Парацельс (собственное имя-Теофраст Бомбаст из Гогенгейма, 1493–1541), врач, ученый, «чудотворец», окруженный легендами (его личность служила одним из прототипов доктора Фауста). Исходным пунктом его рассуждений была идея, согласно которой всякая реальность имеет свое правило, так называемое архэ жизни (т. е. активную духовную жизненную силу), в которой содержится ключ к природе, и, кто его познает, тот обретет способ, как воздействовать (магическим образом) на природу и преобразовывать ее. В сущности все искусство врачевания зависит от освоения этого способа. Парацельсом была выдвинута идея взаимозависимости всех вещей.
На практике это означает, что, воздействуя на одну вещь, мы можем повлиять на другие вещи. Этот тезис имел философское значение для понимания однородности вещей. Главная, универсальная наука для него — медицина, источником и опорой которой являются теология и философия, астрономия и алхимия.
Парацельс, как выдающийся врач-практик, во многом способствовал развитию медицины, он первым подчеркнул неразделимость хирургии и терапии. В своей врачебной практике он страдал от увлеченности наивной символикой.
Наиболее выдающимися представителями философии природы теоретического типа были Б. Телезио и Д. Бруно.
Бернардино Телезио (1509–1583), родом из Косенцы, около Неаполя, — один из влиятельных философов итальянского Ренессанса, основатель итальянской философии природы. Его имя сопровождала легенда знаменитого знатока классической античной литературы. Он противопоставил свое творчество официальной схоластике, с которой познакомился во время учебы в университете. Склонность к эмпирическому и экспериментальному исследованию природы была обусловлена его деятельностью в добровольном научном обществе так называемой Козентийской академии. За вольномыслие его преследовали церковные власти. Плодом его многолетнего упорного труда была книга «О сущности вещей согласно их собственным принципам».
Из исследования природы Телезио исключает познание бога. Бог является лишь творцом мира, в последующем он не вмешивается в процессы природы, таким образом, задачей философии является не познание бога, а исследование реальной природы. Философия должна освободиться от теологии. Телезио отвергает упование на внешние авторитеты: философские и научные выводы должны опираться на непосредственные восприятия и опыт, на собственный разум. Не бог, но природа является предметом философского исследования.
Философия Телезио содержит сильные материалистические тенденции. Все вещи телесны, материальные телесный принцип является их вечной, неизменной сущностью, сам этот принцип, однако, пассивен, лишен всякого движения и активности, он как бы «мертв», невидим. Движение и изменение вызываются борьбой двух противоположных активных принципов — тепла и холода. Эти принципы бестелесны, но проявляться вне своей материальной основы, вне материальной субстанции вещей не могут.
В учении Телезио намечается важная материалистическая идея о материальном единстве мира. Проявляется эта идея и в его космологических воззрениях: небесные тела, так же как и Земля, материальны, различия между ними вызваны большей или меньшей мерой присутствия активных принципов. Но в своей сути эта космология основана на докоперниковых схемах. Солнце и небесные тела в отличие от «холодной» Земли подвижны.
В понятии «собственные принципы» природы у Телезио содержатся элементы стихийной диалектики: источник движения не вне природы, но в ней самой. Телезио отвергает перипатетическое и схоластическое учения о внешнем двигателе: движение является собственным, присущим материи принципом, ее самодвижением. Эти выводы совпадают с деистическим решением проблемы отношения бога и мира: сотворенный мир наделен божественными силами и свойствами, после акта сотворения движение происходит уже само, без вмешательства бога, на основании собственных принципов.
Натурфилософским представлениям отвечает его объяснение жизни человека и его познания. Тепло, как активный принцип, является основой жизненного принципа, который Телезио называет духом (приравнивая его к средневековому медицинскому термину «спиритус»). «Пневма» представляет собой тонкую, теплую, телесную, подвижную материю, которая находится в живом организме, способствует движению, определяет жизненные функции, чувствительность, восприятие, познание и умирает вместе с телом. Учением о «жизненном духе» Телезио указывает на единство всех живых существ. Человек в этом смысле отличается тем, что его «пневма» более «тонкая» и «теплая». «Дух» неразрывно связан с материей, он рассредоточен во всем теле, распространяется по нервной системе, центром которой является мозг. Разумная человеческая душа многосторонним образом связана с «духом природы».
Этот подход — основа сенсуалистской теории познания Телезио. Восприятие является источником и важнейшим средством познания, а мышление и суждение определяются восприятием. Восприятие возникает после принятия внешнего мира «духом». Таким образом, всякая наука должна исходить из непосредственного опыта.
Этические воззрения Телезио в основе соответствуют его философии природы. Нравственная жизнь человека возникает из его естественного стремления к самосохранению. Из этого стремления вытекают все критерии для определения человеческих добродетелей и изъянов, отсюда исходят человеческие чувства, настроения и эмоции. Эта этика индивидуалистическая: она предполагает человеческое общежитие и солидарность лишь для защиты индивида от грозящих ему опасностей, вытекающих из стихий природы или насильственных действий других людей.
Кроме природного, материального «духа» существует и нематериальная душа, которая бессмертна и имеет божественное происхождение. Ее существование Телезио обосновывает способностью человека к совершенствованию своего сознания и нравственного поведения. Эта «уступка» теологии вытекает из общего метафизического характера его философии природы как системы. Телезио не видит качественных различий материального мира, его теория «жизненного духа» не может достаточно ясно объяснить специфику человеческого сознания и социальной сущности человека.
Философское учение Телезио имело известность уже при его жизни. Позже переводы его трудов на итальянский язык расширяют его влияние на процесс развития философии и науки.
Иную, платоновскую линию итальянской философии природы представляет творчество Франческо Патрици (1529–1597), который в своих «Перипатетических исследованиях» выступал с традиционной задачей гуманистов — преодоления схоластического авторитета Аристотеля, что становилось все более актуальным, ибо в официальной науке и философии все еще господствовал средневековый аристотелизм, поддерживаемый католической иерархией.
Свое понимание мира, отличающееся как от схоластики, так и от платонизма Фичино, он представил в книге «Новая философия вселенной». Всем вещам и телам присущи четыре внутренних принципа: пространство, свет, тепло и течение. Первый активный принцип — свет, из которого исходит тепло, являющееся непосредственной причиной возникновения вещей, рождающихся в непрестанном движении материи. Материя не пассивна, но является движением, «течением» телесной массы.
В своем учении о вселенной он преодолевает неоплатоновскую метафизику света, согласно которой свет происходит от бога. Он принимает пантеистическое решение: бог не имеет определенного места, он везде и нигде, вселенная сама есть бог, единое есть все. Бесконечное пространство, однако, не ограничивается материальностью, оно заключает в себе и духовные существа, бестелесный божественный свет, который путем эманации переходит в телесный свет физического мира.
Философия природы Патрици отвергалась представителями схоластической ортодоксии, его книги были запрещены. Происходило это в то время, когда шел процесс над Д. Бруно. Тогда-то в число запрещенных были внесены и книги Б. Телезио.
К вершинам философской мысли Ренессанса бесспорно принадлежит пантеистическая философия природы Джордано Бруно (1548–1600), в которой наиболее полно выражен гуманистический стихийно-диалектический характер философии и науки Ренессанса.
Творчество Бруно содержало в себе радикальные элементы средневековых традиций вольномыслия как в их аверроистском, так и в неоплатоновском варианте. Он развивает идеалы итальянского гуманизма в духе флорентийской платоновской Академии. Из современников наибольшее влияние на Бруно оказали астрономические открытия Коперника; философским источником его учения являются идеи Н. Кузанского и Б. Телезио.
Пантеизм философии Бруно — самый радикальный и последовательный из всех систем итальянской философии природы. Бруно вступил в непримиримый конфликт с тогдашним христианским, католическим и протестантским миром, со схоластической философией и университетской наукой. Он столкнулся с церковью, когда высказал сомнение по поводу некоторых католических догматов (например, о непорочном зачатии и т. д.). Преследуемый инквизицией, он покидает Италию. Побывал он в разных европейских государствах — во Франции, Англии, Германии (он был и в Праге, где опубликовал «Сто шестьдесят статей против математиков и философов» («Articuli centum et sexaginta contra mathematicos et philosophos»)). Постоянно преследуемый, он не находил нигде прочной опоры ни для педагогической деятельности, ни для издания своих трудов. В конце концов он возвращается в Италию и лишь некоторое время живет спокойно.
В Венеции он был арестован инквизицией, заточен, перевезен в Рим и там 17 февраля 1600 г. сожжен. Приговор Бруно принял мужественно, реагировал на него словами: «Вы, вероятно, с большим страхом выносите этот приговор, чем я его слушаю».
К главным трактатам Бруно относятся философские диалоги «О причине, принципе и едином», «О бесконечности, вселенной и мирах», в которых ставятся проблемы бесконечности мира, его динамического единства и вечности. Праосновой выступает Единое, материя, которая является неразвернутой причиной всего существующего, субстанциональной возможностью всего развернутого, конкретного. В Едином заключается внутренняя способность, материи быть всеобщей формой вселенной, формой всех форм: «Оно наконец созревает в единую подлинную и универсальную субстанцию, которая является одной и той же во всем (которая называется сущее), праосновой всех различных видов и форм… Оно само является Единым, бесконечным, неподвижным, субстратом, материей, жизнью, душой, тем, что суть истинное и доброе». Эту способность, удерживающую мир в единстве и в то же время в разнообразии, Бруно называет «душой мира», которая не только существует внутри материи, но и господствует над ней. Эта мировая душа представляет всеобщий разум, является внутренним действием материи, формирует ее изнутри.
«…Универсальной действующей причиной в природе является универсальный разум — первая и главная сила мировой души; мировая душа — его универсальная форма». «Это и есть то нечто, что не меняется, что все наполняет, что освещает весь универсум и побуждает природу, чтобы она соответствующим способом образовывала свои виды». В стремлении опровергнуть воззрения перипатетиков о внешнем, чуждом вмешательстве в природу, материю, стремясь преодолеть ложность схоластического дуализма и креационизма, он приходит к идее о всеобщей одушевленности материи. [«Говорю, что если жизнь находится во всем, то-душа является формой всех вещей. Всем владеет, во всем управляет, что есть сложено, решает о сложении и содружности частей. И поэтому форма существует, столько, сколько существует и материя» (Ibid. S. 172).] Его философия природы имеет характер панпсихического материализма.
С этих позиций он выступает против схоластического подхода, утверждающего, что материя — это лишь некая «чистая» возможность, и против аристотелевского понимания материи как пассивной и выдвигает учение о материи как активном, творческом принципе.
Материя не может существовать без формы, и, наоборот, форма является внутренней стороной материи, она не может быть чем-то привнесенным извне, приданным.
Материя существует не только как причина разнообразных изменений реальности, не только в качестве возможности (в смысле неразвернутой праматерии, субстанции), но она выступает как Единое и в бытии, и в реальности вещей, природы, вселенной. В Едином совпадают одно и многое, минимум и максимум; в единичном содержится полнота, универсальность бытия, но не «вполне, тотально», потому что «каждая вещь является единой, но не единым способом». В этих подходах развивается мысль о совпадении противоположностей, направленная против дуализма средневековой схоластики. Бруно говорит о противоречивом единстве устойчивости, неподвижности, бесконечности Единого и неустойчивости, многосторонности этого Единого, проявляющегося во множественности и развернутости. Мир является Единым, которое состоит из множества самостоятельных единиц. Космос есть структура, состоящая из дискретных частей, атомов, существующих в непрерывной бесконечности. «Атомизм» Бруно заключается в его учении о минимуме и максимуме. Физическим минимумом является атом, математическим минимумом точка, минимумом метафизическим — монада. Образование монад неповторимо, но каждая монада как минимум отражает в себе также и весь универсум. В своей методологии Бруно пантеистически отождествляет движение и материю, природу и мировую душу (бога) (см. «О монадах, числе и форме», 1591).
Его пантеизм заметно склоняется к материализму. Движение как внутренний принцип природы является не случайным, но необходимым. «…Целое, если оно бесконечное и неподвижное, не нуждается в том, чтобы для него искали источник движения». «Неподвижность» целого Бруно понимает как абсолютность движения, как бесконечное существование движения и изменений, поэтому не следует искать некий внешний источник движения (бога как первого двигателя, создателя, творца).
Тезис о бесконечности вселенной имеет основополагающее значение для космологии Бруно. Космос — одновременно пустая и одновременно наполненная бесконечность. [«Говорим о них (т. е. о космических телах. — Авт.), что они сложены из наполненности и пустоты, ибо дух, воздух, некий эфир не суть только вокруг этих тел, на кроме прочего он проникает через них и находится тем самым внутри всех вещей, Используем же мы выражение „пустота“ по тому самому поводу, па которому мы отвечаем на вопрос, где есть тот бесконечный эфир и миры» (Ibid. S. 262–263.).] Вне космоса нет ничего иного, он является всем бытием, вечным, несотворенным богом. Бесконечность мира не является божественным атрибутом, как это доказывает теология. Бруно отвергает также представление о том, что мир находится на некотором особенном месте, окруженном пустым пространством, или богом.
Бруно создает новую космологию, которая восходит к гениальным открытиям Коперника, и делает из гелиоцентрического понимания мира радикальные философские выводы. Бесконечность вселенной нельзя понять с точки зрения обыденного человеческого сознания, которое формируется на основе опыта в отношении конечных вещей. Бесконечность нельзя понять лишь с помощью представлении о том, что меньше и что больше. Здесь необходим философский разум. Мир однороден во всех своих частях, ни одно тело не имеет привилегированного положения, не существует никакого размещенного в центре внешнего источника движения (первого двигателя). Следствием концепции физического единства вселенной у Бруно является гипотеза, выражающая возможность существования жизни и на других планетах.
Теория познания Бруно исходит из идеи, что в человеческой душе проявляется единая вселенская мировая душа, которая неотделима от одушевленной материи. Человеческая душа отличается от душ животных своей особой «конфигурацией» — строением, зависящим от физической структуры телесных органов. Бруно развивает также идею классиков древности о значении руки и труда для развития разума. Цель разума — проникновение в глубину явлений, познание закономерностей природы, т. е. ее «божественности». Познание начинается с восприятия и идет к представлениям, рассудку и разуму. Чувственное познание само по себе недостаточно. Познание является бесконечным процессом, потому что и предмет его бесконечен.
Истины можно достичь лишь философскими средствами, но ни в коем случае теологическими. В отличие от догматического авторитаризма Бруно делает упор на том, что основой твердого и истинного знания должно быть сомнение, однако не в его абсолютизированном значении, не в виде скепсиса. Как и другие мыслители Ренессанса, он говорит о практическом значении познания, о «магии», т. е. о таком активном воздействии, которое состоит в раскрытии «тайн» природы.
Этика Бруно призывает к борьбе за благородные цели, за добро, которое неограниченно реализуется во вселенной (Единое и есть добро). Однако борьба за возвышенные цели требует жертв. Человек в этом устремлении должен преодолевать страх личной гибели, уничтожения. Истинным мерилом нравственности является деятельность, земные цели человека. Он отвергает пассивный аскетизм религиозной веры, выступает и против пассивного гедонизма. Человеческая деятельность должна быть возвышенной, устремленной к бесконечности, частью которой является он сам. Человек должен познавать вселенную и в соответствии с этим реализовать самого себя.
Атеистическая философия Бруно обусловлена историческими обстоятельствами, эпохой. Его атеизм ограничен пантеизмом, содержащим, однако, сильные материалистические тенденции. Атака Бруно на тогдашнюю церковь и ее учение, на основания веры (например, отрицание загробной жизни и т. д.) была проявлением воинствующего духа философа и ученого. В вопросах религии он выступил, можно сказать, более остро и бескомпромиссно, чем, например, позже это сделали Ф. Бэкон и Р. Декарт. Он отверг догматическое авторитарное вмешательство религии в вопросы философии и науки, в проблемы общественных отношений и нравственности. Однако он допускал, что религия может иметь исключительное влияние на примитивные народы. В будущем место религии откровения должна занять «религия разума». Ее исходные моменты он, собственно, и обозначил в своей философской системе.
Пантеистическая философия природы Бруно завершает развитие ренессансного мышления. Последующее развитие философии связано с эрой, в которой естествознание развивается на экспериментальных и математических основах, что обусловливает новые способы философского отражения мира, новый подход к вопросам методологии наук.
К философам последующего времени, на которых оказал влияние Бруно, относятся Спиноза (пантеизм), Лейбниц (монадология), Шеллинг (диалектика).
^
Социальные теории
Поворот Ренессанса к человеку и его культуре, освободившейся от диктата теологии, был заметен и в области социальных и политических теорий. Карл Маркс писал: «Почти одновременно с великим открытием Коперника — открытием истинной солнечной системы — был открыт также и закон тяготения государств: центр тяжести был найден в нем самом… но уже… Макиавелли, Кампанелла, а впоследствии Гоббс, Спиноза, Гуго Греции вплоть до Руссо, Фихте и Гегеля стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии».
Новые концепции государства и права исходили из других предпосылок, чем в средние века. Вместо одностороннего и однозначного религиозного объяснения они основывались на положении о естественном характере человека, на его земных интересах и потребностях.
^
Идеология централизованного государства
Центром социальных теорий было государство, в котором прогрессивные силы общества, представленные мещанством, рассматривались как главное орудие против универсальной папской церковной гегемонии, как средство для реализации своих политических и экономических интересов. Только сильное, централизованное государство могло преодолеть внутреннюю разобщенность общества, а также защитить требования национальной суверенности в борьбе против католического универсализма в эпоху, когда пробуждались европейские нации. Поэтому идеи государственного абсолютизма находили наибольшее звучание в социальных теориях Ренессанса. Авторами этих теорий были итальянец Н. Макиавелли и француз Ж. Боден.
В конце XV и в начале XVI в. Италию потрясали постоянные войны, которые тормозили экономическое и культурное развитие общества, вносили в него кризисные явления и в целом отвечали интересам католической реакции. Италия была раздроблена на городские республики, князья соперничали между собой за власть, и не было силы, которая способна была бы политически объединить страну. Потребность в сильном государстве, которое выполнило бы эту задачу, лучше всего выразил в своей политической теории флорентиец, современник Леонардо да Винчи, друг Микеланджело, государственный деятель, историк, поэт и, кроме того, первый достойный упоминания военный писатель Нового времени Никколо Макиавелли (1469–1527).
Первоначально он занимал важную политическую должность во Флорентийской республике, после ее падения в 1512 г. был выслан в изгнание, где и написал свои политические трактаты. Наиболее известны из них «Заметки о первых десяти книгах Тита Ливия», «Правитель», посвященный «возвышенному» Лоренцо Медичи; важным является и трактат «Флорентийские летописи», [К представителям флорентийского гуманистического направления помимо Макиавелли относятся и его младший современник Франческо Гвиччиаряини (1483–1549), и их предшественник Леонардо Бруня из Ареззы (1369–1444), который написал «Двенадцать книг флорентийской истории», и Поджио Браччиолини (1380–1459), бывший, между прочим, свидетелем мученической смерти М. Иеронима Пражского в Костннце.] который он пишет уже в то время, когда Медичи опять призвали его к государственной службе.
Центральное место в философии Макиавелли занимает идея постоянного коловращения как результата влияния «фортуны» (судьбы, счастья), представляющего необходимый естественный ход вещей, имеющего «божественный» характер. Необходимость он понимает не фаталистически — люди могут использовать «фортуну» и достичь успеха; это зависит от того, как они ее приспособят и как смогут ей противостоять. Это оптимистическая, гуманистическая, ренессансная позиция, отрицающая теологический провиденциализм.
Макиавелли отделяет политику от теологических и религиозных представлений. Политика лишь автономная сторона человеческой деятельности, она является воплощением свободной человеческой воли в рамках необходимости («фортуны»). Политику определяют не бог или мораль, но сама практика, естественные законы жизни и человеческая психология.
Исследование исторической и политической практики приводит Макиавелли к пониманию того, что определяет мотивы политической деятельности. Оказалось, что это реальные интересы, корысть, стремление к обогащению, которые и детерминируют политическую деятельность. Макиавелли тем самым весьма близко подходит к пониманию роли материальных и классовых интересов в развитии общества, считает политику в конечном счете продуктом свободной человеческой воли, личных желаний, особенностей характера. В сущности он выводит политику из психологии.
Политическая теория Макиавелли имела актуальное значение, а именно стать руководством для способного и честолюбивого правителя, который во главе сильного государства освободил бы Италию от влияния приходящего в упадок папства. Тот, кто встал на пути «судьбы», должен быть правителем нового типа, абсолютным властелином, деспотом. Он не должен быть связан никакими априорными схемами, правовыми предписаниями, религией или своим собственным словом. Он должен руководствоваться строго анализированными реальными фактами, может быть жестоким, хитрым, грешным, беспощадным (образцом ему служил Чезаре Борджиа). Правитель как общественный деятель должен руководствоваться моралью силы этого мира, но не моралью религиозной, лишь так он овладеет стихийным движением человеческого поведения, вытекающим из жажды богатства, благосостояния и инстинктов, которые сопутствуют жизни индивида. Это мораль, отражающая реальность жизни. Основной тон в ней человек не может слепо полагаться на «божественное провидение», на спасение, но должен сам стать лицом к лицу с действительностью, рассчитывать на свои собственные силы при формировании своей судьбы. Эту предпосылку Макиавелли помещает в основу своих социально-политических представлений. В области политики это земной, ренессансный гуманизм, выраженный по отношению к реальности соперничающих интересов открыто и отважно, даже жестоко.
Мораль силы Макиавелли часто определяется как образец «циничности» и аморальности в политике. Термин «макиавеллизм» со временем стал синонимом политики, которая руководствуется принципом «цель оправдывает средства». Макиавеллизм осуждается как теория и практика бесконтрольного использования власти, не подчиненной никаким «высшим» моральным критериям, как деятельность, единственным законом которой является успех любой ценой.
Впервые объективно и правдиво истинное историческое значение Макиавелли, его творчества показал Антонио Грамши. Он отвергал так называемый макиавеллизм, приписанный Макиавелли, сведенный к вульгарной реализации принципа «цель оправдывает средства». В действительности этот принцип имеет более позднее, иезуитское происхождение. Макиавелли его никогда не формулировал, он не вытекает из контекста его творчества. Согласно Грамши, необходимо понимать творчество Макиавелли не абстрактно, вне конкретных, исторических условий эпохи, но в связи с интересами прогрессивных сил тогдашнего итальянского общества, их потребностью установить государственную власть антифеодального типа, объединить страну в централизованное государство во главе с абсолютным правителем.
Следующим представителем политической теории абсолютизма после Макиавелли был Жан Боден (1530–1596). Он выразил в своей теории потребность сильной государственной власти, которая могла бы вывести Францию из хаоса религиозных войн.
Подобно Макиавелли, Боден ставит интересы государства выше религиозных. Религия является вторичной. В обществе должна существовать свобода совести, никого нельзя принуждать, чтобы он против своей воли, своих убеждений исповедовал какую-либо религию. [Эти принципы Боден формулирует в «Разговоре семи мужей», который, выливается в идею религиозной терпимости каждая религия может быть признана государством, если она против него не выступает. Сам Боден выступает как деист.]
Свои социальные и политические воззрения он изложил в работе «Шесть книг о государстве» (1576). В согласии с «Политикой» Аристотеля он считает основой государства семью. Государство представляет собой содружество, которое решает проблемы семьи, сохраняет общественное имущество, основывающееся на частной собственности. Боден признает имущественное неравенство в обществе как естественное и необходимое. Государство он определяет как правовую власть над социальными вопросами нескольких семей, власть, которой принадлежит решающая сила. Монарх — единственный, абсолютный источник права, суверенности.
Боден намечает также натуралистическую, т. е. географическую, типизацию государств: тип государства зависит от климатических условии. Для умеренного пояса типичным является государство разума, ибо живущие здесь народы имеют чувство справедливости, любовь к труду. Южные народы безразличны к труду, поэтому нуждаются в религиозной власти и государстве, тогда как народы Севера, живущие в суровых условиях, можно заставить подчиниться лишь сильному государству.
^
Теория естественного права
В эпохи, предшествующие Ренессансу, право интерпретировалось в сущности двумя способами: с одной стороны, как проявление божьего суда, и поэтому оно имело характер необходимости, абсолютности и вечности (этот подход был нормой для средневековья); с другой стороны, право рассматривалось как продукт договора людей, который может изменяться, является относительным (этот подход есть у многих представителей древнего мира). Однако существует еще и третья сторона интерпретации, согласно которой право имеет человеческое происхождение, но, несмотря на это, оно необходимо, потому что его сущность вытекает из общей человеческой природы. Понятие «естественного» права было известно уже древним стоикам и в средневековье некоторым схоластам (в частности, Фоме Аквинскому), но по-настоящему оно развивается лишь на пороге новой эры.
Одним из сторонников такого понимания права был голландский юрист, историк и политик Гуго Греции (1583–1645), идеолог голландской буржуазной революции, автор трактатов «Свободное море» и «Три книги о праве войны и мира».
Философским основанием его естественноправовой теории является рационалистическое мировоззрение. Решать социально-правовые конфликты призван ratio. Разум имеет общекритическое и всеоцениваю-щее значение, это «свет разума», а не божественное откровение, он является верховным судьей.
Греции, как и другие гуманисты и рационалисты Ренессанса, говорит о «двойственной истине». Он признает божественное право и право человеческое. Этот подход с точки зрения тогдашних исторических условий был шагом вперед, который освобождает, эмансипирует человека от гегемонии монопольного права, представляемого церковью.
В человеческом праве Гроций различает гражданское (ius civile) и естественное (ius naturale) право. Гражданское право возникает исторически, обусловлено политической ситуацией; естественное право вытекает из естественного характера человека и является не предметом истории, а философии. Сущность естественного права заключена в общественном характере человека (как у Аристотеля), из чего вытекает необходимость общественного договора, который люди заключают для обеспечения своих интересов и образуют таким способом государственный союз.
^
Предшественники утопического социализма
В период образования первых зародышей капитализма, связанных с первоначальным накоплением капитала, возникают теории, критически реагирующие на явления, сопряженные с углубляющейся социальной дифференциацией. И хотя эти теории возникают в начале раннего капитализма, в них, собственно говоря, уже предвидятся горизонты капиталистического общественного строя и выражаются идеи социального равенства людей. Часто это гениальное предвидение имеет утопический и иллюзорный характер, так как отражает объективно несуществующие общественные условия и силы тогдашнего общества.
Утопические учения XVI в. связаны прежде всего с трудами английского гуманиста Томаса Мора, итальянского монаха Томмазо Кампанеллы и немецкого реформатора Томаса Мюнцера (о котором уже говорилось в главе о Реформации).
Томас Мор (1479–1555) происходил из богатой семьи королевского юриста. Его гуманистическое мировоззрение формировалось в Оксфордском университете, центре тогдашних английских гуманистов. Как член парламента, он смело выступает против финансовых махинаций короля Генриха VIII, против его деспотизма. Этим он способствовал росту своего авторитета среди лондонской мелкой буржуазии. На королевской службе в качестве канцлера Генриха VIII он становится противником реформаторских усилий короля. Впоследствии был казнен.
Творчество Мора является ярким выражением гуманистического нравственного идеала, учением о достоинстве человека и его свободе. Трагические обстоятельства его смерти как бы предзнаменовали конец мечтаний о золотом веке, провозглашавшемся платоновской Академией во Флоренции, а также крушение «христианского гуманизма» Эразма Роттердамского.
В своем главном произведении «Книжка поистине золотая и равно полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства и острове Утопия» [Утопия — дословно: место, которое не существует. Это название стало нарицательным для целого направления мысли — утопизма.] он рассуждает о социальных и политических проблемах эпохи. Она написана в форме диалога, в котором принимаются и отвергаются официальные политические воззрения. В первой части работы дается критика английского общественного устройства, во второй представляются устройство и жизнь на вымышленном острове Утопия.
Мор не удовлетворялся поверхностным анализом периода начального накопления капитала, которое в Англии проходило весьма жестоко, но стремился к выяснению социальных причин этого явления. Он считал, что они коренятся в частной собственности. Поэтому следует изменить общественные отношения, однако это нельзя сделать лишь законодательным, путем. Идеалом, который он конкретно демонстрирует на примере отношений на острове Утопия, были общественная собственность, высокоорганизованное производство, целесообразное руководство, гарантирующее справедливое и равное распределение общественного богатства. Все люди должны иметь право и обязаны работать и т. д.
Томас Мор был одним из основателей утопического социализма. Его творчество является наиболее важным исследованием о социализме конца XVIII столетия. Здесь он проявился как рационалист, его социальное учение соответствует уровню научного познания того времени. Свои представления о новом обществе он не считал фантазией, хотя и осознавал возможные трудности при их реализации. Он полагал, что при помощи образованного правителя его идеи можно реализовать в ближайшем будущем. В этом также проявлялась иллюзорность, неосуществимость его учения, и оно входит в историю мышления как «утопическое».
Томмазо Кампанелла (1568–1639) был одним из представителей итальянской философии природы; однако более значительную роль сыграло его социальное учение: кроме «Города Солнца» он написал «О христианской монархии», «О церковной власти», «Об испанской монархии». Он отстаивает единство церковной и светской власти, отвергает протестантскую Реформацию, провозглашает идею власти папы над всеми христианами.
Он выражает мысль о необходимости больших общественных преобразований, направленных на реализацию царства божьего на земле, призывает в соответствии с христианской совестью к ликвидации частной собственности и эксплуатации. В отличие от Мора он полностью убежден в возможности реализации этого переворота силой массового восстания. Кампанелла становится во главе заговора в Калабрии, оккупированной испанцами. После поражения заговора он бежал, был схвачен и осужден на пожизненное заключение. Провел в тюрьме больше 25 лет, написал там большинство своих книг, в том числе «Город Солнца». [Обращаем внимание читателя на произвольность перевода названия «Город Солнца». Кампанелла имел в виду «Град Солнца», «Солнечный град», здесь град в смысле «царство», «государство», отсюда чешский перевод — «Солнечное государство» — «Sluneisni stat» (Примеч. пер.).] Книга «Город Солнца» возникла не случайно, как пытаются представить современные католические исследователи, она находится в полном соответствии со всей духовной и политической жизнью автора, который на собственном опыте познал страдания масс. В отличие от Мора он не обращает большого внимания на экономические проблемы. Ликвидацию частной собственности он полагает возможной, исходя из моральных установок христианства.
Государственное устройство Солнечного города представляет собой идеализированную теократическую систему, во главе которой стоит жрец, первый духовник. Метафизик, отмеченный солнечным символом. Его помощники — Власть, Мудрость и Любовь — занимаются вопросами воины и мира, военным искусством и ремеслом; свободными искусствами, науками, школьным образованием; вопросами контроля рождаемости, воспитания, медициной, земледелием и скотоводством. Политическая, светская власть переплетается с церковной, духовной. Религия граждан города Солнца сливается с философией природы, задача состоит в их объединении.
В программе Кампанеллы, его видении будущего также есть требование всемирного объединения людей, возглавить которое должен папа. Римский сенат, состоящий из представителей других государств, должен решать все спорные вопросы мирным путем.
Утопическая теория Кампанеллы в отличие от учения Мора не является продуктом социального анализа противоречий эпохи, содержит целый ряд внутренних противоречий. Несмотря на это, в ней много положительных элементов. Так, он предсказывает огромную роль науки, говорит об образовании народа, о ликвидации войн, частной собственности, о справедливом и разумном управлении.
Мор и Кампанелла принадлежат к прогрессивным мыслителям, их социалистические утопии представляют собой идейно целое и плодотворное течение социально-политических концепций Ренессанса. В своем творчестве они развивают мелкобуржуазные идеалы эмансипации и гуманизма. В философском смысле они позитивно повлияли на дальнейшее развитие европейского рационального мышления, в частности философии Просвещения.
Мы говорим о них как о предшественниках последующего утопического социализма, являющегося продуктом более высокой ступени развития капиталистического общества. Великие утописты XIX столетия Сен-Симон и Фурье во Франции, Оуэн в Англии восходили к ним и ссылались на них при разработке своих систем.
* * *
Этап философии Ренессанса занимает видное место в истории философской мысли. Это период, в котором вследствие социальных и экономических изменений, связанных с разложением феодального строя в Европе и возникновением новых, исторически прогрессивных форм производства и общественных отношений, рождается новое мировоззрение, основными чертами которого являются натурализм, индивидуализм и рационализм. Возобновленный интерес к антике, сопровождающий рождение культуры и мировоззрения Ренессанса, диктуется потребностью веры в собственные силы, в возможность создания свободной естественной жизни для индивида. Источником и опорой для этого могла стать не средневековая духовная традиция, но античная культура и философия. Хотя в гуманизме Ренессанса проявляются элементы аристократических, «элитарных» тенденций, по своим антисхоластическим, антиаскетическим выступлениям он сыграл объективно прогрессивную роль.
Во всех областях культуры Ренессанса в течение всего периода старые идеи, традиции, концепции сталкиваются с новыми. Философию Ренессанса также характеризует борьба новых идей и программ со схоластическими концепциями. Одной из важных и существенных задач философии того времени было очистить древнюю античную философию от схоластических деформаций, сделать доступным ее подлинное содержание, а также в соответствии с требованиями нового уровня общественного и научного развития идти дальше, выйти за ее пределы и границы. Философия периода Ренессанса характеризуется усилением связи с наукой.
Очевидно, что огромные революционные изменения в философии сопровождались противоречиями и конфликтами. Путь к новому не проходил по прямой восходящей линии, но, наоборот, при сохранении общей схоластической ориентации в нем переплетались элементы старого и нового способов мышления, случались и компромиссы, но при всем этом новое философское мышление требовало своего выражения. Пантеизм Ренессанса, прогрессивный в данных исторических условиях, выражал расхождение со схоластическим спиритуализмом. В то время лишь в его рамках могли проявляться материалистические тенденции, но ни в коем случае не вне его.
Основным признаком философии Ренессанса является его светская, земная направленность. Если предметом средневековой философии был бог, то ныне на первое место выступает природа. Сосуществование и взаимное влияние развивающейся экспериментальной науки и философии были для Ренессанса необычайно важными и представляли собой перспективные зародыши дальнейшего развития философии.
Значение философии Ренессанса можно кратко представить в том смысле, что в целом она, собственно, создала основу философии Нового времени. Период философии Ренессанса представляет собой необходимый и закономерный переход от средневековых философских традиций к философии Нового времени.
Похожее
-
Гусев Д. А.
В книге изложены философские идеи мыслителей Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени и современной эпохи. Рассмотрены аристотелевская, ньютоновская и эйнштейновская научные картины мира. представлен краткий словарь терминов. Для школьников, учащихся средних специальных учебных заведений, студентов вузов, а также для всех, кто интересуется философией. -
Беляев Е. А., Перминов В. Я.
Монография посвящена философским и методологическим проблемам математики. Кратко прослеживается эволюция воззрений на математику с античности до настоящего времени и рассматриваются наиболее важные проблемы современного ее понимания: отношение математических понятий к логике, к эмпирическому знанию и к категориальным представлениям о мире. Выясняется связь методологических идей в математике с философскими воззрениями на сущность ее предмета и метода.
-
Макс Тегмарк
Галилео Галилей заметил, что Вселенная ― это книга, написанная на языке математики. Макс Тегмарк полагает, что наш физический мир в некотором смысле и есть математика. Известный космолог, профессор Массачусетского технологического института приглашает читателей присоединиться к поискам фундаментальной природы реальности и ведет за собой через бесконечное пространство и время ― от микрокосма субатомных частиц к макрокосму Вселенной. -
Валентин Турчин
В этой книге В.Ф.Турчин излагает свою концепцию метасистемного перехода и с ее позиций прослеживает эволюцию мира от простейших одноклеточных организмов до возникновения мышления, развития науки и культуры. По вкладу в науку и философию монография стоит в одном ряду с такими известными трудами как «Кибернетика» Н.Винера и «Феномен человека» П.Тейяра де Шардена. Книга написана ярким образным языком, доступна читателю с любым уровнем подготовки. Представляет особый интерес для интересующихся фундаментальными вопросами естествознания. -
Морис Клайн
Что такое математика? Каковы ее происхождение и история? Чем занимаются математики сегодня и каков ныне статус науки, которая составляет предмет их интересов и профессиональной деятельности? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге известного американского математика, профессора Нью-Йоркского университета Мориса Клайна. В этой работе автор в увлекательной и популярной манере описывает историю развития и становления современной математики от античности до наших дней, а также рассказывает о глубоких изменениях, которые претерпели взгляды человека на существо математической науки и ее роль в современном мире. -
Смаллиан Рэймонд
Книга известного американского математика и логика профессора Р. Смаллиана, продолжающая серию книг по занимательной математике, посвящена логическим парадоксам и головоломкам, логико-арифметическим задачам и проблемам разрешимости, связанным с теоремой Геделя. Рассчитана на интересующихся занимательной математикой. -
Эрвин Шрёдингер
Эрвин Рудольф Йозеф Александр Шредингер — австрийский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике. Один из разработчиков квантовой механики и волновой теории материи. В 1945 г. Шредингер пишет книгу «Что такое жизнь с точки зрения физики?», оказавшую существенное влияние на развитие биофизики и молекулярной биологии. В этой книге внимательно рассмотрено несколько важнейших проблем. Основополагающим является вопрос: «Как могут физика и химия объяснить те явления в пространстве и времени, которые имеют место внутри живого организма?» Прочтение этой книги даст не только обширный теоретический материал, но и заставит задуматься над тем, что же в сущности есть жизнь? -
Владимир Успенский
В этой книге говориться о математике как о части культуры духовной. Данный текст писался не для математиков, а скорее для гуманитариев. Поэтому при его составлении в ряде случаев приходилось выбирать между понятностью и точностью. Предпочтение отдавалось понятности. Очерчивая место математики в современной культуре, автор пытается прояснить для читателей-нематематиков некоторые основные понятия и проблемы «царицы наук». -
Александр Виленкин
Физик, профессор Университета Тафтса (США) Алекс Виленкин знакомит читателя с последними научными достижениями в сфере космологии и излагает собственную теорию, доказывающую возможность — и, более того, вероятность — существования бесчисленных параллельных вселенных. Выводы из его гипотезы ошеломляют: за границами нашего мира раскинулось множество других миров, похожих на наш или принципиально иных, населенных невообразимыми созданиями или существами, неотличимыми от людей. -
Александров П. С., Маркушевич А. И., Хинчин А. Я.
Сборник книг предназначается для людей, изучавших элементарную математику и уже ставших или готовящихся стать преподавателями элементарной математики. Логика нашего издания — это логика систематического, по возможности простого и доступного изложения тех вопросов математической науки, из которых строится школьный курс, а также и тех, которые хотя и не находят в этом курсе прямого выражения, однако необходимы для правильного и сознательного его понимания и создают перспективы для дальнейшего развития содержания и методов школьного курса.
Далее >>>
К постановке проблемы
Плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю, и обладайте ею.
Бытие, I, 28
Демографический фактор, как начинают сегодня понимать многие наиболее продвинутые политологи, – есть решающий фактор человеческой истории, определяющий ход событий в мире. Конфликты и войны, революции, перемещения гигантских человеческих масс, исход конкурентной борьбы цивилизаций – все это и многое другое зависит в своих результатах, как и в своих истоках, от такой, казалось бы, простой вещи, как рождаемость, репродуктивная функция человека. Поскольку от этого зависит жизнь и смерть этносов, а этносы, как теперь уже ясно почти всем, – это и есть субъекты истории, творящие ее в масштабах планеты Земля.
Для того, чтобы убедиться в верности заявленного тезиса, разберем несколько ярких, броских ситуаций, которые всем очевидны, но мало кем верно интерпретированы, ибо вместо их этнополитического анализа нам привычно подсовывают то политэкономический, а то т.н. геополитический взгляд на вещи, от чего очень мало проку. Обратимся с этой целью как к современности, так и к прошлому, далекому и не очень.
Современные зоны политической турбулентности и фактор рождаемости
Сегодня на карте мира есть несколько зон, отличающихся сугубой политической турбулентностью и нестабильностью. Это, прежде всего, Ближний Восток (Аравийский полуостров плюс Северная Африка) и Передняя Азия, Афганистан, некоторые регионы Центральной Африки. Объясняя этот факт, политологи обычно прибегают к каким угодно аргументам, но всегда избегают при этом смотреть в корень проблемы. А он, между тем, – лежит на поверхности. Стоит только взглянуть на некоторые статистические данные, чтобы обнаружить основнополагающее обстоятельство: в этих зонах налицо очень высокое демографическое давление, постоянно растущее.
Особенно ярким примером демографического роста является Ближний Восток и Северная Африка, как раз те территории, где вспыхнула «арабская весна», плавно переходящая в истребительные войны. Конечно, нам не скинуть со счета провоцирующую роль США, развязавших войну в Ираке и вдохновивших переворот в Ливии и бойню в Сирии. Но они сыграли лишь роль детонатора, поднесли, так сказать, спичку к костру, который сложился без их участия, сам собой. Судите сами.
* * *
Взять хотя бы те четыре страны, которые забурлили кровавым ключом весною 2013 года. В Египте среднегодовой прирост населения – 1,3 млн человек, в настоящее время плотность в долине Нила (остальное – пустыня) достигла 1700 чел/км2. За годы правления Мубарака численность египтян возросла почти вдвое. В Тунисе с 1997 по 2010 гг. численность населения выросла с 9.218 до 10,6 млн человек (цифра кажется небольшой из-за огромной трудовой эмиграции, но молодежи в преизбытке). В Ливии население выросло с 1961 года в четыре раза: с 1,4 до 5,7 млн. человек. В Йемене ежегодный прирост – 3,8 %, один из самых высоких в мире! Только за десять лет с 1986 по 1996 население там выросло с 9,27 до 16 млн человек, а сегодня их уже 30,5 млн.
Наконец, в Сирии на 1 женщину приходится 2,85 детей, что немногим менее Йемена (3,1), но существенно выше общемирового среднего показателя (2,42). Не сильно отстают другие страны региона. Сегодня на одну женщину в Марокко приходится 2,55 ребенка, в Тунисе – 2,45, примерно столько же в Ливии и Мавритании, в Иране – 3,5, в Кувейте и ОАЭ рождаемость еще выше, поскольку это поощряется правительством.
А вот что происходит с этой точки зрения в Афганистане. Гражданская война там началась в 1978 году, когда Народно-демократическая партия Афганистана пришла к власти в ходе т.н. Апрельской революции. С тех пор война длится непрерывно, то с участием иностранных военных (СССР, НАТО, США), а то и без него, и конца ей пока что не видно. За 43 года непрекращающейся бойни страна потеряла множество людей. Точная статистика практически отсутствует, но только за период с 1980 по 1987 год по данным USAID погибло 875.000 человек, а по данным исследования «Гэллап» – 1.200.000 человек[1]. Численность беженцев уже в 1990-м году оценивалась в 6,2 миллионов[2]. И в дальнейшем цифры потерь только росли. Но при всем том, если при первой переписи населения Афганистана 1979 года в стране насчитали 15.540.000 человек, то сегодня (июль 2021 г.) их насчитывается уже 37.466.414 человек – рост более, чем в два раза за время нескончаемой войны. При этом только с 2019 года население уже возросло как минимум на 5.240.000. Ежегодный прирост оценивается в 2,6 %, рождаемость – 45,5 на 1000 (5-е место в мире), суммарный коэффициент рождаемости – 6,5 рождений на женщину (4-е место в мире).
Впечатляет, не правда ли? Феноменально! Война идет, люди массово гибнут, как мухи, а население при этом растет, как дай Бог нам, русским!
Население вообще всех исламских стран продолжает расти. Необходимо иметь в виду также, что аналогичным процессом охвачена и Турция: по данным Турецкого института статистики, в 2019 году население возросло на 1 млн человек (вообще, численность населения страны, составлявшая в 2013 году 77.695.904 чел., в 2019 году составила уже 83.154.997 человек), причем этот прирост – около миллиона в год – держится с 1975-1980 гг. Достаточно высок суммарный коэффициент рождаемости – 2,07. Прилив из Сирии иммигрантов, этнически, конфессионально и цивилизационно близких туркам, вносит свою лепту в общую картину. Территория Турции относительно мала, поэтому плотность населения (а с ней демографическое давление) весьма высока: 108,9 чел/км2. Очень важно отметить, что количество турецкой молодежи огромно: люди до 15 лет составляют 26,6 % населения. Национальный состав Турции довольно пестр, причем этнические турки составляют лишь четверть населения. Но: статья 66 Конституции Турции определяет всех граждан страны как турок, а турецкий язык – единственный государственный. Такова политическая нация этой унитарной страны.
Аналогичная ситуация сложилась в Африке среди государств с негроидным населением, отмеченных кровавыми эксцессами, гражданскими конфликтами и т.п. Например, в ЦАР за 30 лет (1985-2015) население выросло вдвое; в Руанде за 40 лет (1972-2012) – втрое; в Сомали за 20 лет (1990-2010) примерно в 1,5 раза, а к 2100 году, по прогнозам, выростет до 200 млн человек; ну, а в Эфиопии к тому времени уже будет 400 млн (там ежегодный прирост 3,2 %, в среднем рождается 10.600 детей в день ). Нетрудно предсказать, что аналогичные эксцессы раньше или позже развернутся в Нигере (6,91 детей на 1 женщину), Конго (5,7), Уганде (5,45), Бенине (5,47), Мали (5,63), Мозамбике (4,89), Гвинее-Бисау (4,72), Нигерии (4,67), Судане (4,66), Замбии (4,63), Танзании (4,45), Эфиопии (4,07) и др.
Весь секрет ближневосточного социально-политического взрыва, новой арабской и турецкой пассионарности, кровопролитных войн в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, ЦАР, Руанде и др. – кроется в этих цифрах, что уж тут говорить! Перед нами – типичный диалектический скачок, переход количества в качество. В чем именно он состоит? Это понятно каждому даже начинающему биологу, а ведь люди, позволю себе напомнить, – это, прежде всего, биологические существа, всецело подчиняющиеся общим для всего живого законам Природы.
* * *
Итак, что происходит в любой биологической популяции от саранчи и леммингов до человека, когда ее плотность перешагивает через некую критическую величину, через некий «предел допустимой концентрации»? Когда все особи начинают ощущать своей шкурой: что-то нас стало слишком много на этой территории?
Ответ известен, он неизменен в миллионах лет. Когда численность популяции превышает разумные допустимые пределы, становится чрезмерно избыточным, Природа всегда включает следующие три механизма регуляции: 1) война, 2) миграция и 3) эпидемия/пандемия (а в мире животных эпизоотия). Три механизма – не больше, не меньше.
Это простой, но безусловный закон биологии. Сегодня мы свидетельствуем полный разгул всех трех названных механизмов, мощно раскрутивших свои маховики. И пандемия, и взрывная неконтролируемая миграция цветных масс, запредельно размножившихся, и непрерывные войны, которыми охвачены соответствующие регионы – все это налицо и не требует специальной оптики, чтобы предстать как очевидность.
На примере полыхающих кровавыми пожарами вышеназванных стран Азии, Ближнего Востока и Африки мы видим действие названного закона в очередной раз. (Кстати, революции и гражданские войны среди усиленно размножающихся народов Латинской Америки – в ХХ веке ее население учетверилось! – также указывают на близость рокового рубежа.) Ситуация там напоминает известную сказку про волшебный горшочек, который все варил и варил кашу, а она постепенно переполняла собою кухню, затем дом, улицу, город… Только в отношении бурно размножающейся человеческой «каши» некому крикнуть: «Горшочек! Больше не вари!» – да никто и не послушает.
Пока население всех этих стран растет, пока им есть, кем воевать, кого заправить в топку войны, они неизбежно будут это делать и война всех против всех не прекратится. И это еще, возможно (если иметь в виду судьбу всей антропосферы), – лучший вариант естественной регуляции проблемы перенаселения. Потому что оба других варианта толком не работают, не выполняют своего предназначения. А именно.
* * *
Миграция, в условиях ограниченности территории планеты Земля, – лишь паллиатив, временное средство, не решающее проблему перенаселенности в принципе. Мы видим, что у развитых стран Запада, Европы и Америки, испытывающих депопуляцию коренных автохтонных народов, ситуация обратная: там в ХХ веке, в одних странах раньше, в других позже, всюду возник демографический вакуум, притягивающий и затягивающий к себе избыточное население Земли из других стран. Перепад демографического давления слишком велик, баланс не в пользу белых европеоидов, губительный для них процесс приобрел статус неконтролируемого, неостановимого. Человеческая цветная «каша» валом валит из «горшочков» Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки, заполняет Европу, переливаясь через ее границы и создавая угрозу не только существованию белой расы, но и всему миру в целом.
Еще недавно, какие-нибудь 70 лет назад, европейцы, пользуясь своим лидерством в научно-технической и военной сфере, могли бы поставить физические заслоны этим массам. Но они поступили прямо противоположным образом, ибо на волне послевоенного антифашизма, приобретшего характер психоза, широко распахнули свои ворота для незваных гостей, пуще всего опасаясь обвинений в расизме. Если бы европейцы сразу же поставили заслон цветной миграции, замкнув демографический взрыв цветных народов в естественных границах исторического ареала их проживания, тогда взаимное вооруженное истребление в этом ареале приняло бы гомерический размах. И Европа, со стороны наблюдая и посильно регулируя процесс (например, исправно вооружая всех участников конфликта), смогла бы сберечь свою идентичность. Но массовая миграция на Запад смягчила местные условия, снизила накал взаимоистребления на Юге и Востоке планеты. Впрочем, и того населения, что там осталось и продолжает расти, вполне достаточно, чтобы данные регионы лихорадило и «кровопускание» не прекращалось, пусть и не в той степени, чтобы решить проблему.
* * *
Ну, а третий регулятор численности популяций – пандемия, как мы уже поняли на примере коронавируса, косит всех подряд, не разбирая цвета кожи, а значит также не может служить регулятором рождаемости цветных, угрожающей всему миру. Возможно, в некоторых секретных лабораториях (как Запада, так и Востока) идут работы над созданием смертельных инфекций избирательного и направленного расово-этнического воздействия, но ничего успешного в этом плане мы пока не видели.
Таким образом, из всех трех естественных механизмов регуляции этнодемографического баланса – война, миграция, пандемия – у первого из названных пока серьезного конкурента нет. В свете этого зависимость современной политической турбулентности и нестабильности от роста населения предстает вполне очевидной. Ибо все сказанное означает, что ожидать снижения накала вооруженных противостояний на Востоке и Юге – по меньшей мере преждевременно и наивно.
Но обрисованная проблема – не единственное следствие этнодемографического фактора. Его роль в истории человечества просматривается далеко, многократно и разнообразно.
Этнодемография в белой Европе в недавнем прошлом
Еще совсем недавно, в XVIII-XX вв., этнодемографический баланс в мире был принципиально иным: стремительно размножались не цветные расы, а белая – за счет успехов медицины, снизивших детскую смертность; технического прогресса; сельского хозяйства, способного прокормить избыток населения; социальных революций и реформ, формально уравнявших граждан в правах; военных побед над народами Азии, Африки и Америки, а также некоторых иных определяющих жизнь обстоятельств.
Есть смысл присмотреться к весьма масштабным последствиям, которые возымели этнодемографический и этнополитический факторы в истории европейских народов XVIII-XIX вв.
Самое яркое следствие демографического роста европеоидов – это «восстание масс». Феномен, впервые открытый и описанный испанским гением Хосе Ортегой-и-Гассетом в одноименной книге[3]. Ему удалось еще в первой трети ХХ столетия не только выразить всю основную суть своей эпохи, но и определить ее как минимум на сто лет вперед (на деле гораздо более).
Что же такое «восстание масс», как охарактеризовал его философ? В чем это восстание проявляется?
Если коротко – количество людской массы европеоидов переросло в ее новое качество, согласно закону диалектики. Изменилась ее социальная, политическая, культурная роль. Вся суть дела в том, что огромные людские контингенты, которые в прежние века были отлучены и от основных благ цивилизации, и от участия в процессах общественного развития и культурного мейнстрима, в XIX веке с поразительной скоростью стали массово приобщаться к тому, другому и третьему. Крестьяне, рабочие, небогатые горожане, интеллигенция что попроще и даже люмпены – все, кого охватывает расхожее понятие «простые люди», или «средние люди», по Ортеге, не относящиеся к креативному и/или правящему меньшинству, – оказались, тем не менее, вовлечены в общественную жизнь в невиданных масштабах уже к концу XIX века. Причем как в качестве производителей, так и в качестве потребителей и заказчиков самых различных, в том числе духовных, продуктов.
Философ подчеркивает: «Роль массы изменилась. Все подтверждает, что она решила выйти на авансцену, занять места и получить удовольствия и блага, прежде адресованные немногим… Никто, надеюсь, не огорчится, что люди сегодня развлекаются с большим размахом и в большем числе, – пусть развлекаются, раз есть желание и средства. Беда в том, что эта решимость массы взять на себя функции меньшинства не ограничивается и не может ограничиться только сферой развлечений, но становится стержнем нашего времени» (21).
А в результате – «во-первых, сегодня массы достигли жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его замещают» (26).
Вот поистине пророческие слова испанского мудреца:
«Итак, новая социальная реальность такова: европейская история впервые оказалась отданной на откуп заурядности. Или в действительном залоге: заурядность, прежде подвластная, решила властвовать. Решение выйти на авансцену возникло само собой, как только созрел новый человеческий тип – воплощенная посредственность. В социальном плане психологический строй этого новичка определяется следующим: во-первых, подспудным и врожденным ощущением легкости и обильности жизни, лишенной тяжких ограничений, и, во-вторых, вследствие этого – чувством собственного превосходства и всесилия, что, естественно, побуждает принимать себя таким, каков есть, и считать свой умственный и нравственный уровень более чем достаточным. Эта самодостаточность повелевает не поддаваться внешнему влиянию, не подвергать сомнению свои взгляды и не считаться ни с кем. Привычка ощущать превосходство постоянно бередит желание господствовать. И массовый человек держится так, словно в мире существуют только он и ему подобные, а отсюда и его третья черта – вмешиваться во все, навязывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно, то есть в духе “прямого действия”» (88-89).
«Цивилизован мир, но не его обитатель, – роняет Ортега-и-Гассет неутешительный афоризм в завершение сказанного. И ставит диагноз. – Ничто так не противоречит человеческой жизни, как ее же собственная разновидность, воплощенная в “самодовольном недоросле”. И когда этот тип начинает преобладать, надо бить тревогу и кричать, что человечеству грозит вырождение, едва ли не равносильное смерти» (92).
А в чем, собственно, опасность? Прежде всего: «Масса – кто бы подумал при виде ее однородной скученности! – не желает уживаться ни с кем, кроме себя. Все, что не масса, она ненавидит смертно» (72). Чего же можно хорошего ожидать от ее восстания? Негативные последствия в жизни европейских народов, вставших сегодня на грань вырождения, физического и морального, вполне очевидны – в политике и общественном строе, в культуре и идеологии Запада, в радикальной смене традиционных «европейских ценностей» на свою противоположность, в «религии человекопоклонства» (патриарх Кирилл), наступившей взамен христианской религии и цивилизации. И т.д. Все это – результат властного вмешательства массового человека, с его убогими критериями добра и зла, прекрасного и безобразного, должного и недолжного, в жизнеустройство окружающего мира.
Ортега-и-Гассет не только метко подметил и ярко описал ключевое, все определяющее явление своего (и нашего!) времени, но и сумел, во-первых, дать правдоподобное и глубокое разъяснение некоторых его причин, а во-вторых, предсказать некоторые его последствия в дальнейшем. Необходимое для понимания всего этого изложено ниже.
* * *
Причин, повлекших за собой восстание масс, изменившее многотысячелетний уклад жизни людей, можно найти немало, в зависимости от угла зрения. Ортега подметил три, но, может быть, наиболее важные: 1) демографическую, 2) информационную и 3) глобалистическую. Все они имеют колоссальное значение для правильного понимания истории ХХ века. Но я остановлюсь здесь только на первой.
Итак, демографическая причина. Ортега-и-Гассет дает верный, в основном, взгляд на демографическую суть дела:
«Откуда возникли все эти толпы, захлестнувшие сегодня историческое пространство? Не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто озабочен современностью… Дело в следующем: за многовековой период своей истории, с VI по XIX вв., европейское население ни разу не превысило ста восьмидесяти миллионов. А за время с 1800 по 1914 год – за столетие с небольшим – достигло четырехсот шестидесяти! Контраст, полагаю, не оставляет сомнений в плодовитости прошлого века. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах и, хлынув, затопила тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого факта, чтобы объяснить триумф масс и все, что он сулит[4]. С другой стороны, это еще одно, и притом самое ощутимое, слагаемое того роста жизненной силы, о котором я упоминал.
… Человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса – двух основных факторов – за столетие утроил людские ресурсы Европы» (49-50).
Все в общем так и есть, но к этому соображнию нужно дать существеные коррективы. Да, Европа за сто лет выросла втрое. Но кто именно вырос? Это немаловажно для нашей темы. Вот некоторые подробности.
Рост населения вовсе не коснулся французов: напротив, у них наблюдается демографическая яма, в которую они упали, во-первых, из-за революционных потрясений и истребительных войн Первой Республики и Наполеона (под Ватерлоо уже сражались 15-летние мальчишки, взрослые мужчины были все выбиты или покалечены), во-вторых – из-за оттока населения, устремившегося «за лучшей жизнью» в новые колонии Северной и Центральной Африки и Канады, а в-третьих – из-за переезда множества мужчин ради заработка из сельской местности на долгие сроки в Париж, подвергшийся многолетней радикальной перестройке, потребовавшей десятков тысяч рабочих рук. Все это привело к быстрому раскрестьяниванию и обезлюживанию Франции и как следствие – к упадку рождаемости. В 1900 году в этой стране уже был минусовой прирост населения, вскоре в нее хлынули гастарбайтеры из Польши, с Балкан, а там и с арабского Востока. Первая мировая война жестоко сократила и без того уменьшающуюся и вырождающуюся французскую этнонацию, окончательно подорвала ее жизненные силы.
Напротив, резко размножились англо-саксы, итальянцы, немцы, русские, евреи. Население России, например, за XIX век выросло втрое: примерно с 50 до 150 млн чел. Считается, что русские в начале ХХ века стояли на втором месте в мире по рождаемости, после китайцев, и на первом – в Европе. За русскими по данному показателю шли немцы – второе место в Европе. Заметно выросло также население Италии. Но всех, на самом деле, обогнали евреи, чья численность на территории Российской империи (включая Польшу) за сто двадцать лет выросла в восемь раз, что привело вначале к обильной эмиграции и образованию многомиллионной еврейской диаспоры, в основном в Германии, Англии и США, а впоследствии к образованию Израиля. Влияние этого этноса в политике, искусстве и других важных сферах человеческой жизни резко выросло именно в ХХ веке, послужив одной из ярких иллюстраций к тезису Хосе Ортеги-и-Гассета о восстании масс.
Ортега-и-Гассет называет два главных, по его мнению, фактора демографического взрыва XIX века: либеральную демократию (Французская революция и политические преобразования, последовавшие за ней, привели к уравнению в правах сословий в основных европейских странах) и технический прогресс («экспериментальная наука и промышленность»)[5]. Не оспаривая их, я бы добавил и иные. Приход капитализма на смену феодализму, во-первых, изменил социальные отношения в деревне, а во-вторых, повлек за собой промышленный переворот, вытягивающий рабочие руки обоего пола из села в город. Последствием всего этого стали урбанизация и раскрестьянивание, поначалу катализировавшие демографический рост. Образ жизни миллионов вчерашних крестьян, перебравшихся в город, резко изменился в благоприятную сторону, учитывая прогресс в медицине и быту[6], а в подобном случае первое поколение переселенцев обычно демонстрирует резкий прирост семьи (со второго поколения уже происходит спад).
* * *
Чем обернулось для всей антропосферы стремительное увеличение населения Европы, помимо «восстания масс»?
Во-первых, началась быстрая колонизация европеоидами огромных географических пространств в Африке, Азии, Австралии и обеих Америках. К примеру, излишки переполнявшего Англию населения с успехом утекли с этого острова в США, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Египет, Палестину, Канаду и другие колонии и доминионы Соединенного Королевства. Возникшие там государства обязаны своим существованием исключительно плодовитости англо-саксов. При этом сама материнская страна – Англия как таковая – обезлюдевала и запустевала, да так, что уже после Второй мировой войны Англию постигла судьба ранее уже обезлюдевшей Франции. Сегодня эта островная страна точно так же превратилась из субъекта колонизации – в ее объект. И так же терпит «обратную колонизацию» со стороны иммигрантов – жителей бывших колоний: индусов и пакистанцев, вест-индийцев и арабов, жителей Океании и различных негроидов, веддоидов, метисов и т.п.
Аналогичные процессы захлестывают Германию, Италию, Испанию, Голландию и Бельгию, другие страны Старого Континента. Но ведь всего каких-то двести лет назад картина была обратной, и не цветные массы захлестывали и теснили европейские народы на их исторической территории, а напротив, европейцы теснили цветные народы на их территориях по всему миру!..
Все вышеописанное в максимальной степени коснулось также и нашей России, которая, благодаря стремительному росту населения, пережила восстание масс не только заодно со всем миром, метафизически, но и самым натуральным образом персонально, в виде Октябрьской революции, Гражданской войны и форсированного раскрестьянивания, которым сопровождались индустриализация, урбанизация, коллективизация, освоение Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока, а главное – Великая Отечественная война. Россия оказалась не периферией, а одним из эпицентров процесса, затронувшего весь мир. И сегодня, в условиях возникающего демографического вакуума ввиду депопуляции государствообразующего русского народа, она точно так же терпит «обратную колонизацию» со стороны бывших национальных окраин Российской Империи.
Необходимо задуматься над причиной этой пертурбации и понять её.
Во-вторых, как и следовало ожидать, – в самой Европе разразились революции и ужасные мировые войны, повлекшие за собой колоссальные, многомиллионные человеческие жертвы, «континентальное кровопускание», о чем подробнее будет сказано ниже.
Итак, мы видим, что демографический взрыв, переполнивший Европу в XIX веке человеческим материалом, привел в огромных, поистине глобальных масштабах все к тем же известным последствиям: войнам и миграциям (вспыхивали у этой эпохи и свои пандемии – чахотка, сифилис, холера, тиф, испанка и др., как до того – чума, черная оспа). В итоге к нашему времени человеческий ресурс европеоидной расы оказался истощен и подорван, и процесс покатился в обратном направлении, заставляя задаваться животрепещущим вопросом о нашем будущем.
Загадка мировых войн с точки зрения этнодемографии и этнополитики
Когда мы говорим о «континентальном кровопускании» в Европе, случившемся в ХХ веке и положившем начало вымиранию и вырождению расы белых европеоидов, необходимо понимать прямую и конкретную зависимость общественных катаклизмов от демографической ситуации. И тут, в первую очередь, нужно отметить особую роль Германии и немецкой нации, по инициативе которых разразились обе грандиозные мировые войны. Не может быть и речи о случайности этого обстоятельства; но, говоря о его необходимости, неизбежности, мы должны вновь и вновь обратить свой взор на этнодемографический фактор.
Во второй половине XIX века в Германии сложились новые важные условия жизни. Это, во-первых, долгожданное объединение разрозненных немецких земель в единую империю (1871). Во-вторых – завершение германского промышленного переворота в 1880-е годы. А в-третьих (и в-главных), это бурный демографический рост немецкого этноса, сопровождавшийся раскрестьяниванием и урбанизацией. Рост стал особенно заметен уже к середине века. А с 1870 г. население объединенной Германской империи росло еще сильнее и увеличилось к 1925 г. на целых 23 млн. человек, составив 63 млн., а к 1939 – все 80 млн., из которых 70 % к 1939 году уже переместилось в города. Это явление имело чрезвычайно важные последствия, оно влияло на всю жизнь страны. Немцы сумели не только восстановить популяцию, подорванную Тридцатилетней войной (1618-1648)[7], но и встать грозным колоссом на пороге новой войны, в общем-то тоже тридцатилетней (1914-1945).
Дело в том, что избыточное население немецких государств, как и Англии, поначалу тоже искало своей доли в бурной эмиграции. Но если англичане разъезжались в основном по своим колониям, протекторатам и доминионам, у немцев такой возможности не было. В 1866-1873 гг. из Германии ежегодно выезжало в среднем 130 тысяч человек, подавляющее большинство – в Америку. В результате уже накануне гражданской войны они составляли вторую по численности группу иммигрантского населения США – 31,5 % (за 1851-1860 гг. в США въехало 951.667 выходцев из Германии, а в одном только 1854 г. – более 200 тыс. немцев). В 1870 году в Нью-Йорке жило уже около миллиона немцев. В итоге к началу двадцатого века немецкий был вторым по распространенности языком Северной Америки, и даже в наше время до 20 % американцев имеют немецкое происхождение. Легко можно по этим данным представить себе масштаб тогдашней эмиграции немцев из Старого Света – в Новый. А ведь уезжали не только туда.
Итак, мы видим, что высокий прирост немецкого населения до поры до времени компенсировался, «гасился» ростом эмиграции. Наивысших цифр эмиграция достигла в 1882 году. Затем она начала сокращаться. Если до 90-х годов немцы составляли около 30% всего иммигрантского населения США, то к 1890 году их доля снизилась до четверти. В 1890-х годах век массовой немецкой эмиграции в Америку кончился[8]. Но не потому, что рост нации прекратился, отнюдь: в начале ХХ века Германия была на третьем месте в мире (уступая Китаю и России) и на втором в Европе по рождаемости. В чем же было дело?
Ответ: в милитаристских устремлениях кайзера, мечтавшего о величайшей в мире армии. Император Вильгельм Второй положил конец столь мощному оттоку немцев. Запретив своим подданным эмигрировать, Вильгельм заклепал предохранительный клапан на этническом котле; страна стала разбухать от чрезвычайного избытка людей, от молодых здоровых поколений. Армия в этих обстоятельствах стремительно росла. Ощущение безграничной силы, переполняющей все народные жилы, вело немцев к тому, что Гумилев назвал бы «пассионарным взрывом». Немецкий этнос, как налитый соком и полный зрелых семян переспелый плод, готов был лопнуть от избытка сил – бросить вызов всем окрестным народам.
Из трех известных нам естественных регуляторов численности популяции для немцев остался только один – война.
Европа в XIX веке почти не вела войн после 1915 года, не считая периферийных (например, Крымской) и колониальных, «отдыхая» после наполеоновских потрясений. Но Германия даже и в упомянутых не участвовала. Зато она готовилась к Большой Войне, в которой надеялась взять реванш за-все-за-все: за разгром под Грюнвальдом, за апокалипсис Тридцатилетней войны, за два века униженного, раздробленного состояния, за легкость бонапартовых побед, за то, что мир оказался поделен без немцев и все самые сладкие колониальные куски уже имеют своих хозяев… Но главное – в другом. Стремительное развитие, ощущение неудержимо и безгранично растущей мощи, пассионарный толчок, обусловленный этнодемографически и государственно-политически, – все это естественным образом породило претензию немцев на мировое господство!
Разумеется, первым объектом реванша должна была стать Франция. Не случайно у нас с французами весьма различная хронология: мы отсчитываем начало Первой мировой войны с 1914 года, а они – с 1871. Для нас Франко-Прусская война, начавшаяся в том году и закончившаяся быстрым и полным разгромом Франции, – незначительный эпизод мировой истории. Для них – первый акт грандиозной мировой драмы. И в этом они правы.
Франко-Прусская война стала пробным камнем нового немецкого могущества. Немецкий этнос, восстановленный, объединенный после двухсот лет раздробленности – и воодушевленный этим объединением, стремительно растущий, обрел, вместе с единым государством, огромную энергию: энергию новой, молодой нации.
Во Франции же этнодемографическая ситуация была зеркально противоположной, эта страна находилась, если можно так выразиться, в «демографической противофазе» по отношению к Германии. Несмотря на наполеоновские войны, уничтожившие практически все взрослое мужское население, французам все же удалось за 1801-1851 гг. увеличить свою численность на 8,3 млн. человек. Но в дальнейшем, по мере оттока сельского населения в город и в колонии Магриба, наблюдается неуклонное снижение рождаемости. Этим, в главном, и объясняется поражение Франции во Франко-Прусской войне.
Дальше было только хуже. В 1900 г. в стране был уже отмечен «минусовой прирост» населения – минус 26 тыс. человек; в 1911 г. – минус 33 тыс. А если сравнить население Франции за 1870 (37,5 млн.) и 1926 (38 млн.) годы, то мы увидим, что, в отличие от Германии, выросшей в полтора раза, она почти не увеличила за этот период свое население. Французам ценой невероятных человеческих жертв удалось с помощью Англии, США и России взять реванш у немцев в 1919 году, но это был их последний в истории рывок. Убитыми и без вести пропавшими они в Первую мировую потеряли 1.354 тыс. человек (это не считая офицеров); искалеченными и тяжелораненными – 1.490 тыс.; превышение смертности из-за голода и эпидемий над рождаемостью в эти же годы составило 1.500 тыс. Это был конец. Уже в самом скором времени – в 1940 году у французов не оказалось никаких физических сил для сопротивления вермахту, что легко и непринужденно привело к новой немецкой оккупации в итоге «странной войны», длившейся всего с 10 мая по 24 июня. И в дальнейшем, вплоть до наших дней, демографический вакуум заполнялся во Франции, в значительной мере, за счет иммигрантов.
Но вернемся к теме войны.
Казалось бы, война против всех на несколько фронтов, которую повела в итоге Германия, – безумство, строго-настрого запрещенное всеми учебниками военной науки. Но ведь немцы повторили эту классическую ошибку дважды за какие-то неполные 30 лет! По глупости? Нет. От ложного чувства всемогущества, от избыточной пассионарности. Отчего они возникли, откуда брались? Причина упорного наступания на смертельно опасные грабли была одна: небывалый демографический подъем, преизобилие человеческого топлива, годного для военной топки.
Так было перед Первой мировой войной (ПМВ). Но точно так же было и перед Второй (ВМВ).
* * *
Гитлер был одним из самых последовательных политиков в мире, доктринером, идеократом; им полностью властвовали идеи и, если так можно выразиться, идейные мечты. Он всегда, невзирая на временные тактические, прагматические отступления, стремился воплотить в жизнь свои теории общественного устройства, свое понимание должного. Чтобы понять его мотивы, надо внимательно читать его программные тексты, в особенности и в первую очередь «Майн Кампф».
Тогда нам станет понятно, что в своих дерзких геополитических мечтаниях Гитлер вполне прогрессивно и реалистически исходил из главного: этнодемографического фактора. Налицо был стремительный рост немецкой этнонации, стоявшей по этому показателю на втором месте в Европе, сразу после русских. В «Майн Кампф» Гитлер, глядя в корень, отмечал ежегодный прирост народонаселения Германии в 900 тыс. человек, что было политическим фактором огромной силы. Весь этот избыток человеческого материала надо было куда-то девать, как-то утилизовать.
Считая плотность немецкого населения избыточной, но при этом намереваясь не снижать, а наращивать этот показатель, Гитлер естественным образом пришел к проблеме «жизненного пространства», поставив ее во главу угла внешней политики. «Нас, немцев, проживает по 150 человек на квадратный километр – разве это справедливо?!», – вопрошал он себя и всех своих слушателей и читателей, а слушала и читала его к тому времени уже вся Германия. Положим, в некоторых странах Европы (например, в Бельгии) этот показатель был повыше, но Гитлера интересовало только свое. И в поисках жизненного пространства для немцев во всех нынешних и грядущих поколениях он всегда обращал свой взор только на Восток, только на славянские земли – на Югославию, Чехословакию, Польшу и Россию. И никогда этого не скрывал.
При этом речь вовсе не шла о превращении России в немецкий доминион, протекторат или даже колонию. Нет, Гитлер хотел «ариизировать Россию» вполне однозначным образом: ликвидировать «расово неполноценное» русское население и заменить его истинными арийцами – немцами. Русских (и вообще славян) Гитлер за людей не считал и участь им готовил незавидную. «Русский человек – неполноценен», – определенно заявил он на совещании 5 декабря 1940 года в ходе подготовки плана «Барбаросса». Его установки в полной мере проявились в ходе геноцида и этноцида русских, белорусов, украинцев, в культурной политике на оккупированных территориях Польши и СССР и т.д.
Итак, налицо по крайней мере один из движущих моментов, обусловивших Вторую мировую войну: жажда земельных приобретений сильно размножившегося немецкого народа. Ведомого Гитлером – вождем, хорошо понимающим объективную необходимость «жизненного пространства» для немцев, вождем, живущим истинными нуждами своего народа. Земельные приобретения немцев должны были осуществиться за счет славян, исключительно. Весь ход событий, начиная от раздела и последующего захвата Чехословакии, раздела Польши и захвата Югославии – и вплоть до попытки захватить Россию, Украину и Белоруссию, это подтвердил ясно и недвусмысленно.
* * *
Однако был и другой, не менее объективный и глобальный момент, предопределивший как Первую, так – в еще большей степени – Вторую мировую войну.
Кто мог противостоять в ХХ веке Германии на всем пространстве Европы – если иметь в виду чисто демографический аспект, наличие избыточных людских ресурсов? Ясно, что не Франция, растерявшая свой демографический потенциал уже к 1900 году. И не Англия, раскидавшая свое избыточное население по всему миру от Австралии и Новой Зеландии до Танганьики, Америки, Канады и Фолклендских островов.
Этим странам уже в начале ХХ века некем было воевать по-настоящему, с помощью большой массы живых солдат. Если бы они выступили против Германии и Австрии только вдвоем, вряд ли они одолели бы врага, скорее были бы разбиты (немцы «задавили бы их массой», не говоря уж о техническом превосходстве). Тем не менее, втянув в боевые действия Россию и даже США, они не только продержались на фронтах пять лет, неся большие потери, но и сумели выиграть войну, даже несмотря на выход из нее Советской России. Но какой ценой? Подрыв демографического уровня Франции и Англии в результате этого кровопускания был настолько велик, что к 1939 году они уже не были способны воевать так, как воевали в Первую мировую войну. А значит, им не следовало и начинать Вторую[11]. Кого они могли выставить на поле битвы против немецких армад?
Сухопутные вооруженные силы Германии (вермахт) к 1 сентября 1939 года составляли 3.214.000 человек. Не считая контингентов «кригсмаринен» (военно-морские силы) и «люфтваффе» (авиация). Это – с одной стороны.
С другой – Англия на случай боевых действий могла предоставить сразу лишь две дивизии, а погодя – еще пять. Сокрушительный разгром под Дюнкерком обнаружил, чего стоили английские дивизии в деле. Франция, хотя и могла выставить 130 дивизий, не хотела воевать, не была морально готова к войне: урон, понесенный французами в ПМВ был слишком велик, жертва слишком колоссальна, травма слишком памятна. Французы понимали: основной удар волшебно выросшего числом и усилившегося врага на территории Европы пришлось бы вынести им. И кто знает, чем бы все это кончилось (практика показала: кончилось мгновенным страшным разгромом и оккупацией Франции).
Единственной европейской страной, сопоставимой по человеческим ресурсам с Германией и в силу этого способной остановить ее на пути к мировому господству, была в 1913 году Российская империя, а в 1939 г. – Советский Союз. И только. Уже одно это делало совершенно неизбежным, предопределенным особо ожесточенное и кровопролитное столкновение названных двух держав в обеих мировых войнах. Приведу несколько цифр.
По уточненным данным Управления Главного врачебного инспектора МВД, численность населения России (без Финляндии) на середину года составляла в 1909 г. 156 млн, а в 1913 г. – уже 166,7 млн человек[12]. С 1897 по 1913 год динамика населения России показывала прирост со скоростью 2-3 миллиона (!) человек в год.
В дальнейшем, уже в СССР, несмотря на огромные потери в ПМВ, а также в ходе революций, Гражданской войны, большевистских репрессий и раскулачивания, Финской войны, несмотря на утрату Польши и Финляндии и на разрешение абортов (вплоть до 1936 года), советское население продолжало активно расти. К 1 января 1940 г. оно выросло на 27,4 млн, составив 194,1 млн чел.; наибольшей плотностью заселения отличались центр, районы Европейской части СССР, особенно междуречье Оки и Волги, а также районы Донбасса и Правобережной Украины.
Таковы были этнодемографические предпосылки обеих мировых войн. О том, что в этих войнах решались, прежде всего, судьбы избыточно размножившихся европейских народов (конкретно: немецкого и русско-славянских – русских, украинцев, белорусов), ярко свидетельствует сравнительная статистика человеческих невозвратных потерь у основных стран-участниц этой глобальной бойни[13].
Результаты ПМВ в этом отношении вполне сопоставимы среди них. Страны Антанты потеряли убитыми: Россия – 1.650.000, Франция – 1.357.800, Англия – 908.371 (итого 3.916.171 чел.). Центральные державы: Германия – 1.773.700, Австро-Венгрия – 1.200.000; их союзник Италия потеряла около 400.000 (итого 3.373.700). В целом Европа только убитыми недосчиталась примерно 7, 3 млн человек.
Эти потери разные страны – участницы Первой мировой войны – перенесли по-разному. Ни Франция, ни Англия так и не смогли восстановить свой демографический потенциал в степени, достаточной для повторного полноценного участия в новой мировой войне. Не то Германия и Россия (в обличье Советского Союза). Население этих двух стран – немецкая и русская популяции, выражаясь единственно уместным в данном случае языком биологии – продолжало активно увеличиваться, о чем говорилось выше. Решающая схватка между ними, по закону Природы, становилась неизбежной.
Достаточно взглянуть на сводку невозвратных потерь личного состава армий стран, участвовавших во Второй мировой войне на территории Европы (Дальний Восток и Африку мы не берем во внимание, хотя и там прослеживается та же закономерность), чтобы ясно увидеть биологический смысл этой бойни.
Англия и Франция потеряли на полях ее сражений всего (да простится мне это негуманное, но точное в данном контексте слово): первая – 300.000 чел., вторая – еще меньше, 253.000 чел. Замечу здесь же, что общие потери США составили 405.399 чел. (из которых 113.842 – небоевые); но при этом на Евро-Атлантическом театре военных действий погибло лишь 183.588 человек. Итого, совокупные потери наших так называемых союзников на полях той войны составили 736.588 военнослужащих. Меньше, чем потеряла одна только Англия в ходе Первой мировой войны.
Принципиально иную картину видим мы в Третьем Рейхе и СССР. Как резюмирует хорошо изучивший вопрос ректор Московского Гуманитарного университета И.М. Ильинский в статье «Правда о цене победы»: «Принято считать, что безвозвратные боевые потери Германии (убиты, умерли от ран и болезней, погибли в результате несчастных случаев, расстреляны по приговорам военных трибуналов, не вернулись из плена) за 1418 дней войны составили 8 млн. 876,3 тыс. военнослужащих[14], а вместе с потерями ее союзников – 10 млн. 344,5 тыс. человек. Безвозвратные боевые потери СССР за те же 1418 дней войны – 11 млн. 444 тыс. человек, а вместе с потерями союзников (76,1 тыс. человек) – 11 млн. 520 тыс. человек»[15].
Но ведь потери несли не только армии, но и мирное население. И здесь сопоставление итоговых цифр просто потрясает! Совокупно Англия, Франция и США потеряли 507.673 чел. мирных жителей. Третий Рейх – в три раза больше: 1.580.000 чел. Ну, а СССР – вовсе несопоставимо большее количество: 15.760.000 чел. – в десять раз больше, чем немцы, на порядок больше! И в тридцать раз больше, чем союзники…
* * *
В результате двух мировых войн демографическое давление в Европе резко и, похоже, необратимо упало, и вся демографическая ситуация изменилась. Европейские народы не перенесли такого двойного удара за какие-то тридцать лет. Если предположить, что Природа, извечно контролирующая рост любых биологических популяций, могла иметь такую цель и такое средство, то надо признать: цель была достигнута, кровопускание удалось на славу. Постепенное запустевание Европы, наглядное вымирание ее автохтонных народов было предопределено этими событиями и шло крещендо. На месте былой области высокого демографического давления белой расы образовался в наши дни демографический вакуум.
Отчасти это связано, конечно, с изменением места и роли женщины в общественной жизни индустриальных и постиндустриальных обществ, с возникновением «общества потребления» и идеологии консьюмеризма, с изменением шкалы ценностей и лестницы приоритетов современного человека, с тотальной секуляризацией общественной жизни и пр.
Однако сильно сказывается, безусловно, также и шлейф, оставленный военным избиением многих миллионов людей. Со всеми вытекающими последствиями: отказами от деторождения, умножением неполноценных семей и массовым феноменом матерей-одиночек, да и просто нерождением миллионов детей, которые могли бы родиться у тех, кто погиб в ходе войн. Главное же – в результате такого чудовищного избиения народов у избитых произошел подрыв витальных сил и упадок пассионарности, изменилось все мироощущение, общественное самочувствие.
Общую картину легко себе представить, воспользовавшись разведданными из ежегодно возобновляемого источника «Всемирная книга фактов ЦРУ», где приводятся цифры рожденных детей, приходящихся на одну женщину в той или иной стране[16]. Эти цифры вызывают у меня наибольшее доверие.
Что же мы видим, обратившись к списку? Известно, что для простого воспроизводства этноса необходимо, чтобы на одну семью приходилось не менее троих детей, чтобы компенсировать грядущую смерть родителей и энное количество младенцев, не рожденных по причине бездетности некоторых женщин. Список не дает представления о такой статистике, но показывает, сколько детей приходится на одну женщину в среднем, включая бездетных. Это тоже неплохой показатель, если смотреть в сравнении: среднемировой показатель – 2,42 ребенка на женщину, но показания по разным странам могут отличаться друг от друга в разы.
Итак, вернемся в Европу. В среднем по Евросоюзу указанный показатель равен 1,62, существенно ниже общемирового. Ну, а по основным историческим европейским странам, добрую тысячу лет лидировавшим на континенте, а лет четыреста-пятьсот и в мире, результаты еще хуже: Франция – 2,04; Соединенное Королевство (Великобритания) – 1,86; Нидерланды – 1,78; Испания – 1,51; Австрия – 1,5; Германия – 1,48; Венгрия – 1,48; Италия – 1,47; Португалия – 1,42; Польша – 1,39. В ту же детородную парадигму ложатся также основанные белыми европеоидами-христианами Канада – 1,57 и США – 1,84, а также страны «русского мира»: Россия – 1,6; Украина – 1,56 и Белоруссия – 1,51.
Однако эту картину надо рассматривать более пристально, через специальную оптику, поскольку беспристрастная, казалось бы, статистика на самом деле обманчива. На первый взгляд, лучше всех рожают Франция, Англия, США и Нидерланды. Но это только на первый взгляд, потому что относительно высокий показатель в этих странах обеспечивают цветные граждане (в т.ч. мигранты), а вовсе не настоящие, природные французы, англичане, белые американцы или голландцы. Об этом говорят специальные исследования, рассматривающие вопрос в более детальном приближении.
К примеру: в относительно благополучной на вид Франции по состоянию на 2018 год в общей сложности иммигранты и их прямые потомки составляли 20,9 % населения[17]. И в результате 13 % рождений во Франции приходится на семьи, где оба родителя иммигранты, а еще 15 % – на семьи, где один из родителей иммигрант[18]. Вот эти семьи и дают существенный – целая треть – прирост населения. Но понятное дело: сколько бы поколений негры или арабы ни жили в стране Бальзака и Гюго, обладая всеми правами гражданства, французами от этого ни они, ни их дети и внуки не становятся. Натуральные же французы, чья популяция была необратимо подорвана еще в XIX столетии, с начала ХХ века только сокращали свою популяцию.
В Англии, по переписи 2001 года, белые британцы составляли 85,67 % населения. Но это за счет пока еще аутентичной английской провинции, в столице картина уже совсем другая. В 2017 г. конкретно по Лондону от матерей-мигранток родилось больше половины детей: 58 % (73 тыс рождений из 126 тыс). Следует уточнить: из этих 73 тысяч детей 38 тысяч (т.е. 30 % вообще новорожденных) родились в Лондоне от мигранток из Азии и Африки[19]. Это сказывается на ситуации по всей стране. По данным Бритстата, в целом по Англии и Уэльсу процент детей, рожденных от матерей-эмигранток, составляет 28 % (193 тыс рождений из 679 тыс).
Если посмотреть масштабнее, то за 200 с лишним лет (с 1806 г.) рождаемость в Англии снизилась втрое, во Франции – вдвое. Примерно так же обстоит дело и в других странах Западной Европы, даже в маленькой Финляндии, где на 5,5 млн населения страны приходится уже 450 тыс. цветных беженцев. Причем в Хельсинки каждый шестой житель иммигрант (16,5 %), а если брать возрастную категорию 30-35 лет, то иммигрант каждый четвертый житель!
Что же до Америки, там со второй половины XX века из-за цветной иммиграции, а также высокой рождаемости у цветных и низкой у белых, доля белых американцев начала быстро падать. Если в 1940 году она составляла 88 %, то к 2014 сократилась до 61,9 %[20]. В наши дни этот процесс продолжается с ускорением, особенно благодаря увеличению иммиграции из Центральной и Латинской Америки, а к чему это ведет – мы воочию лицезрели в 2020 году на примере движения BLM, и это еще только цветочки.
Положение в России, на первый взгляд, не хуже и не лучше других, примерно среднее, если сравнить с общей цифрой по Евросоюзу. Но на самом деле и тут не все так гладко, поскольку собственно у русских – основного, государствообразующего народа – прирост минусовой, а растет население Тувы (она чемпион по рождаемости) и Кавказа. В Белоруссии ситуация тоже внушает тревогу, а уж на впавшей в маразм Украине, по данным Государственной службы статистики этой страны, за 30 лет независимости уровень рождаемости и вовсе снизился более чем в два раза[21].
Итак, если, опять же, взглянуть на дело масштабнее, в глобальных пределах, то вся белая раса, еще в середине ХХ в. занимавшая примерно треть населения Земли, сегодня занимает всего 15 %, а к концу века и эта цифра заметно снизится. По прогнозам ООН, Нигерия уже в 2047 году превзойдет США как третью по величине населения страну в мире, а к 2100 году 5 из 10 крупнейших по населению стран мира будут в Африке. Две трети всех стран и территорий в Европе (32 из 48) потеряют население, а половина детей всего мира будет рождена в Африке, которая по количеству новорожденных перегонит Азию.
* * *
Роль двух мировых войн в этом неутешительном и макабрическом процессе, нанесших жесточайший удар по витальным силам белого европеоида, представляется мне весьма очевидной и значительной. Но не забудем, что эти войны были лишь ответом на тот вызов, который бросил Природе весь Европейский континент, население которого столь быстро и радикально расплодилось в XIX – первой трети ХХ вв. Особенно эти войны сказались на судьбе двух народов, чей бурный и неумеренный рост, собственно, и сдетонировал катаклизм. Я имею в виду немцев и русских.
Взглянем на них поближе. Как широко известно из СМИ и научных изысканий, Германию в 2010-е гг. буквально затопила мощная волна цветной иммиграции. Благодаря чему страна несколько поднялась в таблице суммарного коэффициента рождаемости, где еще в середине 2000-х гг. занимала самое последнее, 224-е место по данным «Всемирной книги фактов ЦРУ». Но все равно осталась среди самых неблагополучных в этом отношении стран (хуже дела идут в Южной Корее, Сингапуре, Гонконге, Японии). Тем, кто бывал в Берлине, в глаза бросается наличие целых неформальных гетто на окраинах города, где проживают турки, ливанцы и пр. Но гораздо печальнее другое.
Как известно, за двенадцать лет полновластия гитлеровцев, с 1933 по 1945 гг., вся биосоциальная элита немецкого народа была скрупулезно, тщательно и целенаправленно собрана и сконцентрирована в расово-этническом ордене СС. Чтобы войти в это специфическое сообщество, надо было быть не только хорошо образованным, культурным и здоровым человеком, дисциплинированным и ответственным, желательно представителем истеблишмента, но надо было, прежде всего, документально подтвердить свою принадлежность к немецкому этносу по обеим линиям за 300 лет. Эсесовцы были в полном смысле слова биосоциальной элитой своего народа – без малейших скидок. Во время и после войны эту элиту столь же скрупулезно, тщательно и целенаправленно враги разыскивали по всему миру, отлавливали, как диких зверей, и уничтожали. Эсесовцы, притаившиеся в недрах собственной страны, маскировались и скрывались, сидели тихо, опасались заводить семьи и детей. Некоторым удалось пристроиться на службу к американцам, некоторым – спрятаться в Латинской Америке и так уцелеть. Но для Германии, в любом случае, весь этот отборнейший человеческий материал был утрачен. Произошла тотальная антиселекция: немецкий генофонод понес непоправимую, фатальную потерю.
Результат сказался на качестве нации самым плачевным образом. Сегодня, посещая Берлин, нельзя не обратить внимание на полное отсутствие среди населения былых витринных арийских типов, пресловутых «белокурых бестий». Напротив, немецкая молодежь производит унылое впечатление своей плюгавостью, невзрачностью, особенно заметной, скажем, в сравнении с очень красивым, рослым и физически совершенным населением Белграда. Да и европеоидной Москвы, пока еще.
В Вене я пока не бывал, интересно было бы сравнить с Берлином впечатления о физическом качестве населения. Но что касается низкой рождаемости, тут Австрия и Германия сегодня идут рука об руку.
Суммарный коэффициент рождаемости в Германии съехал с 4,93 в 1900 году – до 1,24 в 1994 году. Важно отметить: в истории этой страны выделяются два периода, резко и радикально изменивших характер рождаемости: 1) отмеченные минусовым приростом и падением суммарного коэффициента рождаемости (СКР) с 3,27 до 2,33 годы Первой мировой войны, а затем 2) годы Второй мировой войны и, в особенности, войны с СССР, когда этот коэффициент снизился с 2,4 до 1,53. Подчеркну: мировые войны – это настоящие рубежи в истории немецкой демографии.
Пик падения, как уже говорилось, – 1994 год, после чего СКР стал немного подниматься – за счет, вначале, высокой волны немцев-репатриантов из бывшего СССР, а потом, когда этот ресурс исчерпался, – за счет цветных иммигрантов из Азии и Африки. В итоге доля населения с миграционными корнями составила в 2015 году 21 % (в группе «дети до 5 лет» – 36 %). Самая большая группа – турки, около 3,74 миллионов человек. Иммигранты рожают гораздо больше детей, чем немцы: если у немок в 2016 году отмечен коэффициент рождаемости 1,46, то у иностранок – 2,28. На первый взгляд может показаться, что разрыв между СКР Германии и России не так уж велик: около 0,1. Но значительная часть человеческого ресурса Германии – это уже не немцы. При этом прирост населения в Германии, несмотря на такие усилия приезжих, – стабильно минусовой с 1972 года, и цифра потерь в 2020 году достигла 212.428 человек. Чем все это закончится – понятно без слов.
В Австрии картина во многом аналогична. Суммарный коэффициент рождаемости съехал с 4,33 в 1900 году до 1,33 в 2001, минусовой прирост в 2020 году – 7.024 человека. Отрадным фактом является пока что относительно небольшое число цветных мигрантов (тут Австрия заняла более прагматичную позицию) и высокий процент немецкоязычных австрийцев (89 %). Хотя язык, как мы знаем, ненадежный показатель этничности – мало ли кто говорит по-немецки. Но основной контингент иммигрантов – это белые славяне с Балкан и иных стран, а также немцы-репатрианты. Возможно, положение австрийских немцев не столь безнадежно, как у их сородичей из Германии, деградирующих качественно и количественно, но общая тенденция все равно нерадостна.
Из сказанного можно сделать вывод о подлинной цене полной и безоговорочной капитуляции немцев 1945 года. За полученный в итоге мир и некоторое продление своего земного существования немецкий этнос заплатил перспективой полного вырождения и вымирания. Осознавать эту перспективу немцы начали только-только, о чем можно судить по некоторому оживлению правого движения, но я не вижу оснований видеть в этой робкой попытке дышать, жить и думать по-немецки – залог возрождения немецкой нации. Мне кажется, немцы – уже конченый народ, «уходящая натура». Я не вижу у них сил, способных сопротивляться цветному потопу, который их в конечном счете навсегда переродит и похоронит.
* * *
Обратимся теперь к России и ее государственно-политическому предшественнику – РСФСР.
Как уже говорилось, в Советской России долгое время сохранялась инерция высокой рождаемости, набравшая ход еще в царское время. Так, в 1927 году у нас был высочайший общий суммарный коэффициент рождаемости (СКР): 6,653. Это почти столько же, сколько сегодня в самой плодовитой африканской стране – Нигере (6,91), но выше, чем даже в следующих по рангу Конго, Мали, Сомали, Бенине, Уганде и др. Подчеркиваю, что речь идет не обо всем СССР, а именно об РСФСР. Большевики распорядились человеческим избытком довольно рационально, направив его энергию на урбанизацию, индустриализацию, освоение Сибири, Севера, Дальнего Востока. Но главный расход человеческого материала ждал впереди: война.
К 1940 году СКР снизился до 4,252, а после войны упал до 2,8 по вполне понятной причине, на чем я хотел бы особо заострить внимание читателя. Вот конкретный результат нашего участия во Второй мировой войне: резкое снижение рождаемости почти в два раза!
В дальнейшем СКР в России колебался, в основном, в пределах 2,9 – 2,7, но с 1959 года начал регулярно снижаться, упав к 1980 году до 1,87. После чего последовал небольшой подъем – и новое падение до 1,73 в 1991 году. Предельного падения рождаемость в России достигла в 1999 году: 1,157, а затем, колеблясь вокруг цифр 1,5 – 1,8 , дала в наши дни показатель 1,61, если верить той же «Всемирной книге фактов ЦРУ». К сожалению, приходится признать, что и у нас, как в Германии, этот показатель в значительной степени обеспечивают представители не государствообразующего народа, а совсем других этносов. Но, по крайней мере, хоть не иммигрантов…
Таким образом, мы видим, что и у нас, как в Германии, рубежом, за которым снижение рождаемости стало фатальным, явно выступает период 1941-1945 гг.: Великая Отечественная война, начавшаяся как Вторая мировая. Разница только в том, что истекшие 80 лет были для немцев годами унижения и покаяния, моральной депрессии, разрушительными для национального сознания. Что выразилось, не только в утрате витальных сил и физическом бесплодии, но и в бесплодии творческом – в литературе, изобразительном искусстве, в кинематографе и т.д. А для русских, несмотря на ужасающие жертвы военного времени, наступили годы подъема, что выразилось в фантастически быстром восстановлении народного хозяйства, достижениях науки, техники, литературы и искусства, а также в том, что нам хватало человеческого ресурса, чтобы держать под контролем своих армий два поколения половины Европы – «социалистический лагерь» или «страны Варшавского договора». В этом главная разница между Великой Победой и безоговорочной капитуляцией, ценой которых мир достался русским – и немцам.
Высокое демографическое давление, подтолкнувшее некогда Германию и Россию к двум мировым войнам, окончилось для Германии бесславным коллапсом, а для России – пассионарным взрывом и мощным выбросом человеческой массы вовне. Но на сегодня судьба обоих некогда самых богатых человеческим ресурсом народов Европы – почти одинаково плачевна и внушает опасения, как и судьба всей белой европеоидной расы. У немцев дела несколько хуже, у русских – несколько лучше, но общая смертельная тенденция видна у всех.
Было бы, разумеется, ошибкой считать, что ПМВ и ВМВ – единственная причина, по которой Европа покатилась в демографическую яму. Но не меньшей ошибкой была бы попытка игнорировать данный фактор, явно послуживший, как теперь говорят, «триггером» такого падения. Историческая грань слишком хорошо различима. Если даже обе нации, немецкая и русская, бывшие до ВМВ лидерами европейской рождаемости, встали на путь ускоренной депопуляции именно после нее, то что говорить про некоторые другие страны и народы, для которых роковой гранью оказалась уже ПМВ.
* * *
Сказанное позволяет, между делом, подтвердить один побочный, но важный вывод: суть, секрет и тайна Второй мировой войны – в том, что это была война этническая.
Скажу больше: это была итоговая битва извечного германо-славянского противоборства. Хотя этнический характер войны этим фактом не исчерпывается, но ядро проблемы именно в нем. Было именно и только то, что было: в 1945 году русские переломили полуторатысячелетний ход истории, остановили экспансию германцев на славянские земли и геноцид славян, вернули славянам часть утраченных земель и восстановили их независимость от германцев.
Любопытно, что оба великих вождя народов – как немецкого (Гитлер), так и русского (Сталин) – осознавали этнический характер войны. Гитлер – с самого начала, о чем уже говорилось выше. Ну, а Сталин все понял уже в ходе войны, зато сделал это в присущей ему манере, последовательно, четко и радикально. У нас об этом предпочитают не говорить, поэтому объяснюсь подробнее, приведя один факт, о котором сегодня мало кто знает и мало кто помнит.
28 марта 1945 года, незадолго до окончательной победы, в Кремле проводился торжественный обед в честь Э. Бенеша, президента только что созданной на освобожденных Красной Армией территориях объединенной Чехословакии. На приеме взял слово товарищ Сталин. Он сказал удивительные вещи, которых никто не ожидал от него услышать: предложил создать Союз славянских государств. И разъяснил свою идею:
«Старые славянофилы, например, Аксаков и другие, требовали объединения всех славян под русским царем. Они не понимали того, что эта идея вредная и невыполнимая…
Мы, новые славянофилы-ленинцы (так!), славянофилы-большевики, коммунисты, стоим не за объединение, а за союз славянских народов. Мы считаем, что независимо от разницы в политическом и социальном положении, независимо от бытовых и этнографических различий все славяне должны быть в союзе друг с другом против нашего общего врага – немцев.
Вся история жизни славян учит, что этот союз нам необходим для защиты славянства.
Вот возьмите хотя бы последние две мировые войны. Из-за чего они начались? Из-за славян. Немцы хотели поработить славян. Кто больше всех пострадал от этих войн? Как в Первую, так и во Вторую мировую войну больше всех пострадали славянские народы: Россия, Украина, белорусы, сербы, чехи, словаки, поляки».
Сталин высказал мысль о том, что рано или поздно немцы оправятся от поражения и «чтобы немцам не дать подняться и затеять новую войну, нужен союз славянских народов». И завершил выступление тостом «за союз и дружбу независимых славянских народов, больших и малых».
Сегодня все это кажется невероятным. Как?! Давно ли большевики-ленинцы клялись в верности Третьему Интернационалу? Давно ли действовал во многих странах мира боевитый Коминтерн (Коммунистический интернационал), руководимый из Москвы, из Кремля? И вдруг вместо всего этого – Союз славянских народов…
Что произошло? Почему в такой краткий срок, за какие-то два года (Коминтерн прекратил свое существование в 1943 году), Сталин так круто развернулся, так радикально переменил свои установки, пересмотрел свою позицию в международной политике, в мире? Перешел от «пролетарского интернационализма», по сути дела, к панславянскому национализму?
Секрет прост: Сталин, вместе со всем нашим народом, за годы войны постиг простую истину и глубоко ею проникся: война носила этнический характер, это была война германцев против славян. Заглянув, как он любил и умел это делать, в историю, Сталин без труда убедился в том, что корни этого этнического противостояния уходят далеко-далеко в глубь веков. И сделал единственно верное умозаключение.
Он сделал бы его еще раньше, если бы поинтересовался статистикой рождений у народов довоенной Европы: ведь неизбежность именно русско-немецкой войны сразу же бросилась бы ему в глаза.
Этнодемографический фактор и территориальные экспансии
История – поистине кладезь примеров тому, как этнодемографический фактор определял судьбы если не всего мира (хотя вышеприведенные примеры именно таковы), то по меньшей мере целых континентов, а то и двух-трех. Или по крайней мере, значительных регионов. Хотел бы остановиться на некоторых из них, как из далекого прошлого, так и из наших дней.
* * *
На древней земле современного Казахстана
Передо мной – уникальная книга: Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской равнине (М., ООО «Луч», 2007. – 416 с., илл.). Удивительна ее история. Это не просто многие годы труда двух научных работников, по случайности играющих роли матери (антрополога, доктора биологических наук) и сына (генетика, тогда кандидата, а затем также доктора биологических наук). Это жизнь, которую на данное исследование положила мать, а потом свою добавил сын. Научный подвиг двух поколений одной семьи биологов, служащих одной идее.
Среди множества интереснейших сведений, фактов и умозаключений, которые мне в свое время довелось самым подробным образом анализировать, авторы сообщают нам о древней этнодемографической катастрофе, реконструировать которую помогли археология и палеоантропология. Ссылаясь на специальные исследования, авторы рассказывают нам о жуткой судьбе генофонда, некогда расположенного на территории современного Казахстана. Этот факт слишком выразителен, чтобы не поразить наше воображение даже в таком виде.
Оказывается: 1500 и даже 1000 лет до н.э. на указанной территории монголоидного компонента в населении не было вообще, а был только 100-процентно европеоидный. Затем, 500 лет до н.э. монголоидный компонент появляется, но пока довольно скромно, в объеме примерно 20 %. К концу I тысячелетия нашей эры европеоидный и монголоидный компоненты сравнялись: 50 на 50 %. К тому историческому моменту, когда Россия взяла эти земли под свою руку, европеоидов там уже почти не оставалось, если не считать небольших субэтносов (племен) тюркского происхождения.
Это – сокрушительная катастрофа неведомой нам части белой расы, растянувшаяся на 3500 лет и окончившаяся ее постепенной гибелью. Столетие за столетием возрастал в данном ареале один этнодемографический компонент и убывал другой, пока не произошло почти полное вытеснение европеоидов монголоидами. Гибель происходила, возможно, незаметно для самих гибнущих. Незаметно – значит, «неопасно»? Нет, именно в этой постепенности, незаметности – главная угроза! Своего рода варка лягушек на медленном огне, как учат французские повара, чтобы те притерпелись поначалу и не повыпрыгивали. Обреченные представители исчезающей расы вряд ли даже понимали, что с ними происходит, и не пыталсь протестовать, сопротивляться своей судьбе. Хороший пример необъявленной и незаметной глазу расово-этнической войны, каковые видны лишь историкам в макромасштабах времени и места.
На какое-то время, благодаря русским переселенцам-казакам, колонизировавшим часть указанного края, баланс восстановился. Но советская власть прирезала к Казахстану земли Южного Урала, населенные русским Семиреченским, Уральским и Гурьевским казачеством, которое никакого отношения к тем древним европеоидам и тому ареалу не имеет. В результате чего уже в наши дни точно такой же процесс, только в микромасштабе, получил новый импульс в новоявленном государстве Казахстан, где количество русских с 1989 года уменьшилось на сегодня вдвое: грубо говоря, с 6 до 3 млн человек. Три миллиона – это, все же, не так уж мало. Но даже с учетом этого остаточного контингента белых монголоидность в ареале уже к 2000 году выросла до 75 %, и этот процент продолжает расти. Поэтому можно смело сказать, что все повторяется, но с резким ускорением, и перед нами – вновь картина постепенной замены генофонда на некоей исторической территории. И на землях, занятых и обустроенных в XVIII-XX вв. русскими европеоидами, в ближайшей перспективе могут вновь, как до того, остаться лишь монголоиды и тюрокоиды, из каковых, собственно, и состоит казахский псевдоэтнос (на деле – конгломерат этносов).
О чем говорит этот выразительный пример? О том, что только географическая карта неизменна в веках, а вот политическая – меняется постоянно. И меняет ее именно этнодемографический баланс, поскольку именно удельный вес того или иного племени на данной территории, растущий или, напротив, падающий, определяет, наряду с военной силой, судьбы регионов. В результате чего «коренная», «исконная» земля одного народа подчас становится «коренной» землей другого (близкий нам пример – судьба Крыма, который крымские татары, пришельцы всего лишь XIII века, считают «своим»).
Никакая земля не дается народу на веки вечные. Любой народ мечтает о суверенности, стремится к ней. Но не каждому этносу дано ее достигнуть, а некоторые и вовсе исчезают с лица Земли. Все решает, в конечном счете, демографический баланс. Не какими-то «правами» определяется ареал проживания народа, а лишь его жизненной силой – и только. Способен народ занять (вариант: захватить), удержать, заселить, освоить, окультурить, защитить тот или иной край – значит, достоин его иметь. Не способен – будет выдавлен другим народом, только и всего. Без пощады и без вариантов. Как выдавили грузины – месхетинских турок. Абхазы – грузин из Сухуми и Гальского района. Осетины – ингушей из Пригородного района. Армяне – азербайджанцев из Карабаха. Азербайджанцы – армян из Баку (а теперь также и из Карабаха). Албанцы – сербов из «сердца Сербии», Косово. Как выдавили в 1990-1991 гг. чеченцы русских из традиционных казачьих областей Чечни и самого Грозного. Как выдавливают сегодня русских из Казахстана и Прибалтики, Кавказа и Молдавии, Средней Азии и Украины, Якутии и Тувы, и, между прочим, из Москвы. И т.д.
Таков закон жизни.
* * *
Косово и Чечня
Наглядное и весьма актуальное подтверждение этого закона дают два исторически близких нам государства, о которых речь пойдет ниже.
Ярчайший пример, подтверждающий и детализирующий сказанное: Косово – «сердце» Сербии и сербского народа, где албанцы за какие-то сто лет превратились из меньшинства – в большинство со всеми вытекающими последствиями.
На сегодня суммарный коэффициент рождаемости у основных народов – участников этнического конфликта в Югославии 1990-х гг., выглядит так: Босния и Герцоговина – 1,35; Сербия – 1,47; Косово – 1,92. Уже само по себе сопоставление этих данных достаточно красноречиво, оно подсказывает нам, на чьей стороне демографическое преимущество и кому суждено выиграть в противостоянии. Но история вопроса еще более ясно расставляет акценты.
Косово считается сербами исторической «священной» землей, «сердцем» их исконного ареала на Балканах. Героическое сражение сербов с турками на Косовом поле можно сравнить с нашим Куликовым полем, только сербы там с честью и славой пали в неравном бою, не победив. В память о чем в Косово всегда было множество православных церковных земель и сохранилось немало средневековых храмов и монастырей. Что всегда раздражало албанцев, на 80 % состоящих из мусульман. Но их раздражение не имело особого значения, пока сербы были многочисленны и сильны.
Сербы были основным населением Косова еще в XIX веке. Резкое изменение в этнодемографический баланс Косова внесла Вторая мировая война, когда территории Косова и Метохии были оккупированы Италией и искусственно включены в состав Албании. В результате чего в крае немедленно начались этнические чистки: албанскими националистами были убиты тысячи сербов и черногорцев. По разным данным, от 100 до 200 тысяч сербов бежало прочь, а на их место из Албании переселились от 70 до 100 тысяч албанцев. После войны, чтобы умиротворить албанцев Косова, недовольных возвращением в состав Сербии, премьер-министр Югославии Иосип Броз Тито, хорват, всю жизнь боровшийся с т.н. «великосербским шовинизмом», запретил изгнанным из Косова сербам возвращаться на родину. Мало того, Тито всячески способствовал переселению в Косово албанцев из других регионов. Также в Косово находили себе постоянное прибежище многочисленные албанцы, бежавшие из Албании от бесчеловечного режима Энвера Ходжи (за сорок лет его правления в этой маленькой стране было казнено до 7 тыс. человек, более 34 тыс. осуждены на различные тюремные сроки, интернировано и депортировано 50 тыс., а задержания, допросы, принудительные работы, полицейский надзор применялись к трети населения Албании). Югославия милостиво принимала любых албанских беженцев Христа ради.
В 1963 году Броз Тито, бывший президентом Югославии (с 1953 по 1980 гг.), провел принятие новой Конституции, согласно которой национальные меньшинства стали именоваться народностями, а автономные области получили статус краев. В 1969 году название края было изменено на Автономный край Косово; албанцы получили возможность блокировать любое решение Сербии, в то время как Сербия не могла влиять на решения своих автономных краев.
Ситуацию определял тот главный факт, что у албанцев всегда была очень высокая рождаемость, совокупный коэффициент которой (СКР) составлял в 1950 г. – 7,7, в 1960 г. – 6,64, в 1970 г. – 5,4, в 1980 г. – 4,82, в 1990 г. – 3,59, в 2000 г. – 2,31. С годами, мы видим, рождаемость албанцев падала, как во всей послевоенной белой Европе, однако продолжала оставаться относительно высокой, существенно выше, чем у сербов. Тем самым этнодемографический баланс все время продолжал меняться в пользу албанцев и не в пользу сербов.
В один прекрасный момент количество переросло в качество по закону диалектики. Размножившиеся необыкновенно в тепличных условиях, созданных для них в Югославии (население Косово, по оценкам 2015 года, уже составляло 1.870.981 чел.), албанцы плохо «отблагодарили» приютившую их страну. Национальные албанские лидеры начали ставить вопрос о том, что албанский народ имеет право объединиться в одно государство и необходимо бороться за это объединение. Албанцы почувствовали свою силу и решили диктовать собственные правила игры.
Распад Советского Союза повлек за собой своего рода цепную реакцию в Чехословакии и Югославии. Возникла Армия освобождения Косова, начавшая свою деятельность в 1994 году с объединения нескольких албанских вооруженных группировок. Трудно сказать, выстояла ли бы она против армии Сербии, но тут в дело вступили глобальные игроки другого масштаба.
Дальнейшее хорошо известно – албанско-сербская война, вмешательство США и НАТО привели к отделению Косова, где возникло независимое этнократическое албанское государство. 22 июля 2010 года международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косова не противоречит нормам международного права. С Албанией объединяться новая власть, естественно, не стала, предпочитая бесконтрольно править в маленьком Косово, нежели быть под управлением «Великой Албании».
Но вернемся к этнодемографическому балансу. Сегодня сербов в Сербии (за вычетом Косова и Метохии) – 86,61 %, это сугубо мононациональная страна. Но в Косово этнодемографический баланс совсем другой. Как пишут изучившие вопрос специалисты: «Естественный прирост в Косово составлял в 1997 г. 2,1 % – очень высокий показатель для Европы, давно находящейся в зоне демографического кризиса. Благодаря высокой рождаемости велика доля младших возрастов: на детей до 15 лет приходится более трети населения. Расширенное воспроизводство населения характерно в основном для косовских албанцев, называющих себя косоварами. Быстрый демографический рост стал одним из элементов албанской стратегии постепенного растворения сербской общины края… За сравнительно небольшой период времени с 1931 по 1991 гг. (60 лет) доля албанцев в населении края возросла с 60 до 90 %»[22]. Сегодня эта доля еще выросла: 93 %. Остальные – это боснийцы (1,6 %), сербы (1,5 %), цыгане и др. Они никак не влияют на ситуацию в этой новой – и тоже сугубо мононациональной стране.
Важно отметить, что Косово имеет самое молодое население в Европе: согласно недавнему докладу Программы развития ООН, половина ее примерно 2-миллионного населения моложе 25 лет. А согласно правительственным данным, моложе 30 лет более 65 процентов населения[23].
При таких обстоятельствах ясно и понятно, что Косово потеряно сербами необратимо, навсегда. Или, по крайней мере до тех пор, пока этнодемографический баланс не изменится в пользу сербов с такой очевидностью и таким существенным перевесом, как это имеет быть сейчас в пользу албанцев.
Сербы, позволив себе мало рожать, чего не позволяли себе албанцы, предопределили собственную судьбу со 100-процентной заданностью. Этот наглядный и убедительный пример легко экстраполировать на судьбу и Европы, и Северной Америки, да и всего мира.
* * *
Аналогичный по сути и столь же яркий, наглядный пример представляет Чечня. Где этнодемографический баланс менялся таким образом.
Изначально Чечня была мононациональной маленькой горной страной, населенной преимущественной чеченцами, размножавшимися, как и весь Кавказ, достаточно интенсивно, но уступавшими в этом отношениии русским. Впрочем, по переписи 1926 года в той маленькой Чеченской автономной области (образованной в 1922 году из Чеченского национального округа Горской АССР), русских проживало всего 9122 человек разного пола и возраста, что совершенно не влияло на мононациональный характер АО, где чеченцы составляли 94 %, а русские всего лишь менее 3 %.
Все резко изменилось в 1929 году, когда недальновидная (точнее: преступная) национальная политика большевиков изменила территориальные границы Чечни, включив в них в 1929 году город Грозный и Сунженский округ, до того входившие напрямую в состав Северо-Кавказского края. И Грозный (более чем на две трети) и Сунженский округ (на 90 %) были населены русскими, которые неожиданно для себя оказались в составе нерусского территориально-адиминистративного политического субъекта.
В результате этого волюнтаристского решения Москвы уже по переписи 1939 года численность русского населения во вновь образованной Чечено-Ингушской АССР достигла 201.010. Что на фоне общей численности населения (697.009) составило 28,8 %, то есть почти треть.
Решение большевиков о насильственном объединении русских с чеченцами было во многом продиктовано тем обстоятельством, что жаждущая независимости Чечня представляла собой перманентную угрозу для мира и спокойствия на Северном Кавказе. Не говорю уж о временах имама Шамиля, но надо знать, что после крушения Российской монархии всем претендентам на власть в России приходилось усмирять вечно бунтующую Чечню. Краткий очерк этих попыток необходимо привести для понимания сути дела.
Еще до начала Гражданской войны, в 1917 году, регулярные части старой русской армии и вернувшийся с фронта 1-й Кизляро-гребенской казачий полк уже были вынуждены держать оборону Грозного и окрестных станиц против чеченцев. Летом 1918 года чеченцы создали Меджлис горских народов Северного Кавказа и ударили в спину Добровольческой армии, не переставая громить и грабить ее тылы. В дальнейшем бои с Чечней стали буднями деникинцев.
Нет ничего удивительного в том, что чеченцы не принимали идеалов Белой Армии, стоявшей на позициях «единой и неделимой России». Но и победа большевиков не сделала их союзниками новой власти, также воспринимавшейся как имперская угроза независимости Чечни.
Большевики пытались купить лояльность чеченцев за счет русско-казачьего населения Кавказа. Ибо установление Советской власти на Северном Кавказе проходило в условиях централизованного уничтожения донского, терского и сунженского казачества, причем Советы использовали чеченцев и ингушей как союзников, а порой и как ударную силу. Целые казачьи станицы, предварительно обезоруженные Красной Армией, вырезались спустившимися с гор «удальцами». Все имущество при этом разграблялось. Таков был негласный договор, обеспечивавший обеим сторонам желанный результат. Но союз чеченцев и большевиков против общего исторического врага (казачества) очень скоро показал свой сиюминутный, тактический характер.
Окончилась Гражданская война, и чеченцы стали воевать теперь уже с Советской властью, поскольку та пыталась навести порядок в стране[24]. Грабежи, угоны скота и взятие заложников продолжались. Чеченские аулы были переполнены оружием, практически каждый житель, начиная с подростков 12-13 лет, имел револьвер и винтовку. Второе место по криминогенности обстановки занимала Ингушская область.
В 1922-1924 гг. ОГПУ, совместно с частями Северо-Кавказского ВО предприняло несколько походов против повстанцев, но не достигло конечной цели. Отчеты советских командиров производят впечатление борьбы с гидрой, у которой непрерывно отрастают новые головы на месте отрубленных.
Эскалация вооруженного конфликта продолжалась. Все это уже походило на настоящую войну. Летом 1925 года командование Северо-Кавказского военного округа (СКВО) и местное ОГПУ предложили провести широкомасштабную операцию по зачистке территории Чечни от т.н. «бандформирований» и изъятию оружия у местного населения и, получив в июле санкцию Сталина, начали ее подготовку.
Одновременно органы ОГПУ провели чистку центрального аппарата власти Чеченской республики, в ходе которой были выявлены пособники главарей «бандформирований». Среди них оказались довольно крупные фигуры из числа высшего руководящего состава ЧечЦИКа. В ряде районов Чечни представители органов самоуправления активно поддерживали бандитов и оказывали им содействие.
Согласно плану, войска, разделенные на 5 групп, сосредоточившись на северной, восточной и западной границах Чечни, должны были одновременно двинуться к центру республики, разоружая население и осуществляя зачистку. Всего к операции привлекались силы численностью 4840 штыков и 2017 сабель при 130 станковых и 102 ручных пулеметах, 14 горных и 8 полевых орудиях. Для поддержки с воздуха были выделены 3-й и 5-й авиационные отряды СКВО (12 самолетов). Общее руководство операцией осуществлял командующий войсками СКВО И. Уборевич, а по линии органов госбезопасности – полпред ОГПУ по Северо-Кавказскому краю Е. Евдокимов. Иными словами, готовилась полноценная войсковая операция против чеченцев – это стоит отметить.
Операция в горах началась 23 августа 1925 года. Наиболее сложная задача – разоружение Шароевского района, где скрывался имам Гоцинский – была возложена на группу войск, возглавляемую командиром 5-й кавалерийской дивизии И. Апанасенко (будущим героем Халхин-Гола). Апанасенко предъявил ультиматум населению Шароевского района с требованием выдать Гоцинского. Требование не было выполнено, однако Апанасенко знал, что местные жители понимают лишь язык грубой силы, и действовал соответственно. 40 чеченских старейшин были взяты в заложники. Район подвергся суровой бомбардировке. Результат не замедлил проявиться – 5 сентября 1925 г. Гоцинский был выдан. 7-8 сентября группа комдива Апанасенко разоружила население аулов Шали и Шатой.
Вторая группа во главе с командиром 28-й дивизии А. Козицким должна была ликвидировать банду шейха Ансалтинского, который базировался в ауле Дай. Аул был блокирован и в течение нескольких дней подвергался артиллерийскому обстрелу и ударам авиации. 2 сентября шейх Ансалтинский сдался, после чего группа Козицкого продолжила зачистку в юго-западной части горной Чечни.
Выполнив свои задачи в горной Чечне, группы Апанасенко и Козицкого совместно осуществили зачистку ее равнинной части. Таким образом, к 10 сентября, т.е. менее чем за три недели, операция по умиротворению Чечни была успешно завершена.
«Умиротворение» Чечни, однако, не было продолжительным. С началом проведения коллективизации в Чечне в ноябре-декабре 1929 года здесь вспыхнуло новое крупное восстание.
В связи с этим командованием СКВО был сформирован отряд общей численностью около 2 тысяч человек при 75 пулеметах, 11 орудиях и 7 самолетах, который 10 декабря приступил к ликвидации восстания. Однако задачу «решительным ударом уничтожить банды, препятствуя их распылению», выполнить сразу не удалось, т.к. главари восстания, набравшись опыта, искусно сопротивлялись.
В марте 1930 года была проведена повторная войсковая операция, в которой участвовало 3920 военнослужащих при 16 орудиях. Но и это дало лишь временный результат.
23 марта 1932 года, в районе аула Беной в горной Чечне вновь началось вооруженное восстание. Войска ОГПУ попытались подавить восставших собственными силами, но затем были вынуждены обратиться к помощи Красной Армии.
Следующее обострение обстановки в Чечено-Ингушетии происходит в 1937 году. По данным справки о результатах борьбы с террористическими группами в республике в период с октября 1937 по февраль 1939 г., на ее территории действовали 80 группировок общей численностью 400 человек, более 1000 человек находились на нелегальном положении. Однако благодаря принятым мерам в 1939 году с их выступлениями в основном удалось покончить.
Впрочем, как и в предыдущих случаях, затишье оказалось недолгим. Уже в следующем, 1940 году, «бандитизм» в республике вновь поднимает голову. Таково было положение в Чечено-Ингушетии накануне Великой Отечественной войны.
Этот краткий очерк вполне заслуживает заглавия вроде «Русско-чеченская война 1917-1940 гг.». Ведь чеченцы никогда не сомневались в том, что ведут войну именно с русскими. Нетрудно догадаться, как подобные отношения Советской России со своим непрерывно бунтующим и воюющим национальным регионом сказывались на русском населении Чечни и окрестных областей и краев. И как они воспринимались русскими – с одной и чеченцами – с другой стороны.
По всей видимости, объединяя Чеченскую АО с русско-казачьими областями, Советская власть надеялась таким образом надеть некую узду на воинственный и своевольный народ. Но не тут-то было. Как видим, эффект получился прямо противоположный.
Эту свою этническую войну чеченцы продолжили и в годы Великой Отечественной войны, с начала которой и до января 1944 года в Чечено-Ингушетии было ликвидировано 55 банд, убито 973 их участника. Однако на учете НКВД на территории республики состояло еще порядка 150-200 бандформирований. Массовым было дезертирство и уклонение чеченцев от призыва (в январе 1942 г. при комплектовании национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов личного состава), немецкие разведчики и парашютисты находили у населения поддержку и помощь. И т.д., и т.п. Руководству СССР стало окончательно ясно, что за 37 лет советской власти ситуация в Чечене нисколько не изменилась к лучшему, и шансов на такое изменение не имеется[25]. Места для иллюзий не оставалось.
Все это требовало радикального решения, на массовые преступления чеченцев и ингушей решено было ответить адекватно – их массовым выселением. Моральная и политическая правота этого мероприятия вряд ли может быть оспорена. Дело закончилось для чеченцев депортацией в Казахстан и Киргизию сразу после освобождения нами Кавказа от немцев. Казалось бы, проблема оказалась решена и эта горная республика перестала, наконец, напоминать незаживающую рану на живом теле России. А для русских, оказавшихся в ней не по своей воле, настали времена относительного покоя и нормального, безопасного существования. Но…
* * *
Тут мы вновь возвращаемся к вопросу о влиянии этнодемографического фактора на историю народов и стран, да и на мировую историю тоже.
Переписи населения позволяют представить картину размножения чеченской популяции в СССР, начиная с 1939 года, когда численность чеченцев была определена в 408,5 тыс. человек. Исходя из сложившегося в 30-е годы естественного прироста, накануне войны численность чеченцев приблизилась уже к 433 тыс. человек, а к моменту депортации их насчитывали 450 тыс.
А затем начались важные изменения. В ходе выселения (с 23 февраля по 9 марта 1944 года) и в первые годы после него погибли примерно 120 тысяч чеченцев – четверть этноса. И, таким образом, численность всей популяции снизилась примерно до 330 тыс. человек. Отметим эту цифру.
По воспоминаниям ряда выживших, в трудные годы высылки старейшины тейпов смогли провести свой сход, на котором постановили: поскольку-де Россия ведет против них войну на уничтожение, чеченским ответом станет усиленное деторождение. Каждый чеченец, каждая чеченка должны родить, выкормить и поставить на ноги максимальное количество детей. К чему привело это решение, выполнять которое чеченцы взялись не за страх, а за совесть, благо власть дала им землю, скот и средства на обустройство?
Депортированные чеченцы быстро росли числом, несмотря ни на что. К тому моменту, когда Хрущев на антисталинской волне принял решение о возвращении всех высланных обратно в Чечено-Ингушскую АССР, по переписи 1959 года чеченцев насчитали 418,8 тыс. человек (неофициальная цифра выше). Это значит, что за какие-то 13 лет у этого народа (с учетом обычной смертности) родилось не менее 90-100 тысяч детей, он вырос на целую четверть. Взятый «разбег» оказался неостановим: в течение всех 1960-х годов чеченцы по уровню рождаемости опережали даже традиционно многодетные народы Средней Азии: с 1959 по 1970 год их численность возросла на 46,3 % и составила уже 612,7 тыс. человек.
Но на этом чеченские демографические чудеса не кончились, а продолжали развиваться по экспоненте: по переписи населения 1979 года – 756 тыс. человек (прирост 23,4 %), а в 1989 году – уже 958.309 человек (прирост 26,8 %).
Хрущёв не только дал бурно размножающимся чеченцам возможность вернуться в горы, но и наделил Чечню землями, никогда ей не принадлежавшими, словно бы для того, чтобы размножившимся было куда переселяться из скудных и неплодородных горных аулов. В январе 1957 года официально было объявлено о том, что Чечено-Ингушская республика приросла (помимо Грозного и Сунженского округа) теперь еще и ставропольскими территориями: Наурским, Каргалинским и Шелковским районами, где испокон веку проживало терское и гребенское казачество – русские люди, которых в СССР никто никогда не защищал.
Для этих русских людей, оказавшихся в Чечено-Ингушской АССР, после хрущевского указа начался ад. Такой же, как для сербов в Косово после Второй мировой войны и титовских указов. Им стали грозить, их стали унижать, грабить, похищать, насиловать…
Попытка русских защитить себя оказалась жестоко усмирена Советской властью. Этот эпизод тщательно замалчивался вплоть до 1990-х, как и бойня в Новочеркасске. А дело было так: в августе 1958 года в Грозном чеченец, ошалевший от своей национальной ненависти и от полной безнаказанности «возвращенцев», ранил ножом двух русских, от чего один из них умер. Чаша терпения русского населения Грозного оказалась этим переполнена: в Грозном разразился грандиозный митинг, переросший в бунт, длившийся несколько дней. Бунтующие штурмовали обком партии и почту, заняли часть здания МВД республики, требуя выселить всех чеченцев из столицы ЧИ АССР (Грозный к моменту возвращения чеченцев превратился в русский город, но в 1957 году ситуация сразу катастрофически изменилась). И тогда против русских в бунтующий Грозный были введены войска, которые подавили народное возмущение. Подавили навсегда: с тех пор, что бы чеченцы ни творили с русскими, организованного сопротивления они уже не встречали.
Уже в 1970-е годы начинается постепенный отток (чтобы не сказать бегство), сперва неторопливый, русского населения из ЧИ АССР, где ему становилось все более некомфортно. Между тем, как и в послевоенном Косово, этнодемографический баланс, точнее – дисбаланс, все время менялся (нарастал) за счет экстремально высокой рождаемости у чеченцев против вполне обычной, средней для СССР тех лет, рождаемости у русских. Отток русских ускорялся и усиливал процесс: если в 1970 году в Чечено-Ингушской АССР насчитывалось 367 тыс. русских, то в 1989 году уже только 293,7 тыс. Вместе с дисбалансом росли рознь, неприязнь, вражда.
Но самое главное – вместе с ростом своей популяции, особенно ее молодой части, у чеченцев росло сознание своего могущества, витальной силы, а с нею – пассионарность, воля к господству, к решающей битве, к победе любой ценой. Незабываемое интервью во время второй чеченской войны дала как-то раз мать-чеченка по российскому ТВ: «У меня пятеро сыновей. Двое воюют с вами, русскими. Этих убьют – я еще двоих пошлю!». В этих словах – вся суть настоящего эссе.
Межнациональная напряженность до крайности обострилась с 1990 года, даже еще до распада СССР. Все существо дела лучше всех выразил российский президент Владимир Путин, который в интервью французскому еженедельнику «Пари-матч», данном 6 июля 2000 года публицисту Мареку Хальтеру, сформулировал: «По сути, в последние годы на территории Чечни мы наблюдали широкомасштабный геноцид в отношении русского народа, в отношении русскоязычного населения. К сожалению, на это никто не реагировал». Сказано чётко и определенно: вещи недвусмысленно названы своим именем. К сожалению, никто не прореагировал и на эти слова.
* * *
Материалов, подтверждающих факт геноцида русских со стороны чеченцев, отмеченный президентом Путиным, более чем достаточно. Кое-что опубликовано в открытых источниках, например, в книге «Комиссия Говорухина», в которой изложены выводы Комиссии Государственной Думы РФ, возглавлявшейся С.С. Говорухиным. Там черным по белому написано, что в Чечне, начиная с 1990-1991 гг., когда чеченские сепаратисты захватили власть в Грозном, проводилась политика геноцида по отношению к русскому населению. Тот же вывод подтверждает и т.н. «Белая книга ФСБ», посвященная чеченской войне. И т.д. Есть множество разрозненных свидетельств в периодической печати. Масса показаний накоплено различными правозащитными организациями. Огромное количество сведений хранят (а точнее – хоронят) правоохранительные органы: МВД и Прокуратура, а также Федеральное Собрание Российской Федерации, Администрация президента России и другие ведомства, имеющие касательство к Чеченской Республике. Но гораздо больше осталось невысказанного, нерасказанного. Необозримое море русской крови, русских слез, пролитое с 1990 года в Чечне, ждет еще своего исследователя. Но кое-что можно конкретизировать и сейчас.
С августа 1991 года была фактически узаконена ярко выраженная антирусская политика, приводящая к систематическим нарушениям прав человека, моральному и физическому террору, направленному против русского населения. В связи с официальным правом чеченцев в самопровозглашенной Чеченской Республике Ичкерия иметь в личном пользовании какое угодно количество боевого оружия, русскоязычное население оказалось беззащитным перед разгулом преступности. Распространенным явлением в республике стало насилие в отношении русских: избиения, убийства, грабежи, изнасилования, захват заложников, взломы и насильственное выселение из квартир домов.
Большинство наблюдателей сходятся на том, что за период с 1991 по декабрь 1994 г. (то есть, еще до ввода федеральных войск) в Чечне были убиты более 21 тыс. русских и 250 тыс. человек покинули республику, спасаясь от этнических чисток. И это не считая погибших во время военных действий! По сведениям различных источников, в первую очередь отдела Кавказа бывшего Министерства по делам национальностей, с 1991 по 1999 гг. на территории Чечни было захвачено более 100 тыс. квартир и домов, принадлежащих «некоренным» жителям Чечни, более 46 тыс. человек было обращено в рабство либо использовано на принудительных работах (от сбора дикорастущей черемши до строительства дороги в Грузию через Итум-Кале и Таз-бичи).
По данным Всесоюзной переписи населения, в 1989 году на территории Чечено-Ингушской АССР проживало свыше 293.700 русских (23,1% населения республики), из них около 30 тысяч человек в тех районах, которые потом вошли в состав Республики Ингушетия, остальные – собственно в Чечне. Но на сегодняшний день в республике остались единицы – в основном очень пожилые русские люди или глубокие старики, а также жены чеченцев.
Между тем, начиная с 2002 г., когда перепись зафиксировала 1.103.000 жителей, в Республике происходит постоянный рост населения, ежегодно прибавляется не менее 20.000 человек, в основном за счет высокой рождаемости. В 2020 г. в Республике проживает уже почти 1,5 млн. граждан. При этом доля собственно чеченцев продолжает расти довольно быстро: с 93,47 % в 2002 году до 95,1 % в 2010 году. Людей старше 55 лет крайне мало, меньше 10 %, прирост идет за счет молодежи.
В те же годы доля русских продолжает падать: с 3,68 до 1,92 %. Что до русской молодежи, ее там, можно сказать, нет.
Таким образом, положение с этнодемографическим балансом вернулось к 1926 году, когда русских было в Чеченской АО немногим менее 3 %, а чеченцев – 94 %. Только территория Чечени с тех пор многократно возросла за русский счет, а количество самих чеченцев с момента депортации выросло в 4-5 раз. Сила демографического фактора оказала себя в очередной раз с сокрушительной убедительностью.
* * *
Итак, президент Путин был совершенно прав, охарактеризовав все произошедшее в Чечне как геноцид: был русский народ в этой небольшой стране – и нет его. Как известно, данное преступление не имеет срока давности. Дальнейшее – на совести Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и Государственной Думы.
При вышеизложенных обстоятельствах ясно и понятно, что Чечня потеряна русскими необратимо, навсегда, как Косово – сербами. Вместе со всеми когда-то чисто казачьими, русскими землями и с казачьей станицей Грозная, превратившейся в столицу Чеченской республики. Несмотря на то, что и респубика, и ее столица формально входят в состав Российской Федерации, для русского народа это – отрезанный ломоть.
Еще и еще раз хотел бы здесь подчеркнуть: Чечня – это «русское Косово». Оба эти примера с убедительной наглядностью демонстрируют: судьбы территорий определяют не международное право или ссылки на историю и нравственные законы, а исключительно этнодемографический баланс, сложившийся на этих территориях в его динамике. «Кровь и почва» – не пустое словосочетание, а формула, суть которой – неразрывная связь основополагающих и притом взаимозависимых понятий.
«Плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю, и обладайте ею», – главная заповедь, данная Богом человеку с момента его создания. Судьба сербов и косоваров в Косово, русских и чеченцев в Чечне показывает нам, что бывает с народами, которые выполняют – либо не выполняют эту заповедь.
Крестовые походы
Интересный пример из прошлого, позволяющий подчеркнуть роль демографического фактора в макроисторических событиях, представляют собой Крестовые походы.
Разумеется, как всякий убежденный детерминист я понимаю, что самых разных причин у Крестовых походов, как и мотивов у их вдохновителей и участников, может быть немало. У римских пап – свои, у финансистов и торговцев, предоставлявших деньги, оружие, лошадей, продовольствие и корабли для дорогостоящих экспедиций – свои, у королей и сеньоров – свои, у простых безземельных и бедных рыцарей – свои, у фанатичных пилигримов – свои и т.д. Долгое время считалось, что главной причиной Крестовых походов было отвоевание гроба Господня и Святой земли, которая находилась в руках «неверных», то есть мусульман. Поверхностный взгляд привычно относит эти походы к разряду т.н. «Священных войн», то есть исключительно к сфере общественной надстройки.
Но только историческая демография позволяет судить о самой главной, базисной причине – и тогда картина резко проясняется, ее материальная подоплека обнажается. Ведь сами по себе ни религии, ни идеологии не создают потенциал, позволяющий вести и выигрывать войны. Как ни важны были призывы римских пап к Крестовым походам, но потребовались огромные людские контингенты, вырванные из родной почвы с корнями, чтобы осуществить эти далекие и рискованные военные экспедиции.
Такие контингенты усиленно формировались в Западной Европе «снизу» и «сверху». С одной стороны – за счет обезземеленных в ходе начавшегося раскрестьянивания, а также бегущих от прелестей крепостного права крестьян и уже наплодившихся в избытке обездоленных городских низов (города были переполнены люмпенами, леса – разбойниками, ворами и бандитами). А с другой – за счет лишенных наследства младших сыновей сеньоров. Нужен был только красивый, возвышенный предлог, чтобы с воодушевлением двинуть эти массы в смертный бой за новую жизнь – и папы его дали.
* * *
Итак, прежде всего взглянем на картину демографического развития Западной Европы в эпоху т.н. Высокого Средневековья, то есть в XI-XIV вв.
После того, как в результате Великого переселения народов (IV-VII вв.) сложилась в общем и целом этническая, а за ней и политическая карта Европы, прошло примерно 400 лет, в течение которых европейцы осваивали, окультуривали новые для них территории и постепенно, но неуклонно плодились на оных, довольно быстро увеличивая свой демографический потенциал. В одной только Германии население от середины VII до конца IX в. выросло вдвое: приблизительно с 2 до 4 млн. Во времена Карла Великого (742/747 – 814) все население Европы оценивается в 25-30 миллионов, но за двести лет, к концу Х – началу XI вв., оно уже выросло в два с лишним раза и составило примерно 64 млн.
В интересующую нас эпоху Крестовых походов самое главное, что бросается в глаза при знакомстве даже лишь с популярными данными – это резкий рост численности европейцев в 1000-1340-е гг.: с 64 до 187 млн человек! Как пишет об этом периоде Википедия: «Население Англии, составлявшее в 1086 году порядка 1 миллиона человек, возросло, по оценкам, до величины от 5 до 7 миллионов человек. Франция… в 1328 году имела население от 18 до 20 миллионов человек, число не достигнутое снова вплоть до раннего Нового времени. Тоскана имела в 1300 году население порядка 2 миллионов человек: такой численности она снова достигла только к 1850 году»[26]. И т.д.
Утроение человеческой массы не могло, конечно же, не вызвать появления знакомых нам механизмов Природы, регулирующих рост биологических популяций, а именно: войн, миграций и пандемий. Крестовые походы сочетают и демонстрируют нам всех их без изъятия.
Отчего так быстро и мощно росло население? Историки связывают это, в первую очередь с климатическими изменениями (т.н. Средневековый теплый период 950-1250 гг.), обеспечившими, наряду с агротехническими усовершенствованиями, заметный рост сельскохозяйственной продукции. Но надо иметь также в виду развитие товарной экономики, в том числе в деревне. И, конечно, урбанизацию: заметный рост городов с XI в. стимулировал отток крестьян и ремесленников из сельской местности (феодальных вотчин), а это всегда влечет за собой прирост за счет более высокой выживаемости младенцев в городах. Основную массу горожан составляли подмастерья и поденщики. Но возрастал и асоциальный элемент – городские попрошайки, бродяги и нищие, выдавленные из деревни и плохо интегрированные в городскую жизнь.
Между тем, в течение X-XI вв. структура феодальной иерархии меняется. Возникают новые ее звенья, в которые входят как потомки вассалов старой знати, так и вновь поднявшиеся из низов слои класса феодалов, который расширяется за счет незнатных воинов (рыцарей), а также владельцев мелких служебных ленов. Рыцарское сословие в Высоком Средневековье еще не стало замкнутым, социальные лифты, способные поднять простолюдина в рыцари, действовали. В качестве яркого примера можно привести реформу германского короля Генриха I Птицелова (X в.), который, ради создания конницы, способной дать отпор вторжению мадьяр (венгров), зачислил в военное сословие всех, кто только мог сражаться в конном строю. Они и стали «новым рыцарством» Германии, амбициозным, но малоимущим, все же остальные зачислялись в податное сословие.
Но главным событием, определившим судьбу рыцарства и подтолкнувшим его к массовому участию в Крестовых походах, стало введение в Западной Европе повсеместно принципа майората, по которому вся недвижимость феодала (земли, замки и дома) переходила по наследству его старшему сыну. Младшим же сыновьям, наследовавшим в лучшем случае только деньги и движимость, оставался путь либо церковного иерарха, либо профессионального воина. Иначе их ждало обнищание, деклассирование и переход из феодалов в другие сословия – купеческое или даже крестьянское.
Майорат установился еще при Карле Великом на всей территории его империи, то есть на землях будущей Германии, Франции, Нидерландов и Италии. В Англии система майората утвердилась позже, в XIII веке, зато была значительно жестче, чем в континентальной Европе. Это установление, отменившее свободу наследования, привело к тому, что ко времени первого крестового похода уже образовались огромные контингенты безземельных и малоимущих рыцарей, готовых на многое, чтобы поправить свое положение да и просто свести концы с концами и обеспечить свои семьи. Энергетическое напряжение в этом сословии сделалось очень велико, ведь в те времена рыцари плодились не менее активно, чем крестьяне.
Вообще, жизнь средневековой Европы, в связи с непрерывным демографическим подъемом и социальным расслоением общинного бытия, была далеко не спокойной, ведь накопившиеся социальные противоречия и социальная энергия требовали выхода. Образно говоря, к концу XI века и вообще в эпоху Крестовых походов чрезмерно расплодившаяся (по масштабам своего времени, конечно) Европа представляла собой «демографическую бочку», набитую взрывчатым и горючим человеческим материалом – оставалось только поднести запал. Что и сделал римский папа Урбан II в ноябре 1095 года, призвавший на Клермонском соборе всех королей, сеньоров, рыцарей и простых людей отправиться в крестовый поход с целью отвоевать гроб Господень.
Сегодня такой взгляд на первопричину Крестовых походов наконец-то становится преобладающим: «Многие историки считают, что Первый крестовый поход, а также все последующие имели демографические причины. Европа в конце XI века сталкивается с проблемой перенаселения. Доказательством этого становится тот факт, что основная масса крестоносцев происходила из тех районов, где в Европе наблюдалась наибольшая плотность населения: Северная Франция, Южная Италия, западные районы Германии. Те районы, которые не имели такой проблемы перенаселения, тяги к походам в Палестину не испытывали. Еще одним доказательством этого демографического фактора, влияющего на крестовые походы, является тот момент, что после начала крупномасштабных эпидемий в Западной Европе Крестовые походы постепенно прекращаются. После знаменитой эпидемии чумы 1348 года в Европе о крестовых походах уже не было и речи»[27]. Выше я постарался раскрыть данный тезис через статистические данные. Следует добавить несколько красочных и убедительных деталей – и поделиться рядом дополнительных существенных соображений.
* * *
Важно отметить предварительно, что первому организованному крестовому походу европейцев на мусульманский Восток предшествовал стихийный выброс огромной массы европейской бедноты в том же направлении – так называемый «крестьянский поход» (или «поход бедноты»), собравший под свои хоругви, по разным оценкам, от 40 до 80 тысяч пилигримов и порядка 700 рыцарей. Это были европейцы различной этничности: франки, швабы, баварцы и даже люди из Лотарингии. Поход инициировался и возглавлялся двумя любопытными историческими персонажами. Это, во-первых, Петр Пустынник – самобытный и талантливый, но нищий проповедник родом из французских крестьян, ходивший босиком, в некоем подобии рясы и с непокрытой головой и обладавший редким даром убеждения. А во-вторых – бедный неимущий рыцарь Вальтер с очень о многом говорящим прозвищем «Голяк». Данный факт – крайне характерен, показателен для той эпохи. Ведь именно эти два сословия – обездоленное, люмпенизированное крестьянство и столь же обездоленное и люмпенизированное рыцарство: вот основной социальный наполнитель крестоносного движения, вот его плоть и кровь, обильно пролитая именно ввиду своей чрезвычайной избыточности.
Но что могли эти люди, наивные и фанатичные, охваченные верой и энтузиазмом, однако не располагавшие никаким ресурсами и ничего не смыслившие ни в географии (они имели самые смутные представления о том, где лежит Святая земля и как до нее добраться), ни в ратном деле? Большинство так и не попало в Землю Обетованную, а было убито или пленено еще в пути венграми, болгарами и турками[28]. Уже по дороге к Константинополю половина пилигримов исчезла, и на азиатский берег смогло высадиться не более 30 тысяч человек, домой же и вовсе вернулись единицы (считается, что спаслось лишь около 1000 человек, в т.ч. Петр Пустынник). Поход послужил своего рода пробой, подготовившей первый «настоящий» крестовый поход, в котором ошибки Пустынника и Голяка были учтены и преодолены.
Хронология Крестовых походов такова: Первый крестовый поход начался в 1096 году; Второй в 1147; Третий в 1189; Четвертый в 1202; Пятый в 1217; Шестой в 1228; Седьмой в 1248; Восьмой в 1270.
Трудно сказать с точностью, сколько именно людей из Европы приняло участие в походах, битвах и последующей колонизации завоеванных земель, каким именно был отток избыточного населения из основных европейских стран. Нам известны только отрывочные цифры.
Так, в первом походе участвовали следующие четыре армии: северофранцузская (общая численность доходила до 15.000 человек, в том числе около 1500 рыцарей; лотарингская (также около 15.000 человек, в том числе около 1500 рыцарей); провансальская (до 20.000 человек, в том числе 2000 рыцарей; итало-норманнская (до 10.000 человек, в том числе 1000 рыцарей)[29]. Итого около 60 тыс. бойцов, в т.ч. 6 тыс. рыцарей (это соотношение – 1:10, скорее всего, следует считать нормой при комплектации крестоносных войск). С рыцарями часто шли их оруженосцы и воины, составлявшие «копье» того или иного рыцаря.
Названное число: много это или мало? Если учесть, что общее число рыцарей в Европе того времени оценивается в 60-80 тыс. человек, то – немало. И вообще, воинского контингента такого масштаба запустевшая в раннем Средневековье Европа не выставляла и не видала со времен падения Римской империи. Всего же в общей сложности число людей, утекших под знаменами крестоносцев с Запада на Восток, никак не может быть менее миллиона-полутора, что по тем временам весьма существенно.
Надо учитывать, что вместе с войском в Святую землю прибывал обоз, а с ним – множество людей самого разного толка – от благочестивых пилигримов, до стариков, женщин и детей, мечтавших устроить свою судьбу на завоеванных землях. Сколько их было – точно неизвестно, но вряд ли менее боевого отряда. И после, уже на завоеванные земли, превратившиеся в христианские государства на Востоке, шел непрерывный поток переселенцев, движимых – кто благочестием, а кто жаждой устроения жизни. Между первым и третьим походами прошло девяносто три года, за это время Иерусалимское королевство, а также заморские графства Триполи и Эдесса, княжество Антиохия были освоены колонистами и содержали постоянные гарнизоны для защиты от многочисленных врагов.
В 1187 году Иерусалим был отобран у франков Саладином, но все же почти сто лет его колонизации способствовали значительному оттоку людей из Европы. Ведь завоеванные территории были разбиты на феоды, за которые рыцари-крестоносцы несли военную службу, и каждый феод являлся поместьем, разбитым на мелкие участки земли, обрабатываемыми крестьянами.
Для примера: в городе Акра при крестоносцах проживало до 60 тысяч человек, больше, чем в те же годы в Киеве (около 50 тысяч). А Иерусалим был несравненно более значительным городом. Всем латинским государствам приходилось постоянно защищать самое свое существование, для чего был необходим корпус из сотен рыцарей (феодальных вассалов иерусалимского короля или других латинских сюзеренов) и тысяч пехотинцев. Очень скоро они превратились в ассимилированную категорию старожилов, о которых выразительно написал Фульгерий Шартрский – французский священник (ок. 1058 – ок. 1127), автор ценного сочинения «Иерусалимская история», который не вернулся в Европу, а остался жить на Востоке и даже стал каноником Храма Гроба Господня:
«Молю тебя, поразмысли о том, как Бог в наше время превратил Запад в Восток. Ибо мы, раньше бывшие жителями Запада, теперь стали людьми восточными. Человек, бывший римлянином или франком, в этой земле превратился в галилеянина или палестинца. Тот, кто некогда был жителем Реймса или Шартра, теперь стал гражданином Тира или Антиохии… Некоторые из нас имеют собственные дома и слуг, как будто получили их по наследству или по праву семьи. Другие берут в жены не женщину из своего рода, а сирийку, или армянку, или даже иногда крестившуюся сарацинку… Один человек может владеть виноградниками, другой – земельными угодьями… Тот, кто был иноземцем, теперь как свой. Пришелец стал местным жителем. За нами сюда приходят, день ото дня, хотя и не слишком охотно, наши соседи и родители, которые покидают все, чем владели. Тех, кто был в нужде, здесь делает богатыми Бог. Те, у кого было несколько монет, здесь имеют бесчисленное количество византинов. Тот, у кого не было деревни, здесь имеет данный Богом город. Зачем тот, кто нашел Восток таким, будет возвращаться на Запад?»[30].
Понятно, что именно из подобных соображений исходили бесчисленные пилигримы, непрерывным потоком шедшие в Палестину из Западной Европы и служившие источником живой силы латинских государств. На заселение всего Ближнего Востока этого потока, конечно, недоставало, лишь на создание христианских европейских эксклавов, «латинских государств», просуществовавших, однако, около двух веков.
* * *
К чему этот исход живого человеческого ресурса вскоре привел Европу? Уже в ходе организации второго крестового похода аббат Бернар Клервоский (1091-1153), принимавший в ней самое деятельное участие, докладывал папе, что города и замки Запада опустели и что семь женщин едва ли могут найти одного мужчину, который составил бы им компанию, поскольку все молодые и здоровые мужчины присоединились к крестоносцам. Это важнейшее свидетельство красноречиво говорит нам как об истинной глубинной причине, так и о последствиях Крестовых походов.
В скором времени, примерно через пятьдесят лет после первого похода, когда континентальная Европа несколько подыстощилась, на первое место в качестве ресурса стала выходить Англия. Не случайно тот же Бернар Клервоский послал именно в Английское королевство письмо такого рода: «Я обращаюсь к вам, народ Англии, во имя Христа… Известно, что ваша земля богата молодыми и решительными людьми. Мир восхваляет их, и слова об их храбрости у всех на устах. Поэтому приготовьтесь как мужчины, с радостью и рвением ради своего христианского имени возьмите в руки оружие, чтобы отомстить язычникам и обуздать их. Сколько еще ваши люди будут проливать христианскую кровь? Сколько еще они будут драться между собой? Люди нападают друг на друга и убивают друг друга. Зачем это? Остановите это… Ведь сейчас, о мужественные солдаты, о рыцари, у вас есть дело, за которое вы можете сражаться, не опасаясь за свою душу, дело, в котором завоевать – значит покрыть себя славой, а умереть – значит победить».
Из текста ясно следует, что энергия демографического подъема, избыток людских сил уже привели англичан к постоянным кровопролитиям, и следовало лишь перенаправить эту энергию и этот избыток с междоусобиц и англо-французских стычек на крестоносные завоевания. Неудивительно, что в ходе подготовки к Третьему крестовому походу Ричард Львиное Сердце, как считается, собрал армию от 1000 до 2500 рыцарей и соответственно до 20.000 остальных войск. Но помимо англичан в поход выступили также еще и французские, немецкие, арагонские, кастильские, лангедокские крестоносцы, числа которых мы не знаем. И только по аналогии можем предположить, что общая численность участников была не меньше той, что просчитана для Первого похода.
Во время Шестого крестового похода, который проходил в 1228-1229 гг. немецким крестоносцам под водительством императора Фридриха II Штауфена удалось взять Яффу и вновь захватить Иерусалим, а сам он короновался в Святой Земле иерусалимской короной. В войско Фридриха входили также немецкие, французские, английские, итальянские рыцари (всего порядка двух тысяч восьмисот рыцарей). Однако долго удерживать святой город объединенные европейцы уже не могли: через пятнадцать лет, в 1244 году, он вновь достался мусульманам.
В дальнейшем крестовые походы уже не обеспечивали европейцам былых возможностей для эмиграции, напор людских масс, как воинов, так и колонистов, ослабевал. И в 1270 году последний, Восьмой поход был уже только французским. Франция не зря, как отмечено выше, лидировала среди европейских стран в плане демографического подъема, она дольше всех сохраняла избыточный человеческий ресурс (недаром на Востоке всех крестоносцев вообще было принято называть франками). Но к указанному году мобилизационный порыв уже настолько слаб, что все финансирование пришлось взять на себя королевской казне (да еще платить жалование рыцарям, которые не желали, как прежде, рисковать даром, ибо уже не надеялись устроить свою судьбу за счет завоеваний).
Вообще, король Франции Людовик IX, хоть и получил прозвище «Святой», но удачливостью в своих крестоносных предприятиях не отличался. В ходе Седьмого похода погибло примерно 30 тысяч участников, и еще почти 20 тысяч попали в плен, включая самого короля. Определенных успехов после смерти Людовика Святого добился сицилийский король Карл Анжуйский, но они были временными. В 1289 году мусульманами был взят Триполи, а в 1291 году под их натиском пала Акра, и христианам пришлось навсегда покинуть Святую землю и отправиться, откуда пришли.
Человеческий источник, двести лет питавший крестоносную экспансию европейцев на Ближний Восток, заметно иссяк.
* * *
Итак, всего официально объявленных и признанных крестовых походов было восемь. Но нельзя забывать, что помимо официальных, в тот же период были и неофициальные крестовые походы, причем не только на мусульманский Восток. Об одном таком – «походе бедноты» – рассказано выше, он прекрасно иллюстрирует мысль о социальной природе вооруженного пилигримажа. Но переполненная бедными и нищими людьми Европа и далее продолжала выталкивать их вон из себя: вскоре на Восток самочинно отправились еще 15.000 немцев и лотарингцев под предводительством священника Готшалька, но по пути были истреблены венграми.
Их печальную судьбу разделило новое крестоносное войско под предводительством герцога Вельфа Баварского из Германии и еще два других, из Италии и Франции, составившие в общей сложности огромную армию – ни много ни мало – в 260.000 человек. Их подвигло к тому в 1101 г. известие об успешном завоевании Палестины и вспыхнувшая жажда подвигов и трофеев. Войско, однако, опрометчиво двинулось через Малую Азию, где было разгромлено и истреблено турками-сельджуками.
Помимо этого грандиозного, хоть и провалившегося мероприятия, в указанный период были и другие вооруженные экспедиции, предпринимавшиеся различными владетельными сеньорами на свой страх и риск. Так, в одном только XIII веке из разных частей Европы на Восток отправилось не менее восьми крупных походов. В частности, в 1217 году венгерский король и австрийский герцог отплыли в Акру, в результате чего, объединившись с местными «восточными» рыцарями, взяли небольшую крепость Бейсан. В начале 1218 года, разочаровавшись в предприятии, венгерский король возвратился в Европу, но почти сразу же другая партия крестоносцев отплыла в ту же Акру, где, воссоединившись с австрийским герцогом и латинскими баронами, а позднее и с итальянскими крестоносцами во главе с папским легатом Пелагием, осадили город-порт Дамьетту, который был захвачен в 1219 году. Следует отметить, что этот поход сопровождался эпидемией загадочных болезней, от которых армия сократилась на одну пятую часть.
Здесь необходимо дополнительно рассказать о таком в высшей степени знаковом событии, как т.н. Крестовый поход детей в 1212 году. Он числится как бы вне основной хронологии, но значение это беспримерной акции чрезвычайно велико и показательно.
Само собой разумеется, что дети были наиболее зримым и существенным воплощением того кризиса перепроизводства людей, который, собственно, и породил эпоху Крестовых походов. Поэтому представляется исторически логичным и естественным, что массовый самоубийственный порыв охватил именно эту юную поросль Старого Света. В точности так размножившаяся сверх меры новорожденная саранча или слишком расплодившиеся молодые лемминги, охваченные вдруг непобедимым жертвенным экстазом, ведомые не знающим ошибок и пощады инстинктом, неудержимо и массово устремляются вдруг к морю только ради того, чтобы мириадами сгинуть в его волнах или на пустынных островах, лишенных пищи.
Все началось с того, что подростку-пастуху Стефану из Клуа было видение, в котором сообщалось, что освобождать Иерусалим должны дети под его предводительством. Отклик на его призыв получился грандиозным. Характерное описание Крестового похода детей находим в средневековой хронике «Крестовый поход, называемый детским, 1212 год»:
«В эту экспедицию отправились дети обоего пола, отроки и отроковицы, да не только малые дети, но и взрослые, замужние женщины и девицы – все они шли толпами с пустыми кошельками, наводнив не только всю Германию, но и страну Галлов и Бургундию. Ни друзья, ни родственники никоим способом не могли удержать их дома: они пускались на любые уловки, чтобы отправиться в путь. Дело дошло до того, что повсюду, в деревнях и прямо в поле люди оставляли свои орудия, бросая на месте даже те, что были у них в руках, и присоединялись к шествию…».
Удержать от похода детей родителям не удавалось – их тут же обвинили бы в маловерии, а дети все равно сбежали бы из дома. Даже дети из знатных семей массово шли на призыв малолетних проповедников, ведь почти у каждого кто-то из родичей погиб или прославился в Палестине или Сирии. Многих увлекал мотив отмщения за представителей своего рода, особенно детей из менее удачливой Германии[31].
Император Фридрих II пытался запретить затею детей – но куда там… иррациональный порыв, охвативший детей, был слишком массовым и сильным. Немецкие дети, в основном, бежали из прирейнских краев, ближайших к Кёльну, где действовал главный «святой» проповедник – десятилетний мальчик Николас, собравший под свои знамена не менее 20 тыс. детей, включая даже шестилеток и семилеток. Вторым центром сбора малолетних крестоносцев был французский город Вандом, где проповедовал пастух Этьен, посещаемый видениями и слышавший «голоса»; ему удалось собрать не менее 30 тыс. детей. Всего же историки предполагают участие почти ста тысяч детей.
Участь всего этого юного цвета главных стран континентальной Европы была не просто печальна – ужасна. Самые маленькие, слабые и беззащитные стали болеть и умирать уже на третьей-четвертой неделе похода, или оставаться в придорожных деревнях. По дороге детей нередко похищали, как утверждает та же хроника: «И вот, когда эти безумные толпы вступили в земли Италии, они разбрелись в разные стороны и рассеялись по городам и весям, и многие из них попали в рабство к местным жителям». Две трети германской экспедиции погибло в пути, а те, что все же дошли до Генуи, переправились в Бриндизи и были оттуда отправлены восвояси домой. «Так, разочарованные и смущенные, пустились они в обратный путь. Привыкнув когда-то шагать из провинции в провинцию толпой, каждый в своей компании и не прекращая песнопений, они теперь возвращались в молчании, поодиночке, босоногие и голодные. Их подвергали всяческим унижениям, и не одна девушка была схвачена насильниками и лишена невинности». Французской экспедиции повезло меньше: тех, что дошли живыми до Марселя и сели на семь кораблей, – либо затонули в бурю у Сардинии (два корабля), либо были проданы в рабство, попав в Египет. Никого из них родные назад не дождались.
Таким образом, этот специфический крестовый поход, кончившийся чудовищным «избиением младенцев» – гибелью и пленением целой популяции детей – есть ужасный «слив», утилизация значительной части молодого поколения европейцев, очередное яркое свидетельство избыточности человеческого материала той эпохи. Учтем, что никто из этих несчастных мальчиков и девочек не принесет потомства в Европе, это чистые невозвратные демографические потери. Перед нами – гекатомба, колоссальное жертвоприношение, осуществленное под «священным» предлогом, но по сути своей бывшее лишь «кровопусканием» из переполненных живой кровью жил средневековой Европы.
«Кровопускание» этим не исчерпалось. Хотя официальная историография Крестовых походов ограничивает их число восемью, полагая, что только эти грандиозные экспедиции могут по праву называться Крестовыми походами, но мы знаем, что даже и в XIV веке было организовано еще несколько так называемых крестовых походов. Но они, хотя и вписываются в рамки христианско-мусульманского противостояния, уже были направлены не на возвращение Иерусалима и христианских ценностей Святой земли, а на сдерживание Оттоманской империи на пути в Европу. Ни в Палестину, ни в Сирию эти экспедиции не устремлялись, но оттоку людей с Запада, несомненно, все равно служили. Так что вполне правильно было бы утверждать, что глобальный по тем временам процесс увода человеческого ресурса из континентальной Западной Европы не окончился с последним, Восьмым крестовым походом.
Но так же верно будет утверждение, что он не с Первого похода и начался. Выше уже говорилось, что Северная Франция, Нормандия в частности, была особенно избыточна демографически. Поэтому вполне можно утверждать, что знаменитые завоевания норманнов, захвативших в XI веке вначале Южную Италию (1060) и Сардинию (1072), а также Англию (1066), явились предшественником и прототипом Крестовых походов. Недаром в первом же крестовом походе весьма мощной отдельной силой была армия именно норманнских рыцарей, происходивших из Бретани, Фландрии и Нормандии. И вели ее ближайшие родственники рыжего Вильгельма Завоевателя: его старший сын герцог Роберт Нормандский, муж его дочери Адели Стефан Блуаский и граф Роберт Фландрский, кузен герцога Роберта.
* * *
Сказанное позволяет сделать два вывода.
Первое. Главная причина Крестовых походов, давших имя целой эпохе длиной в два столетия, – демографическая, порожденная избыточной рождаемостью в Западной Европе. Они начались в одиннадцатом веке (1096) и закончились только в тринадцатом (1291) полным изгнанием христианских войск и колонистов из Святой земли. Как видим, эта хронология полностью укладывается в рамки эпохи того демографического подъема, которым была охвачена Европа с 1000 по 1340 гг. и который, на мой взгляд, и послужил главной причиной «пассионарного толчка», направившего европейцев на Ближний Восток. Именно Крестовые походы стали основной формой, в которой произошло разрешение кризиса «человеческого перепроизводства», охватившего Европу в XI-XIV веках.
И второе. Следует резюмировать: главный исторический итог Крестовых походов – большое «кровопускание» в Западной Европе, резко снизившее демографическое давление в этой части света.
Однако на этом важном выводе не следует прерывать разговор о демографическом подъеме Европы в X-XIII веках и его последствиях, надо выговорить данную тему до конца.
Как уже было замечено, в указанных столетиях были задействованы все три основных природных регулятора численности биологических популяций: война, миграция и пандемии.
Нетрудно видеть, что крестовые походы на Ближний Восток, в Святую землю – Сирию и Палестину, были самым заметным и пафосным осуществлением регуляторов номер один и два. Но далеко не единственным.
Необходимо заметить, что наряду с ними мы видим немецкую экспансию на славянские земли – в районы рек Лаба и Одра, в Прибалтику и на Русь. Ведь остро нужен был отток людей с Запада, а куда – не все ли равно? На сарацин или на славян – какая разница… Одновременно французы таким же манером шли в Лангедок и Прованс (кровопролитные, на грани геноцида, крестовые походы против еретиков – альбигойцев, катаров, луцифериан и др. ). А испанцы и португальцы, поддерживаемые другими европейцами, особенно англичанами, повели в 1147 году мощное наступление на мавров (открыли «Иберийский фронт», как выражаются историки).
Уместно сказать здесь несколько слов о немецкой доктрине «Дранг нах Остен», посвященной обоснованию именно такой экспансии, так же шедшей под сенью креста и так же обеспечивавшей отток населения из переполненной людьми метрополии на вновь завоеванные земли. Сама доктрина появилась еще в VIII в., и более двухсот лет немецкие рыцари, солдаты и колонисты постепенно продвигались на северо-восток. Но полную четкость и завершенность доктрина обрела в политике императора Фридириха I Барбароссы (1122-1190). Ради осуществления каковой были организованы, начиная с 1147 года, немецкие т.н. Северные крестовые походы (в них принимали участие также датчане). В результате которых были оккупированы многие славянские земли, онемечены многие славянские и балтийские племена (пруссы, поморяне, лютичи, бодричи и др.).
Католические идеологи были тут как тут. Вышеупомянутый Бернар Клервоский писал: «Поскольку Господь поручил нам проповедовать этот Крестовый поход, мы уведомляем вас, что на совете, в присутствии короля, епископов и князей, который собрался во Франкфурте, мощь христиан была направлена против славян; и для полного уничтожения или обращения этих людей они надели кресты, знак нашего спасения. Мы своей властью обещали им те же духовные привилегии, которые получили крестоносцы, шедшие в Иерусалим… Мы категорически запрещаем по любым причинам заключать мир с этими людьми и ради денег, и ради дани до тех пор, пока с Божьей помощью они не будут полностью уничтожены или обращены».
Особо следует отметить роль римских пап в освящении (легитимации) указанных «богоугодных» мероприятий: так, в 1217 году папа Гонорий III объявил крестовый поход против прусских язычников, а в 1236 Григорий IX так же объявил крестовый поход против жемайтов. Но суть дела от этой «священной» вывески не меняется: передвижение этнодемографической границы Германии на Северо-Восток.
Чтобы договорить эту тему до конца, следует упомянуть помимо разнообразных крестовых походов в разном направлении вовне, также ведение войн и в самой Европе, которые время от времени вспыхивали на почве национальной или социальной вражды. Уж если даже во время крестоносных союзов, обязывающих участников, казалось бы, к солидарности и взаимной приязни, на деле постоянно вспыхивали стычки и даже сражения между, скажем, франками и германцами, то что говорить о зоне постоянных государственных и этнических противоречий. В результате которых мы наблюдаем и Столетнюю войну (1337-1453), в Англии плавно перешедшую в тридацитлетнюю войну Алой и Белой розы (1455-1485); и восстание близ Ольденбурга и Бремена крестьян-штедингов, которых архиепископ Герхард II в 1230 году предал отлучению как еретиков, а папа Григорий IX дважды организовал против них отдельный крестовый поход; и крестьянскую Жакерию в 1358 г.; и восстание Уота Тайлера в 1381 г. – весьма кровопролитные эпопеи (скажем, численность восставших крестьян, ремесленников, торговцев и даже части «черного» духовенства.достигала в Жакерию 100 тысяч человек). И подобные тому «войнушки» в пределах христианских европейских государств можно перечислять еще.
Сказав о войнах и миграциях, порожденных высоким демографическим давлением в средневековой Европе, надо добавить и о пандемиях. Выше уже говорилось о тех болезнях, в том числе «странных», «загадочных», что косили пилигримов и крестоносное воинство в ходе священных походов. Но этот регулятор включился и в самой Европе, особенно когда в дело вступили такие «царицы пандемий», как черная оспа и чума.
На первое место следует тут ставить чуму, поскольку именно ее эпидемия, начавшаяся в 1347 году, резко положила грань демографическому подъему европейцев – более решительно даже, чем это делали крестовые походы. Тогда «чёрная смерть» унесла жизни примерно трети жителей Европы, а в Англии даже до половины.
Оспа, с которой европейцы познакомились еще в VII-IX вв. благодаря нашествиям арабов и норманнов, накатывала эпидемиями, в том числе и в исследуемый период. Но пик заболеваемости приходится на несколько более поздние времена, на XV-XVII столетия, поэтому здесь об этом говорить не стану.
Зато нельзя не вспомнить, что на помощь трем главным регуляторам демографических процессов подоспел в 1315-1317 годы и четвертый: т.н. «Великий голод», который повлек за собой миллионы смертей, умертвив, по оценкам, от 10 до 25 % только городского населения, не считая крестьян, во всей Северной Европе – на территории нынешних Ирландии, Англии, Франции, Скандинавии, Нидерландов, Германии и Польши. Великий голод возник из-за чрезмерно высокого уровня осадков. Не стало урожаев и кормов для домашних животных. Люди умирали каждый день, бросали или продавали своих детей, нередким стал каннибализм, выросла преступность и подверженность заболеваниям[32].
Невозможно не задуматься о том, что такие масштабные бедствия, как чума и голод, поразившие Европу в первой половине четырнадцатого столетия, – есть своеобразный ответ Природы на демографический пик, обозначившийся к 1300 году. Ведь прямым результатом всего этого стало резкое уменьшение численности населения с 187 до 130 млн человек уже в 1340-1350 годах. Перед нами явно – завершающая страница повести о демографическом подъеме Западной Европы от старта до финиша этого процесса.
* * *
Все названные обстоятельства – традиционные защитные механизмы Природы – «погасили» европейский демографический подъем 1000-1340 гг., израсходовали избыточный человеческий материал. А затем, в 1350-1470 гг., историки наблюдают хотя и прирост населения – но медленный и «стабильно низкий»: всего на 54 млн человек за 120 лет, с 130 до 184 млн, так и не достигнув отметки 1340 года.
Новый заметный подъем и новый переизбыток людских ресурсов возникнет уже после этого. Более заметное увеличение демографического потенциала Европы начнется в 1470 году и ускорится к XVII веку. О том, к чему это привело – мой следующий рассказ.
Тридцатилетняя война
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить новую активацию знакомых нам механизмов регулирования демографического потенциала популяций, случившуюся в XVII веке на волне нового подъема европейской рождаемости. На первом месте, конечно же, хорошо уже знакомый нам механизм номер один. Имя которому в Новое время – Тридцатилетняя война (1618-1648). Если предыдущий подъем рождаемости породил такую форму глобального кровопускания, как Крестовые походы в сочетании с массовой миграцией, то на этот раз колоссальная истребительная бойня разразилась внутри самой Европы, в самом ее центре.
Бывают, казалось бы, войны и не классовые, и не этнические. Яркий, бросающийся в глаза пример – Тридцатилетняя война в Германии: немцы всех сословий сражались по обе стороны линии фронта. Один и тот же этнос, одни и те же классы. Но – разных вероисповеданий, католики против протестантов. Что же, значит, это была война какого-то третьего типа, религиозная война? На первый взгляд, да (именно так ее и трактовали Ф. Шиллер, М. Риттер, Г. Винтер и многие другие видные историки). Но внимательный взгляд этнополитика увидит иное.
Эта ужасная трагедия произошла во многом именно потому, что миграционные возможности растущих числом европейцев, немцев в особенности, оказались резко ограничены. Исключением были испанцы и португальцы, излишек которых массово и планомерно «стекал» в Центральную и Южную Америку, разгружая Иберийский полуостров. А вот оттоку англичан и отчасти французов и голландцев в Новый Свет (Северную Америку) еще только предстояло развернуться. Спустя почти сто тридцать лет после возвращения Колумба английский корабль «Мэйфлауэр», выйдя в 1620 году из английского Плимута, пристал к американским скалам, имея на своем борту всего-навсего сто два переселенца-пилигрима. Они-то и заложили поселение, разросшееся впоследствии до размеров США. Но в тот памятный момент Тридцатилетняя война уже два года как разгоралась, а сколько-нибудь заметный отток англо-саксов – и тем более французов – еще не произошел.
В той войне приняли самое активное участие все окрестные этносы, каждый исключительно в собственных интересах: французы, англичане, шведы, поляки, датчане, голландцы, чехи, итальянцы и даже испанцы нашли для этого силы (периоды войны так и именуются историками: чешско-пфальцский, датский, итальянский, шведский и франко-шведский). В событиях поучаствовали даже русские, поддержавшие шведов деньгами и снабдившие их еще и хлебом (протестанты-шведы противостояли католикам-полякам, и у русских был в том свой интерес).
Однако война велась преимущественно на землях Германии. И основным – перманентным – участником и основной жертвой той войны были немцы, понесшие беспримерные и непомерные демографические убытки. Чтобы понять ее причины, следовательно, необходимо разобраться с немецкой демографией, начиная со Средних веков.
* * *
Средневековая Германия, как и вся Западная Европа, активно росла в демографическом плане. Как уже упоминалось, от середины VII до конца IX в. ее население выросло вдвое: приблизительно с 2 до 4 млн. Значительное число немецкого этноса позволяло ему удерживать немалые территории европейского «Хартленда» и завоевывать или подчинять себе все новые:
«В XII в. в состав Германской империи входили как прежние ее владения, из которых и состояло собственно Германское королевство, – Саксония, Фризия, Тюрингия, Франкония, Швабия, Бавария и Лотарингия, так и вновь захваченные маркграфство Австрия, Штирия, Каринтия, Крайна, а также и область расселения лужицких сорбов между Одером и Эльбой (Лабой). В вассальной зависимости от империи находились Чешское королевство, Ободритское государство (с конца XII в.), также Северная и Средняя Италия (Ломбардия и Тоскана) и Бургундия (с середины XI в.). Кроме того, в течение XIII в. немцы захватили Поморье (между Одером и Вислой), область расселения… племени пруссов (между Нижней Вислой и Неманом), а также владения куров, леттов, эстов и ливов (в бассейне Западной Двины и по берегам Рижского залива до берегов Чудского озера на востоке). В конце XII и первой половине XIII в. империи принадлежало и Сицилийское королевство, состоявшее из Апулии, Калабрии и острова Сицилия». С конца XV в. под немцами, в результате женитьбы эрцгерцога Максимилиана Габсбурга на Марии Бургундской и последущих войн, оказалась также большая часть исторических Нидерландов.
Понятно, что для такой постоянно растущей успешной экспансии и колонизаторства необходимы были очень значительные человеческие ресурсы (а ведь немалую часть их забирали Крестовые походы) – и они у немцев явно были.
Здесь надо внести некоторую концептуальную ясность. У послевоенных политологов вошло в моду отрицать единство немецкого народа и всячески акцентировать субэтнические различия германских племен, его составляющих. Особенно языковые, диалектные. Это не слишком честно, ведь язык – ненадежный этноразграничительный маркер. Лучше полагаться на антропологические и генетические критерии этничности, четко определяющие границы биологического вида, каковым является этнос по своей сути. Новейшие исследования показали, что в реальности немцы – генетически очень гомогенный народ. В книге антрополога Елены и генетика Олега Балановских «Русский генофонд на Русской равнине» есть примечательная таблица «Генетическая гетерогенность русского народа и других народов Евразии»[33]. Вот некоторые коэффициенты из нее в порядке возрастания гетерогенности: англичане = 0,15; немцы = 0,43; русские = 2,0; тофалары = 7,76. Как видим, немцы, хотя и уступают англичанам, все же почти в пять раз генетически гомогеннее, чем русские, и в восемнадцать (!) раз – чем тофалары.
Все познается в сравнении. Все немцы, как утверждает сегодня генетика, весьма гомогенный народ, они все – саксы, фризы, швабы, бавары и пр. – одного германского этнического замеса, одного корня. Хотя определенные различия (как это и водится между субэтносами одного этноса) сохранялись и сохраняются в языке, быту и даже в области права, это не мешало всем германцам понимать себя как сограждан единого «Тевтонского» государства, которые однажды недаром приняло самоназвание «Священной Римской Империи германской нации». Вот эта самая «германская нация», столь убедительно продекларировавшая и продемонстрировавшая свое единство в ХХ веке, и будет рассматриваться здесь в контексте Тридцатилетней войны.
* * *
Если, как говорилось выше, в конце IX века немцев насчитывалось примерно 4 млн. то в конце XV в., даже после Крестовых походов, войн и чумных эпидемий, унесших миллионы жителей, – уже около 16 млн человек, из которых большая часть, примерно 10 млн, проживала во внутренних областях Германии. В целом это была крестьянская страна: свыше 90 % населения проживало на селе; соответственно, социальные процессы, происходившие именно с крестьянством, во многом определяли ее судьбу. Интересно и важно посмотреть, как расходовался человеческий материал в период, предшествовавший Тридцатилетней войне.
В XI-XIV вв. население Германии, как и всего Запада, активно размножалось, демографическое давление росло как в селах, так и в быстро умножающихся в числе городах, куда оттекал избыток сельских жителей. Напомню, что одним из итогов крестовых походов был рост класса «свободных земледельцев», благодаря гарантированному освобождению от крепостной зависимости крестьян, принявших участие в походах. Но: свободный земледелец – это еще не землевладелец. Ведь он свободен, в том числе, и от земли. Это, скорее, будущий горожанин – ремесленник или поденщик, а то и люмпен, а то и мелкий предприниматель, торговец. Походы, таким образом, подтолкнули отделение ремесла от сельского хозяйства, а значит и развитие капитализма в Европе. А это, в свою очередь, повлекло за собой ускоренное раскрестьянивание и рост городского населения.
Города в Германии стали активно множиться уже с конца XI – начала XII в. Парадоксально, но многие князья, опасаясь узурпации власти одним из них (например, герцогом саксонским и баварским Генрихом Львом), основывали города один за другим, надеясь обрести в них опору своей независимости. Однако в силу объективных противоречий с феодальными порядками, города нередко вели открытую борьбу за коммуну и освобождение от сеньориальной власти (Кёльн, Вормс, Майнц, Ульм, Аугсбург и др.), становились островками раннего капитализма, способствуя развитию буржуазных, товарно-денежных отношений в деревне, поставлявшей городам сельскохозяйственную продукцию.
В результате, например, для саксонских феодалов уже с XIII в. стало невыгодным сохранять архаичную систему барщин и оброков, и они начали отпускать своих крепостных крестьян (латов) на волю, но… при этом насильственно лишая этих крестьян, да еще за отступную плату в свою пользу, их наследственных наделов (гуф). В итоге крестьянство в Саксонии разделилось натрое: богатые владельцы нескольких наделов; малоземельные обладатели нескольких моргенов земли; крестьяне, вовсе лишенные земли. Что еще сильнее подтолкнуло развитие сельского капитализма, а следовательно – дальнейшее раскрестьянивание.
На юге и юго-западе Германии положение крестьян было еще хуже в силу, во-первых, традиционного раздела земель между хозяевами, что вело к росту малоземельных хозяйств. А во-вторых, феодалы здесь практиковали издольщину, доходившую до половины урожая, умножали разорительные личные повинности крестьян, ограничивали в свою пользу права крестьян в пользовании общинными лесами, лугами, водами. Это вело не только к росту протестных настроений, но и к бегству крестьян с земли.
Обезземеленные и лично свободные латы отправлялись в разбухающие города или во вновь присоединенные бывшие славянские земли за Эльбой. К началу XIV в. в Германии уже насчитывалось около 3500 городов. Преимущественно мелких, с числом жителей до тысячи человек, в которых, однако, проживала примерно пятая часть населения, составлявшего уже 13-15 млн. человек. Через двести лет их было уже около 5000 – поселений, обладавших городским правом.
Сказанное означает, что неизбежно возникла и стала расти проблема утилизации растущего контингента людей, выдавленных из деревни и еще не нашедших своей судьбы в городах. Что служило естественной базой для роста вооруженных формирований, пригодных для широкомасштабной экспансии, в частности, на славянские земли. Отсюда – рост могущества немецких военно-религиозных орденов: Меченосцев, Тевтонского (читай: Немецкого) и Ливонского, в первую очередь. Причем рыцари на землях восточнее Эльбы, где поначалу было много свободных крестьян-немцев, обеспеченных крупными наделами, стали сгонять крестьян с земли, тем самым увеличивая свои отряды простых пехотинцев-кнехтов, арбалетчиков и т.д.
Таким образом, раскрестьянивание в Германии XIII-XIV вв. набирало обороты, высвобождая значительную социальную энергию. Тем самым готовилась почва как для завоевательных войн, так и для войны гражданской (вначале крестьянской, впоследствии религиозной).
Проследим, как развивались события в указанном направлении.
* * *
Как мы помним, в Германии «дочумного» периода (XI-XIII вв., даже до середины XIV в.) утилизация избыточного человеческого материала осуществлялась преимущественно в военных походах и миграциях, особенно масштабных в рамках Крестовых походов, включая и крестовые походы на славянские земли бодричей и лютичей. В этих некогда славянских княжествах в течение XII-XIII вв. прошла тотальная немецкая ассимиляция и колонизация, на время решившая вопрос о перенаселенности городов и сел Северной Германии. Но затем, едва преодолев последствия чумной пандемии и Великого Голода, немцы вновь оказались перед той же проблемой. Однако эпоха Крестовых походов на Ближний Восток прошла безвозвратно, это уже все понимали. И для немцев остался лишь один путь – Дранг нах Остен: завоевания и колонизация земель, заселенных балтами и восточными славянами. Куда они и обратили свою экспансию в усиленном режиме.
Немецкие крестоносцы повели людские массы теперь уже не на Ближний, а на Славянский Восток – в Пруссию, Литву и на Русь. Значительную роль в этом играла католическая церковь, особенно после того, как в 1186 г. архиепископ Бременский учредил особую должность епископа Восточной Прибалтики, который помимо вдохновления немецких рыцарей на новые завоевания отвечал за христианизацию племен литовских, латышских и эстонских. Энтуазиазма добавляли указания папы Иннокентий III. К 1210 г. Ливония уже оказалась под властью Ордена меченосцев, после чего началось проникновение в Пруссию под знаменами крестового похода (пруссы были язычниками).
Папа и тут не остался в стороне, своей волей направив на помощь меченосцам Тевтонский орден, который был основан в Палестине в 1198 г. и состоял (о чем говорило само название) преимущественно из рыцарей и солдат немецкого происхождения, которым в какой-то момент оказалось тесно в самой Германии. В 1237 г. этот орден слился с Орденом меченосцев. И в том же 1237 году они высадились на крутом берегу Висленского залива (Фриш-Гаф) и стали планомерно отсекать Пруссию от Мазовии, выстраивая опорные крепости – Бальга, Пройсиш-Эйлау, Инстербург, Георгиенбург, Тапиау – чтобы двигаться затем дальше. Литовцы сумели остановить их только на Немане. В 1242 году с немецкой экспансией столкнулись уже Псков и Новгород, и тогда-то и произошла знаменитая битва на Чудском озере. А несколько позднее – менее знаменитая, но более значительная битва 1268 года между русскими и Ливонским орденом в районе города Раковор (ныне в Эстонии), где немецко-датским крестоносцам было нанесено тяжелейшее поражение. Годом позже подобный разгром повторился под стенами Пскова.
Получив отпор у Литвы и Руси, немцы остановили свое продвижение в данном направлении, но зато окончательно колонизировали прибалтийские земли (завоевание Восточной Пруссии Тевтонским орденом завершилось в 80-х годах XIII в., а завоевание Курляндии закончилось еще раньше, в середине XIII в.). А затем, опираясь на вновь основанные ганзейские города, тевтонцы двинулись обратно в сторону Германии вдоль побережья, отсекая поляков от Балтийского моря, выстраивая т.н. «восточный коридор».
Что важно подчеркнуть: на все эти походы, завоевания и удержание покоренных земель у немцев нашлись людские ресурсы. Поначалу они заставляли работать на новых хозяев порабощенных местных крестьян Ливонии и Пруссии. Но непокорные пруссы восставали; последовали два крестовых похода против них в 1233 и 1254 гг., что привело к уничтожению значительной части пруссов, оставшихся же в живых тевтонские рыцари стали насильственно расселять по разным округам Германии. Дело закончилось полным уничтожением либо ассимиляцией этого некогда самого большого и сильного славянского племени; сегодня ни одного прусса на Земле уже не найти. Однако новые немецкие хозяева земли – рыцари-феодалы – нуждались в работниках в своих огромных поместьях. Эти территории стали обильно заселяться соплеменниками-колонистами из Германии, поначалу лично свободными (этих крестьян закрепостят позже, когда власть Ордена укрепится). Но новую родину обрели не только крестьяне. Одни только крупные ганзейские города (Гамбург, Бремен, Росток) насчитывали к началу XVI в. уже более 20 тыс. человек каждый.
Выстроив «восточный коридор» и «заперев» Польшу с юга, востока и севера, тевтонцы затем двинулись в глубь этой страны, перемалывая поляков в своей железной мельнице, отнимая у них земли пядь за пядью. Именно на польских землях была выстроена главная орденская цитадель – Мариенбург (Мальборк). Все это также требовало человеческих ресурсов – и Германия их дала. Немецкие колонии, таким образом, непрерывно прирастали людьми, а демографическое давление в самой метрополии за счет этого стало заметно снижаться.
Все это были типичные этнические войны: немецко-прусская, немецко-литовская, немецко-русская, немецко-мазовская, немецко-польская… (Обобщая, историк имеет право говорить о полуторатысячелетнем германо-славянском противостоянии[34].) И немцы, без всякого сомнения, съели бы поляков без остатка, как съели они пруссов, а до них – ругов, лютичей, бодричей и др., если бы польский король Ягелло не вспомнил о славянском братстве и не призвал на помощь литовцев, русских, чехов и… татар.
На поле между Грюнвальдом и Танненбергом в 1410 году решилась на века судьба немецкого народа, и решили ее три русских (смоленских[35]) полка, поставленные в центре обороны и бестрепетно принявшие на себя самый страшный удар конницы Валленрода. Хребет Тевтонского ордена был сломлен, великий магистр Ульрих фон Юнгенген убит в роковом бою вместе со всем цветом орденского рыцарства, экспансия немцев остановлена, отнятые у поляков земли возвращены, а Орден превратился в вассала польских королей, утверждавших в должности склоняющих перед ними колени великих магистров.
Этнополитический итог произошедшего величайшего события состоял в том, что отныне разбухающий от переизбытка «лишних» людей немецкий народ оказался наглухо заперт в собственных, уже неподвижных, границах.
Немецкая экспансия на славянские земли была надолго остановлена, а между тем с последней трети XV в. примерно до середины XVI в. в Германии происходил демографический и хозяйственный подъем. На рубеже этих веков на большей части Западной Европы установился сравнительно теплый климат, на повышенных урожаях размножился скот, выросло благосостояние крестьян, поднялась рождаемость. Но в результате возник обратный эффект: города Германии снова стали пухнуть от избытка населения, а деревни – голодать из-за этого же.
Не только крестьяне расплодились в Германии без меры. Страна состояла из великого множества больших и малых феодальных владений, светских и церковных: к началу XVI в. в ней насчитывалось 7 князей-курфюрстов, около 70 князей, около 70 аббатов крупнейших монастырей, более 120 графов и близких к ним по статусу феодалов, не говоря о тысячах баронов – владельцах рыцарских замков и угодий. А в те времена плодились одинаково – что крестьяне, что графы и бароны. Принцип же майората, в свое время погнавший под сенью креста безземельных рыцарей в Святую землю, продолжал действовать неукоснительно.
Кончилось это тем, чем только и могло кончиться: вновь размножившиеся сверх меры, но «запертые» в собственной стране немцы бросились с оружием друг на друга[36].
Хотя предварительно необходимо вспомнить, как изначально православные, но насильственно окатоличенные немцами чехи[37] в XIV веке изобрели первый вариант протестантизма и под этим знаменем подняли восстание и развязали многолетние гуситские (таборитские) войны против немцев, в то время бывших ярыми католиками. Так, в религиозной оболочке, развернулась на деле война за национальную независимость чехов от немецкого господства. Она унесла много немецких жизней, ослабила демографическое давление. Но затем пришло время собственно немецко-немецких взаимоистребительных гражданских войн.
Первоначально такое взаимное избиение проходило в рамках классовой борьбы, облаченной в тезисы христианского эгалитаризма. Так, в 1476 г. во владениях епископа Вюрцбургского начались массовые волнения социальных низов из-за проповеди пастуха Ганса Бехайма. Ссылаясь на явление ему Богородицы, Бехайм сулил особый Божий гнев духовным лицам, пророча всем им насильственную гибель. Но главное – он заявлял, что все должны трудиться, а папа, император, князья и рыцари, бюргеры и крестьяне должны быть равны, и никто не должен иметь больше других. Движение было жестко подавлено: самого проповедника изловили, а церковь, где прежде Бехайм пророчествовал из окна, снесли.
В конце XV в. в Эльзасе зародились тайные крестьянские общества «Башмаха», также обосновывавшие классовые требования ссылками на Священное Писание и действовавшие в духе грядущей Реформации. Заговорщики намеревались упразднить власти, разделить между собой имущество части церквей и монастырей, не платить разные церковные поборы, восстановить свободу пользования общинными угодьями. Во главу угла ими ставилось «божественное право». В 1502 г. один из центров «Башмаха», объединявший сотни участников во главе с крестьянином Йосом Фрицем, был раскрыт в шпейерском епископстве. Заговор провалился: нескольких участников казнили, но в 1513 и 1517 гг. Йос Фриц организовал новые заговоры, которые также были подавлены властями.
Наступали явно беспокойные времена: в 1514 г. Вюртемберге вспыхнуло крестьянское восстание, организованное тайным союзом под названием «Бедный Конрад». Восставшие требовали созыва ландтага и участия в нем крестьян. Но к ним примкнули также горожане, недовольные ростом налогов. Движение, естественно, также было подавлено с кровью. Но атмосфера сгущалась.
Всего в 1509-1514 гг. почти по 30 городам Германии прокатились восстания городских низов – предтечи Реформации и религиозных войн: обвинения в адрес клира и церкви звучали со стороны всех слоев общества. В целом же они выражали всеобщее социальное недовольство: городскими законами и налогами, коррупцией и казнокрадством. Конечно, эти ласточки еще не делали весны. Но суть их была в ином: немцы стремительно учились ненавидеть друг друга, желать друг другу смерти, и в скором времени это скажется со страшной силой.
Первое по-настоящему большое кровопускание обернулось жесточайшей Крестьянской войной (1524-1525), в которой полегли несметные крестьянские массы. За ней последовала т.н. Готская война (1567), унесшая избыток горожан и рыцарства.
На какое-то время проблема перенаселения немецких земель оказалась решена. Но к началу XVII века она снова обострилась, поскольку через два-четыре поколения немцев снова расплодилось черезчур много. И тогда понадобилось новое кровопускание, которое длилось тридцать лет (1618-1648) и сократило, по оценкам, на 80-85 % мужское население Германии. Это был истинный ад на земле, чудовищная бойня. Такие земли, как Пфальц, Вюртемберг, Бранденбург, Мекленбург, Померания потеряли до 5/6 своего населения. Излишек рехнувшихся от полового одиночества женщин потом еще долго догорал в кострах инквизиции: под видом одержимых дьяволом ведьм были сожжены десятки тысяч (!) женщин.
Демографический упадок в Германии был таков, что папа римский специальной буллой разрешил на пятнадцать лет немцам-католикам иметь по несколько жен. Это было беспрецедентно – и весьма не по-христиански! Но иначе преодолеть последствия катастрофы, по-видимому, было невозможно, и папа с этим посчитался.
Вопрос о завоевании и порабощении кого-либо немецкой нацией надолго, вплоть до начала двадцатого столетия был снят с повестки дня. Ибо довоенная численность немецкой этнической популяции Германии в 15-16 млн была восстановлена только между 1720 и 1750 гг. А новый демографический подъем ждал немецкий народ в XIX-ХХ вв., что привело к Первой и Второй мировой войне. Но об этом уже подробно рассказывалось выше.
Эта финальная часть моего эссе позволяет «закольцевать» тему влияния этнической демографии (в частности, немецкого народа) на историю Европы и белой расы европеоидов. Тему трагическую и не оставляющую особых надежд и оптимизма на будущее. Возможен ли для белых людей, для русских в частности, новый демографический подъем в грядущем, сможем ли мы выбраться из демографической ямы, как это сделали когда-то немцы, пережившие Тридцатилетнюю войну? Что-то сомнительно. Для этого надо слишком многое менять несообразно нынешним «общеевропейским ценностям». Христиане забыли или отринули Бога, перестали Его бояться, приняли «религию человекопоклонства»… Что же тут поделаешь?
Резюме
Настоящее эссе продемонстрировало читателям ряд достаточно разнообразных и убедительных, на мой взгляд, примеров необоримой мощи этнодемографического фактора, властно изменяющего судьбы мира и его отдельных регионов. Эта мощь может проявляться как в макромасштабах времени и места, на просторах целых континентов и даже глобально, причем иногда в течение столетий, так и в небольших локусах – но характер проявлений будет неизменным независимо от этоих параметров. С этой мощью нельзя не считаться – причем в первую очередь, в обход всех прочих факторов экономики, политики, религии, идеологии и т.п. Этого требуют соображения безопасности, такой подход диктуется элементарным инстинктом самосохранения.
Примеры, подобные вышеприведенным, можно было бы множить и множить, рассказывая о кровавых походах, растянувшихся на века – например, древних персов или эллинов, тюрков или монголов (докатившихся от берегов Керулена и Онона даже до Египта и Индии). Или о массовых переселениях многомиллионных контингентов, например, англичан – в Америку, Австралию, Новую Зеландию, Канаду. Или о грандиозных взаимоистребительных войнах, поглотивших целые народы. Все они имеют одну причину: быстрый и неудержимый рост той или иной этнической популяции, из-за этого становящейся на определенном историческом этапе главным действующим лицом на мировой сцене, главным субъектом, актором – словом, локомотивом истории. Обычно эта роль оформляется заявкой на мировое господство, претензией на место лидера народов, глобального гегемона, чей век, однако, никогда не бессрочен.
Мне показалось важным заострить внимание читателя на данной теме потому, что сегодня мы живем в условиях беспрецедентной переполненности антропосферы, невыносимого демографического давления во многих важных регионах мира и даже на пространствах целых континентов. Что создает огромные угрозы, судя по тому, что мы познали выше на исторических примерах. Это с одной стороны.
С другой – мы, русские, в своей стране России, оказались в ситуации депопуляции, снижения демографического давления ниже допустимого предела. Что, в сочетании с мировым демографическим бумом, создает конкретно для нас смертельно опасное положение вещей, роковой дисбаланс, чреватый такой же гибелью, какую пережили некогда Древний Рим или Византия. Для начала нам следует опасаться того, что все три основных природных регулятора численности биологических популяций – война, миграция и пандемии, которые по заслугам причитаются ныне внешнему миру, – рикошетом ударят по нам. (Случай коронавируса это уже наглядно подтвердил, но и иммиграция инородцев внушает очень большое беспокойство, не говоря о возможности глобальной истребительной войны.)
Мне хотелось бы, чтобы те, от кого зависит безопасность моей страны России и моего русского народа, безотлагательно задумались об этих угрозах и приняли решительные меры для их устранения и/или блокировки. Прежде всего необходимо признать, что мы находимся в состоянии необъявленной расовой войны, ведущейся на всей планете Земля, и исходить в своем целеполагании из этого тревожного факта.
Таков первый вывод настоящего эссе, носящий не только теоретический, но и вполне практический, земной характер.
Второй вывод – ради которого, собственно, все и затевалось, состоит в демонстрации и признании могущества этнодемографического фактора, определяющего судьбы отдельных стран и народов, а в конечном счете – всего мира.
Но есть и третий, побочный, вывод, касающийся более чистой политологической теории, носящий характер идеологический, концептуальный.
Дело в том, что в свое время оригинально мыслящий ученый – историк Лев Гумилёв – открыл явление пассионарности, которое сегодня стало вполне устоявшимся понятием в научном дискурсе. К нему прибегают постоянно как историки, так и обществоведы-политологи, не говоря уж о публицистах. Его уже не надо всем разъяснять и растолковывать как термин – настолько прочно это понятие «прописалось» в общественном сознании, стало расхожим.
Однако Гумилёв, совершив это поистине гениальное открытие, не сумел дать ему конгениального объяснения. В поисках первопричин, обсулавливающих, по его мнению, возникновение и рост пассионарности этносов, «пассионарные толчки», он обращался к каким угодно факторам – от космических (солнечные и иные излучения) до геологических (ядерный распад и соответствующее излучение в недрах Земли) – но только не к тем, которые реально обеспечивают явление пассионарности в действительности.
На взгляд автора этих строк, разгадка – в демографии, которая одна только своим ростом порождает в этносах ощущение неукротимой, безграничной витальной силы, племенного могущества. Вот оно-то и оборачивается в итоге подъемом, а то и взрывом пассионарности.
Конечно, отдельные пассионарные личности могут появляться даже в обществе, охваченном апатией и синдромом дожития или умирания («фаза обскурации», по Гумилёву). Однако не может быть пассионарным народ в целом, если он находится на волне депопуляции. И наоборот, не может не переживать подъема пассионарности народ, идущий на подъем в плане рождаемости детей. Этнодемографический баланс, перепады демографического давления – вот лишь чем объясняется вся гамма этнических взаимоотношений, вот чем определяются победители и побежденные на исторической арене. Мы только что перебрали ряд убедительных примеров на этот счет, хотя можно бы привести и сотни других (из числа нас близко касающихся сегодня: на Западной Украине суммарный коэффициент рождаемости около 1,7, а на Восточной около 1,2, вот и весь секрет пассионарности и оглушительных побед «бандеровцев» над «совками»). Сомневаться не приходится.
Я думаю, что излишние теоретизирования тут не надобны. Ведь «история есть практическая философия, которая учит нас с помощью примеров» (лорд Болингброк). Если кого-то приведенные мной примеры не убедили, рассуждения уже не помогут.
Я начал данное эссе с декларации присяжного детерминиста о признании возможности существования многих причин у любого явления, часть которых может быть очевидна, а часть – скрыта или недостаточно раскрыта. Конечно, у явления пассионарности могут быть и другие причины, помимо названной. Но в каждый конкретный момент лишь одна из причин способна выступать в роли главной, основной. Сегодня я убежден: таковой причиной в данном случае является этнодемографический фактор.
В этом состоит мой заявка на решение проблемы, поставленной, но не решенной Львом Гумилёвым.
Таковы три главных вывода, которые я со всем уважением повергаю на рассмотрение научной общественности.
[1] D. C. Isby. War in a Distant Country: Afghanistan, Invasion and Resistance. London, 1989.
[2] М. Ф. Слинкин. Афганистан: страницы истории (80-90-е гг. XX века). Симферополь, 2003. С. 119-120.
[3] Цитаты даются по изданию: Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс. Дегуманизация искусства. Бесхребетная Испания. – М., АСТ, 2008. Ссылка на страницы дается в конце цитаты в скобках.
[4] Для наших дней эти цифры еще более выразительны: «Разделив тысячелетие на три основных периода демографического развития,.. можно увидеть, что темпы развития в эти периоды весьма несхожи: в первый (с 1000 по 1400 г.) и второй (с 1400 по 1700 г.) периоды население выросло менее чем вдвое, а в третий (с 1700 по 2000 г.) его численность увеличилась почти в шесть раз» (Массимо Ливи Баччи. Демографическая история Европы. – http://www.universalinternetlibrary.ru/book/26323/ogl.shtml).
[5] Ср.: «Не приходится сомневаться, что техника наряду с либеральной демократией произвели на свет массу в количественном смысле» (98).
[6] Ортега-и-Гассет остроумно характеризует свою эпоху как эру «аппаратов и препаратов».
[7] В той Трицатилетней войне немецкая нация потеряла 80-85 % всех своих мужчин.
[8] Вилен Люлечник. Немцы в Америке. – Международный интернет-журнал «Русский Глобус» №12, декабрь 2004. – http://www.russian-globe.com/N34/Lulechnik.NemstuVAmerike1.htm . Следует отметить, что массовая немецкая эмиграция шла не только в Северную, но и в Южную Америку.
[9] Кстати, исключительно антиславянский пафос гитлеровской агрессии ярко демонстрирует тот факт, что следом за захватом Чехословакии в 1938 году и вторжением в 1939 году в Польшу произошел быстрый захват немцами Югославии весной 1941 года. После чего практически все европейские славяне, не входившие в СССР, оказались под немецким владычеством, под тевтонской пятой (Болгария и так уже была сателлитом Германии со времен Берлинского конгресса 1878 г.).
[10] Там же, с. 555-557.
[11] О причинах того, почему они все-таки это сделали, объявив войну Гитлеру, см. мою гипотезу: Севастьянов А.Н. Преступник номер один: Уинстон Черчилль перед судом истории (М., Яуза-Пресс, 2017).
[12] Сифман Р.И. Динамика численности населения России за 1897-1914 гг. // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977.
[13] Ввиду того, что данные взяты из открытых источников в Интернете, давать ссылки на них не вижу смысла.
[14] Наибольшая часть полегла, как известно, на Восточном фронте. – А.С.
[15] http://www.lgz.ru/article/-18-6508-6-05-2015/pravda-o-tsene-pobedy/
[16] https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/total-fertility-rate
[17] https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/01016-20180619ARTFIG00310-les-chiffres-de-l-immigration-en-france.php
[18] Данные Национального института статистики и экономических исследований (Франция).
[19] https://aftershock.news/?q=node/763387&full
[20] https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/in-a-third-of-the-us-more-white-people-are-now-dying-than-being-born/2016/11/29/df671c58-b67d-11e6-b8df-600bd9d38a02_story.html
[21] https://nation-news.ru/643635-akusher-ginekolog-kaminskii-rasskazal-o-demograficheskoi-propasti-na-ukraine
[22] Заяц Д.В., Кошелева А.О. Республика Косово // География, № 2/2001.
[23] Рождаемость в Косово Падает, но Все еще высока. balkaninsight.com, 10-7-2008, проверено 18-8-2018.
[24] Подробно данная тема раскрыта автором здесь: Чечня: документы и факты — Севастьянов Александр Никитич — Политолог, историк, искусствовед (sevastianov.ru)
[25] Наиболее полно причины, приведшие к депортации чеченцев и ингушей, изложены в докладной записке на имя Л. Берии «О положении в районах Чечено-Ингушской АССР», составленной заместителем наркома госбезопасности, комиссаром госбезопасности 2-го ранга Б. Кобуловым по результатам его поездки в октябре 1943 года в Чечено-Ингушетию и датированной 9 ноября 1943 года. С ней можно ознакомиться здесь: https://www.sevastianov.ru/arkhiv/natsionalnoe-protivostoyanie/1498-genotsid-russkikh-v-chechne-s-1990-goda.html
[26] Демография Средних веков – Википедия (wikipedia.org)
[27] Крестовые походы. Видеоурок. Всеобщая история 10 Класс (interneturok.ru)
[28] Должен напомнить, что средневековые болгары и венгры – этнические тюрки, как и собственно турки. Те, другие и третьи пришли в Европу из Азии, с пространств между Алтаем и Китаем. Византийские хроники IX-X вв. так и именовали венгров турками, тюрками. Ассимиляция со славянами ко времени Крестовых походов еще далеко не закончилась. Европейцы были для них все еще «чужими».
[29] Виктор Марценюк. Одиссея пяти армий (https://warspot.ru/18101-odisseya-pyati-armiy). Статья хорошо фундирована, опирается на специальную литературу.
[30] Здесь и далее цит. по: Брандедж Дж. Крестовые походы. Священные войны Средневековья. М., 2011. https://www.litmir.me/br/?b=250876&p=3
[31] http://www.erudition.ru/referat/printref/id.16217_1.html
[32] Henry S. Lucas. The great European Famine of 1315-7. Speculum, Vol. 5, No. 4. (Oct., 1930), pp. 343-377.
[33] Балановская Е.В., Балановский О.П.. Русский генофонд на русской равнине. – М., ООО «Луч», 2007. – С. 126-127.
[34] Уместно напомнить, что в III-IV веках нашей эры славяне занимали почти всю Центральную и Южную Европу, гранича на Западе с территорией нынешней Дании и Гамбурга, на Юге с Византией, на Востоке – с народами Поволжья и Степи. Германцы неуклонно вытесняли и вытеснили, выбили и ассимилировали славян совсем, за исключением лужицких сорбов, но и те за последние полвека сократились едва ли не вдвое.
[35] В то время Смоленск входил в Литовскую Русь и подчинялся князю Витовту.
[36] Так лесной пожар, встретив неодолимое препятствие (например, широкую реку), обращается вспять и «встречным палом» уничтожает, гасит сам себя.
[37] В лице Яна Гуса и пражских профессоров.