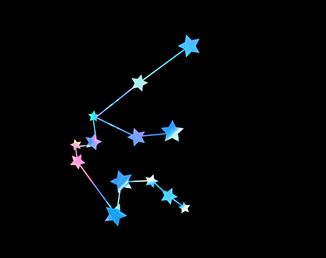ØÊÎËÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀ
ÂÛÏÓÑÊ 11. Í È ÍÍ Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ ÐÅ×È (â íàðå÷èÿõ, ñóùåñòâèòåëüíûõ, ãëàãîëàõ è ñëîæíûõ ñëîâàõ)
 îäèííàäöàòîì âûïóñêå ïðîåêòà øåñòü ðàçäåëîâ
Ïåðâûé (áàçèñíûé) óðîâåíü
Ðàçäåë 1. Í è ÍÍ â íàðå÷èÿõ íà Î/Å
Ðàçäåë 2. Í è ÍÍ â ñóùåñòâèòåëüíûõ
Ðàçäåë 3. Í è ÍÍ â ãëàãîëàõ
Âòîðîé óðîâåíü
Ðàçäåë 4. Äîïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàë ïî òåìå «Í è ÍÍ â ñóùåñòâèòåëüíûõ»
Ðàçäåë 5. Í è ÍÍ â ñëîæíûõ ñëîâàõ
Ðàçäåë 6. Âîïðîñû íà ôîðóìàõ ðóññêîãî ÿçûêà
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÂÛÏÓÑÊÀ «Í È ÍÍ Â ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ×ÀÑÒßÕ ÐÅ×È»
ÐÀÇÄÅË 1. Í È ÍÍ Â ÍÀÐÅ×ÈßÕ ÍÀ Î/Å, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÕ ÎÒ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ
Òåìà 1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
Òåìà 2. Ñîõðàíåíèå Í è ÍÍ ïðè îáðàçîâàíèè íàðå÷èé îò ïðèëàãàòåëüíûõ
ÐÀÇÄÅË 2. Í È ÍÍ Â ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ
Òåìà 1. Ñóùåñòâèòåëüíûå, îáðàçîâàííûå îò ïðèëàãàòåëüíûõ
Òåìà 2. Ñóùåñòâèòåëüíûå, îáðàçîâàííûå îò ñóùåñòâèòåëüíûõ è ãëàãîëîâ
ÐÀÇÄÅË 3. Í È ÍÍ Â ÃËÀÃÎËÀÕ
Òåìà 1. Îäíà áóêâà Í
Òåìà 2. Äâå áóêâû ÍÍ
ÂÒÎÐÎÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
ÐÀÇÄÅË 4. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÏÎ ÒÅÌÅ «Í È ÍÍ Â ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ»
Òåìà 1. Ñóôôèêñû ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ îäíîé áóêâîé Í
Òåìà 2. Ñëîâàðíûå è ïàðíûå âàðèàíòû
ÐÀÇÄÅË 5. Í È ÍÍ Â ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂÀÕ
Òåìà 1. Ñëîæíûå ïðèëàãàòåëüíûå è íàðå÷èÿ ñ äåôèñíûì íàïèñàíèåì
Òåìà 2. Ñëîæíûå ñëîâà ñî ñëèòíûì íàïèñàíèåì
Òåìà 3. Ñëîæíûå ñëîâà, îáðàçîâàííûå îò äðóãèõ ñëîæíûõ ñëîâ
Òåìà 4. Ñëîâàðíûå è ïàðíûå âàðèàíòû
ÐÀÇÄÅË 6. ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀ ÔÎÐÓÌÀÕ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
ØÊÎËÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÈÑÜÌÀ, ÓÐÎÊ 11
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÒÅÌÓ
1. ÍÅÈÇÓ×ÅÍÍÀß ÑÒÐÀÍÀ
Âûáîð Í èëè ÍÍ â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ ðå÷è ïðàêòè÷åñêè íå èçó÷àåòñÿ â øêîëüíûõ ó÷åáíèêàõ, çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ ñâåäåíèé ïî íåêîòîðûì òåìàì. Òåì íå ìåíåå, âîïðîñû íàïèñàíèÿ Í è ÍÍ ïîñòîÿííî âîçíèêàþò è òðåáóþò ðåøåíèÿ.
2. ÒÎÃÄÀ ÁÓÄÅÌ ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÀÌÈ
 äàííîì âûïóñêå äàåòñÿ ðàçâåðíóòûé ìàòåðèàë, ñâÿçàííûé ñ àíàëèçîì ñïîñîáîâ ñëîâîîáðàçîâàíèÿ, à òàêæå èñïîëüçóåìûõ ñóôôèêñîâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîãî áàçèñà äëÿ ðåøåíèÿ áîëüøèíñòâà îðôîãðàìì èñïîëüçóþòñÿ çíàíèÿ ïðåäûäóùåé òåìû «Í è ÍÍ â ïðèëàãàòåëüíûõ è ïðè÷àñòèÿõ».
ÐÀÇÄÅË 1. Í È ÍÍ Â ÍÀÐÅ×ÈßÕ ÍÀ Î/Å, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÕ ÎÒ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ
Òåìà 1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
Òåìà 2. Ñîõðàíåíèå Í è ÍÍ ïðè îáðàçîâàíèè íàðå÷èé îò ïðèëàãàòåëüíûõ
ÒÅÌÀ 1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
Íàðå÷èå ýòî íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü ðå÷è, îáîçíà÷àþùàÿ ïðèçíàê äåéñòâèÿ èëè äðóãîãî ïðèçíàêà: æåëàòü ïëàìåííî, ÷èñëåííî ïðåâîñõîäÿùèé.
Íàðå÷èÿ íà Î/Å îòíîñÿòñÿ ê ãðóïïå îïðåäåëèòåëüíûõ, èëè ïðèçíàêîâûõ, íàðå÷èé è îáðàçóþòñÿ îò ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ïðèëàãàòåëüíûõ ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ Î/Å: ìåäëåííûé ìåäëåííî, èñêðåííèé èñêðåííå.
Òîëüêî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî íàðå÷èé íà Î/Å îáðàçóåòñÿ îò ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÛÕ ïðèëàãàòåëüíûõ, â ýòîì ñëó÷àå îíè îáû÷íî èìåþò çíà÷åíèå îáëàñòè ïðîÿâëåíèÿ ïðèçíàêà: æèçíåííî âàæíûé, òî åñòü âàæíûé äëÿ æèçíè.
2. ÎÁÙÈÉ ÏÐÈÍÖÈÏ ÐÅØÅÍÈß
Íàðå÷èÿ íà Î/Å îáðàçóþòñÿ îò ïðèëàãàòåëüíûõ ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ íà ãëàñíóþ Î/Å, ïîýòîìó êîëè÷åñòâî Í â íàðå÷èè ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ êîëè÷åñòâó Í â îñíîâå èñõîäíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî.
Òàêèì îáðàçîì, ðåøåíèå äàííîé îðôîãðàììû äëÿ íàðå÷èé çàâèñèò îò ïðàâèëüíîãî âûáîðà Í è äâóõ ÍÍ â èñõîäíîì ïðèëàãàòåëüíîì.
ÒÅÌÀ 2. ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ Í È ÍÍ ÏÐÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÍÀÐÅ×ÈÉ ÎÒ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ
1. ÍÀÐÅ×Èß, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÅ ÎÒ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ Ñ ÎÑÍÎÂÎÉ ÍÀ Í
 íàðå÷èÿõ, îáðàçîâàííûõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà Í, ñîõðàíÿåòñÿ îäíà áóêâà Í:
ðüÿíûé ðüÿíî, çåë¸íûé ìîëîäî-çåëåíî íåïðîèçâîäíûå ïðèëàãàòåëüíûå; åäèíûé âîåäèíî îòûì¸ííûå ïðèëàãàòåëüíûå;
áåøåíûé áåøåíî, ïóòàíûé ïóòàíî îòãëàãîëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Íèêòî òàê ðüÿíî íå ó÷èò äðóãèõ æèçíè, êàê òîò, êîãî îíà òàê íè÷åìó è íå íàó÷èëà.
Áèáëèîòåêà õðàì ìûñëåé, ñîáðàííûõ âîåäèíî.
Ëàþò áåøåíî ñîáàêè â çàòóõàþùóþ äàëü.
Ãóê èíîãäà âûñêàçûâàë ñõîäíûå èäåè, íî ïóòàíî è áåçäîêàçàòåëüíî.
2. ÍÀÐÅ×Èß, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÅ ÎÒ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ Ñ ÎÑÍÎÂÎÉ ÍÀ ÍÍ
 íàðå÷èÿõ, îáðàçîâàííûõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà äâå ÍÍ, ñîõðàíÿþòñÿ äâå áóêâû Í:
íå÷àÿííûé íå÷àÿííî, íåñëûõàííûé íåñëûõàííî, íàäìåííûé íàäìåííî íåïðîèçâîäíûå ïðèëàãàòåëüíûå;
÷èñëåííûé ÷èñëåííî, âðåìåííûé âðåìåííî, æèçíåííûé æèçíåííî îòûìåííûå ïðèëàãàòåëüíûå;
âîñõèùåííûé âîñõèùåííî, óäèâëåííûé óäèâëåííî îòãëàãîëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Òàê äóíîâåíüÿ áóðü çåìíûõ è íàñ íå÷àÿííî êàñàëèñü.
 äíè íåñëûõàííî áîëåâûå áûòü áåç ñåðäöà ìå÷òà.
Òû ñèëó ñîáñòâåííîé äóøè áåññèëüåì èõ íàäìåííî ìåðèë.
Ðóññêàÿ àðìèÿ ÷èñëåííî óñòóïàëà íàïîëåîíîâñêîé àðìèè.
Ïóøêèí âîñòîðæåííî îòçûâàëñÿ î Ñåìåíîâîé.
Òû òîëüêî âðåìåííî óñíóë, ïðîñíèñü: ãðîìè ïîðîêè ñìåëî.
Áåññìûñëåííî ìîëèòü î ÷åì-òî Áîãà, ïîòåðÿí ïóòü, çàòîïòàíà äîðîãà.
Òû ïðèäåøü íåãàäàííî, íåæäàííî.
«Äà, ñêàçàë Ëåâèí ìåäëåííî è âçâîëíîâàííî. Òû ïðàâ, ÿ äèê».
ÐÀÇÄÅË 2. Í È ÍÍ Â ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ
Òåìà 1. Ñóùåñòâèòåëüíûå, îáðàçîâàííûå îò ïðèëàãàòåëüíûõ
Òåìà 2. Ñóùåñòâèòåëüíûå, îáðàçîâàííûå îò ñóùåñòâèòåëüíûõ è ãëàãîëîâ
ÒÅÌÀ 1. ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÅ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÅ ÎÒ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ
1. ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
Ïðè îáðàçîâàíèè ñóùåñòâèòåëüíûõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþòñÿ ñóôôèêñû ÈÊ/ÈÖ, ÅÖ è ÎÑÒÜ, êîòîðûå íà÷èíàþòñÿ íà ã ë à ñ í ó þ, ïîýòîìó â ñóùåñòâèòåëüíûõ ñîõðàíÿåòñÿ Í èëè ÍÍ îñíîâû ïðèëàãàòåëüíîãî.
2. ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í
Îäíà áóêâà Í ïèøåòñÿ â ñóùåñòâèòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà Í ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ ÈÊ/ÈÖ, ÅÖ, ÎÑÒÜ:
âàð¸íûé âàðåíèê, âåòðåíûé âåòðåíèê ñóôôèêñ ÈÊ;
ìàñëåíûé Ìàñëåíèöà, ãîñòèíûé ãîñòèíèöà ñóôôèêñ ÈÖ;
êîï÷åíûé êîï÷åíîñòè, ïðÿíûé ïðÿíîñòü, þíûé þíîñòü ñóôôèêñ ÎÑÒÜ;
ðóìÿíûé ðóìÿíåö, áàãðÿíûé áàãðÿíåö, þíûé þíåö ñóôôèêñ ÅÖ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Âàðåíèêè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü òðàäèöèîííûì óêðàèíñêèì áëþäîì, íî åãî êîðíè óõîäÿò â òóðåöêóþ êóõíþ.
Íàø ãîðîä þíûé âåòðåíèê ãëÿäèò íà íàñ ñ óõìûëî÷êîé.
Ñ ïðèíÿòèåì íà Ðóñè õðèñòèàíñòâà ïîÿâèëèñü íîâûå öåðêîâíûå ïðàçäíèêè, íî Ìàñëåíèöà ïðîäîëæàëà æèòü.
Íàøà þíîñòü íåçàìåòíî ì÷èòñÿ, íè ïóòåé, íè ïðîéäåííûõ äîðîã.
 äðåâíåì Ðèìå ðàñõîäû íà ïðÿíîñòè áûëè îäíîé èç îñíîâíûõ ñòàòåé áþäæåòà.
Ñòðóèë çàêàò ïîñëåäíèé ñâîé áàãðÿíåö.
Ïå÷àëüíûé ðóìÿíåö çàêàòà ãëÿäèò ñêâîçü êóäðÿâûå åëè.
3. ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ
Äâå áóêâû ÍÍ ïèøåòñÿ â ñóùåñòâèòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ è ïðè÷àñòèé ñ îñíîâîé íà ÍÍ ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ ÈÊ/ÈÖ, ÎÑÒÜ:
óòðåííèé óòðåííèê, ðîäñòâåííûé ðîäñòâåííèê, ñîâðåìåííûé ñîâðåìåííèê , èçáðàííûé èçáðàííèê, èçãíàííûé èçãíàííèê ñóôôèêñ ÈÊ;
ëèñòâåííûé ëèñòâåííèöà, æåìàííûé æåìàííèöà ñóôôèêñ ÈÖ;
ãóìàííûé ãóìàííîñòü, ñòðàííûé ñòðàííîñòü ñóôôèêñ ÎÑÒÜ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Ãîãîëü åäâà ëè íå ãëóáæå âñåõ ñîâðåìåííèêîâ Ïóøêèíà ïîíèìàë çíà÷åíèå åãî ïîýçèè.
Íåò, ÿ íå Áàéðîí, ÿ äðóãîé, åùå íåâåäîìûé èçáðàííèê, êàê îí, ãîíèìûé ìèðîì ñòðàííèê, íî òîëüêî ñ ðóññêîþ äóøîé.
È ñ òîé ïîðû, èçãíàííèê áåäíûé, îäíîé íàäåæäîé ÿ æèâó.
Æåìàííèöû áûëûõ ãîäîâ, ÷èòàòåëüíèöû Ðè÷àðäñîíà!
Èç äàë¸êèõ îðåíáóðãñêèõ ñòåïåé ïðèâåç îí ìîëîäóþ ëèñòâåííèöó è ïîñàäèë ïåðåä äîìîì.
Äà, ñëåäóåò îòìåòèòü ïåðâóþ ñòðàííîñòü ýòîãî ñòðàøíîãî ìàéñêîãî âå÷åðà.
ÒÅÌÀ 2. ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÅ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÅ ÎÒ ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ È ÃËÀÃÎËÎÂ
1. Ãðàììàòè÷åñêàÿ ñïðàâêà (ïðîñòûå è ñëîæíûå ñóôôèêñû)
2. Ñëîæíûå ñóôôèêñû ïðè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîì àíàëèçå
3. Ðåøåíèå îðôîãðàììû ñ ïðèìåíåíèåì ñëîæíûõ ñóôôèêñîâ
1. ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ (ÏÐÎÑÒÛÅ È ÑËÎÆÍÛÅ ÑÓÔÔÈÊÑÛ)
Ñëîæíûå (ïðîèçâîäíûå) ñóôôèêñû òàêæå íàçûâàþò ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûìè ÅÄÈÍÈÖÀÌÈ, èëè ÔÎÐÌÀÍÒÀÌÈ ýòè ïîíÿòèÿ èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîì àíàëèçå. Ñëîæíûå ñóôôèêñû ïðîòèâîïîñòàâëåíû ïðîñòûì (ýëåìåíòàðíûì) ñóôôèêñàì, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ ïðè ðàçáîðå ñëîâà ïî ñîñòàâó.
Ïðè îáðàçîâàíèè ñóùåñòâèòåëüíûõ îò äðóãèõ ñóùåñòâèòåëüíûõ èëè ãëàãîëîâ îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ ñëîæíûå ñóôôèêñû ÍÈÊ/ÍÈÖ, ÀÍÈÊ/ßÍÈÊ, ÅÍÈÊ/ÅÍÍÈÊ, ÅÍÍÎÑÒÜ:
ñîí ñîíÍÈÊ, èìåíèíû èìåíèíÍÈÖà ñóôôèêñû ÍÈÊ/ÍÈÖ, óäâîåíèå ÍÍ íà ñòûêå îñíîâû íà Í è ñóôôèêñîâ ÍÈÊ/ÍÈÖ;
îëüõà îëüøÀÍÈÊ, òîðô òîðôßÍÈÊ ñóôôèêñ ÀÍÈÊ/ßÍÈÊ;
òðóäèòüñÿ òðóæÅÍÈÊ, ïóòåøåñòâîâàòü ïóòåøåñòâÅÍÍÈÊ ñóôôèêñû ÅÍÈÊ è ÅÍÍÈÊ;
÷èñëî ÷èñëÅÍÍÎÑÒÜ ñóôôèêñ ÅÍÍÎÑÒÜ.
Ýòè ñëîæíûå ñóôôèêñû ôîðìàëüíî ñîñòîÿò èç ñóôôèêñà îòãëàãîëüíîãî èëè îòûìåííîãî ïðèëàãàòåëüíîãî Í, ÀÍ/ßÍ, ÅÍ èëè ÅÍÍ è ñóôôèêñà ñóùåñòâèòåëüíîãî ÈÊ/ÈÖ /ÅÖ èëè ÎÑÒÜ.
2. ÑËÎÆÍÛÅ ÑÓÔÔÈÊÑÛ ÏÐÈ ÑËÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÀÍÀËÈÇÅ
(1) ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÌÍÎÃÈÕ ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÎÆÍÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ÄÂÓÌß ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ
Ê ïðèìåðó, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ñóùåñòâèòåëüíîå ÇÅÌËßÍÈÊÀ îáðàçîâàíî îò îòûìåííîãî ïðèëàãàòåëüíîãî ÇÅÌËßÍÎÉ ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà ÈÊ èëè îò ñóùåñòâèòåëüíîãî ÇÅÌËß ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà ßÍÈÊ, ïðè ýòîì ðåøåíèå îðôîãðàììû (òî åñòü âûáîð îäíîé áóêâû Í â ñëîâå çåìëÿíèêà) íå èçìåíèòñÿ.
Äðóãîé ïðèìåð: ìîæíî ðàññìàòðèâàòü äâà âàðèàíòà îáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâèòåëüíîãî ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ: îò ïðè÷àñòèÿ ÄÎÂÅÐÅÍÍÛÉ ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñà ÎÑÒÜ èëè îò ãëàãîëà ÄÎÂÅÐÈÒÜ ñ ïîìîùüþ ñëîæíîãî ñóôôèêñà ÅÍÍÎÑÒÜ.
(2) ÔÎÐÌÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (íàíèçûâàíèå ñóôôèêñîâ íà îñíîâó)
Ñ ó÷åòîì ñêàçàííîãî äëÿ ðåøåíèÿ îðôîãðàììû óäîáíî âûáðàòü áîëåå ïðîñòîé ÔÎÐÌÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ îáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ îò îòûìåííûõ è îòãëàãîëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ, õîòÿ ïî çíà÷åíèþ ýòè ñóùåñòâèòåëüíûå ìîãóò áûòü ìîòèâèðîâàíû ãëàãîëàìè è ñóùåñòâèòåëüíûìè.
(3) ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÏÎËÜÇÓÅÌÑß ÑËÎÆÍÛÌÈ ÑÓÔÔÈÊÑÀÌÈ
Àíàëèç ñëîæíûõ ñóôôèêñîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü äëÿ òåõ âàðèàíòîâ, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü çàòðóäíåíèå ïðè ôîðìàëüíîì ðåøåíèè.
3. ÐÅØÅÍÈÅ ÎÐÔÎÃÐÀÌÌÛ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÑËÎÆÍÛÕ ÑÓÔÔÈÊÑÎÂ
(1) ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÅ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÅ ÎÒ ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ
ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í, ÑËÎÆÍÛÉ ÑÓÔÔÈÊÑ ÀÍÈÊ/ßÍÈÊ
 ñëîæíîì ñóôôèêñå ÀÍÈÊ/ßÍÈÊ ïèøåòñÿ îäíà Í, òàê êàê îí ÿâëÿåòñÿ ñóììîé îòûìåííîãî ñóôôèêñà ÀÍ/ßÍ ñ îäíîé Í è ñóôôèêñà ÈÊ: îëüõà îëüøàíèê, òîðô òîðôÿíèê, äîñêà äîùàíèê, çåìëÿ çåìëÿíèêà ñëîæíûé ñóôôèêñ ÀÍÈÊ/ßÍÈÊ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Î âñåõ óøåäøèõ ãðåçèò êîíîïëÿíèê.
Óëûáêà âå÷åðà íàä íèçêîé áàõðîìîé òóìàííî-ãëàäêèõ òó÷ àëååò ñêâîçü îëüøàíèê.
Âîäà ïîíåìíîãó íàáèðàëàñü â äîùàíèê.
ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ, ÑËÎÆÍÛÉ ÑÓÔÔÈÊÑ ÍÈÊ/ÍÈÖ
Äâå áóêâû ÍÍ ïèøåòñÿ â ñóùåñòâèòåëüíûõ, åñëè ïðîèñõîäèò óäâîåíèå ÍÍ íà ñòûêå îñíîâû íà Í è ñëîæíîãî ñóôôèêñà ÍÈÊ/ÍÈÖ, êîòîðûé ñîñòîèò èç ñóôôèêñà ïðèëàãàòåëüíîãî Í è ñóôôèêñà ñóùåñòâèòåëüíîãî ÈÊ/ÈÖ:
ìàëèíà ìàëèíÍÈÊ, îñèíà îñèíÍÈÊ, ñòðàíà ñòðàíÍÈÊ, èçìåíà èçìåíÍÈÊ îñíîâà íà Í + ñóôôèêñ ÍÈÊ;
ñîí áåññîíÍÈÖà, çâîí çâîíÍÈÖà, ïîëåíî ïîëåíÍÈÖà, ïðèäàíîå áåñïðèäàíÍÈÖà îñíîâà íà Í + ñóôôèêñ ÍÈÖ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Òàì, â ìàëèííèêå äèêîì, ãóñòîì è âûñîêîì, ìû, ìàëèíó ñðûâàÿ, ñ òîáîé ïîòåðÿëèñü.
Äàâíî â îñèííèêå ãóñòîì ðîñîé îòïëàêàëè êóêóøêè.
ß íå ñòîðîííèê èìïðîâèçàöèé íà ñöåíå.
Ñòàíäàðòíàÿ ïîëåííèöà êëåíîâûõ ãîòîâûõ äðîâ ÷åðíåëà ïðåäî ìíîé.
Ñîôèéñêàÿ çâîííÈöà âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ â ëåòîïèñè XV âåêå.
Òû îïÿòü, îïÿòü ñî ìíîé, áåññîííèöà.
(2) ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÅ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÅ ÎÒ ÃËÀÃÎËÎÂ
ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í, ÑÓÔÔÈÊÑ ÅÍÈÊ/ÅÍÈÖ
Îäíà áóêâà Í ïèøåòñÿ â ñóùåñòâèòåëüíûõ ñî ñëîæíûìè ñóôôèêñàìè ÅÍÈÊ/ÅÍÈÖ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñóììîé îòãëàãîëüíîãî ñóôôèêñà ÅÍ è ñóôôèêñîâ ñóùåñòâèòåëüíûõ ÈÊ/ÈÖ (ñóôôèêñ ÅÍ â ýòîì ñëó÷àå èìååò çíà÷åíèå ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ ÄÅÉÑÒÂÈß è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïðèëàãàòåëüíûõ îò ãëàãîëîâ, íå èìåþùèõ 4-õ ïðèçíàêîâ):
ìó÷èòü ìó÷ÅÍÈÊ, ìó÷åíèöà, òðóäèòüñÿ òðóæÅÍÈÊ, òðóæåíèöà, ó÷èòü ó÷ÅÍÈÊ, ó÷åÍÈÖà ñëîæíûå ñóôôèêñû ÅÍÈÊ/ÅÍÈÖ.
Ôîðìàëüíàÿ öåïî÷êà: ìó÷èòü ìó÷ÅÍûé ìó÷ÅÍÈÊ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
 1991 ãîäó Õðàì Íèêèòû Ìó÷åíèêà áûë ïåðåäàí Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Ñóäüáà òðóæåíèêà âîëíîâàëà Íåêðàñîâà, îí ãîðÿ÷î ñî÷óâñòâîâàë íàðîäó.
(2) ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ, ÑÓÔÔÈÊÑ ÅÍÍÈÊ/ÅÍÍÈÖ
Äâå áóêâû ÍÍ, ïèøóòñÿ â ñóùåñòâèòåëüíûõ ñî ñëîæíûìè ñóôôèêñàìè ÅÍÍÈÊ/ÅÍÍÈÖ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñóììîé îòãëàãîëüíîãî ñóôôèêñà ÅÍÍ è ñóôôèêñîâ ñóùåñòâèòåëüíûõ ÈÊ/ÈÖ (ñóôôèêñ ÅÍÍ â ýòîì ñëó÷àå èìååò çíà÷åíèå ÎÁÙÅÃÎ ÎÒÍÎØÅÍÈß ê äåéñòâèþ):
ïóòåøåñòâîâàòü ïóòåøåñòâÅÍÍÈÊ, ïðåäøåñòâîâàòü ïðåäøåñòâÅÍÍÈÊ ñëîæíûå ñóôôèêñû ÅÍÍÈÊ/ÅÍÍÈÖ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Âûäàþùèìñÿ ïóòåøåñòâåííèêîì äðåâíîñòè áûë Ãåðîäîò.
Êðîìå Äîñòîåâñêîãî, îáðàç Ïåòåðáóðãà ñîçäàâàëè è åãî ïðåäøåñòâåííèêè Ïóøêèí, Ãîãîëü, Íåêðàñîâ.
ÐÀÇÄÅË 3. Í È ÍÍ Â ÃËÀÃÎËÀÕ
Òåìà 1. Îäíà áóêâà Í
Òåìà2. Äâå áóêâû ÍÍ
Âûáîð Í è ÍÍ â ãëàãîëàõ çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà Í â îñíîâå èñõîäíîãî ñëîâà, à òàêæå îò íàëè÷èÿ Í â ñóôôèêñå, êîòîðûé áûë èñïîëüçîâàí äëÿ îáðàçîâàíèÿ ãëàãîëà.
1. ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í
Îäíà áóêâà Í ïèøåòñÿ â ãëàãîëàõ, îáðàçîâàííûõ îò ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà Í ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ ÍÀ ÃËÀÑÍÓÞ:
áþëëåòåíü áþëëåòåíÈòü, âèòàìèí âèòàìèíÈÇÈÐÎÂÀòü, áåòîí áåòîíÈÐÎÂÀòü Í â îñíîâå + ñóôôèêñû íà ãëàñíóþ È, ÈÐÎÂÀ, ÈÇÈÐÎÂÀ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Èäåÿ âèòàìèíèçèðîâàòü ïðîäóêòû ïèòàíèÿ âîçíèêëà â 1934 ãîäó.
Îñòàåòñÿ âîïðîñ, áåòîíèðîâàòü ëè äîðîãè íà ìåñòå èëè èñïîëüçîâàòü ñáîðíûå êîíñòðóêöèè.
2. ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ
(1) ÃËÀÃÎËÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÛ ÎÒ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ (ÑÓÔÔÈÊÑ È×À)
Äâå áóêâû ÍÍ ïèøóòñÿ â ãëàãîëàõ, îáðàçîâàííûõ îò ïðèëàãàòåëüíûõ ñ îñíîâîé íà ÍÍ è ñóôôèêñîì íà ãëàñíóþ È×À:
îòêðîâåííûé îòêðîâåííÈ×Àòü, æåìàííûé æåìàííÈ×Àòü îñíîâà íà ÍÍ + ñóôôèêñ È×À.
(2) ÃËÀÃÎËÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÛ ÎÒ ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ (ÑÓÔÔÈÊÑ ÍÈ×À)
Ïðè îáðàçîâàíèè ãëàãîëîâ îò ñóùåñòâèòåëüíûõ èñïîëüçóåòñÿ ñëîæíûé ñóôôèêñ ÍÈ×À; åñëè ïðè ýòîì îñíîâà ñóùåñòâèòåëüíîãî çàêàí÷èâàåòñÿ íà Í, òî ïðîèñõîäèò óäâîåíèå ÍÍ íà ñòûêå îñíîâû è ñóôôèêñà: îáåçüÿíà îáåçüÿíÍÈ×Àòü îñíîâà íà ÍÍ + ñóôôèêñ ÍÈ×À.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Âåñíà çàñòàâèò îòêðîâåííè÷àòü ïðîõîæèõ.
Äàìû, ïðàâäà, òàê çàáàâíî æåìàííè÷àëè.
Îáåçüÿíû âñåãäà ñëàâèëèñü ñâîåé ñïîñîáíîñòüþ «îáåçüÿííè÷àòü», òî åñòü ïîâòîðÿòü ÷óæèå äåéñòâèÿ.
ÂÒÎÐÎÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Ðàçäåë 4. Äîïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàë ïî òåìå «Í è ÍÍ â ñóùåñòâèòåëüíûõ»
Ðàçäåë 5. Í è ÍÍ â ñëîæíûõ ñëîâàõ
Ðàçäåë 6. Âîïðîñû íà ôîðóìàõ ðóññêîãî ÿçûêà
ÐÀÇÄÅË 4. ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÏÎ ÒÅÌÅ «Í È ÍÍ Â ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ»
Òåìà 1. Ñóôôèêñû ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ îäíîé áóêâîé Í
Òåìà 2. Ñëîâàðíûå è ïàðíûå âàðèàíòû
ÒÅÌÀ 1. ÑÓÔÔÈÊÑÛ ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ Ñ ÎÄÍÎÉ ÁÓÊÂÎÉ Í
Êðîìå ðàññìîòðåííûõ âàðèàíòîâ ñî ñëîæíûìè ñóôôèêñàìè, ñóùåñòâóþò ïðîñòûå ñóôôèêñû, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò îäíà áóêâà Í.
1. ÑÓÔÔÈÊÑÛ ÍÈ, ÀÍÈ, ÅÍÈ
Ñóôôèêñû ÍÈ, ÀÍÈ, ÅÍÈ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâèòåëüíûõ îò ãëàãîëîâ:
ïåòü ïåíèå, çâàòü çâàíèå, íàñåëÿòü íàñåëåíèå, î÷åðòèòü î÷åðòàíèå ñóôôèêñû ÍÈ, ÀÍÈ, ÅÍÈ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Âîçíèêàþò â âîîáðàæåíèè óãðþìûå î÷åðòàíèÿ ñêàë è îáðûâîâ.
Ëþäè õîëîïñêîãî çâàíèÿ ñóùèå ïñû èíîãäà: ÷åì òÿæåëåé íàêàçàíèå, òåì èì ìèëåé ãîñïîäà.
2. ÑÓÔÔÈÊÑÛ ÀÍÈÍ/ßÍÈÍ, ÀÍÅÖ
Ñóôôèêñû ñóôôèêñ ÀÍÈÍ/ßÍÈÍ è ñóôôèêñ ÀÍÅÖ èìåþò çíà÷åíèå ëèöà:
Àíãëèÿ àíãëè÷àíèí, ñåìüÿ ñåìüÿíèí, Àôðèêà àôðèêàíåö ñóôôèêñû ÀÍÈÍ/ßÍÈÍ è ÀÍÅÖ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Ïðîñòîé è äîáðûé ñåìüÿíèí, ÷èíîâíèê íåïðîäàæíûé, îí íàæèë òîëüêî äîì îäèí íî äîì ïÿòèýòàæíûé.
3. ÑÓÔÔÈÊÑÛ ÎÍÎÅ/¨ÍÎÊ
Ñóôôèêñ ÎÍÎÊ/¨ÍÎÊ èìååò çíà÷åíèå íåâçðîñëîãî ëèöà èëè æèâîòíîãî: æåðåá¸íîê, ìåäâåæîíîê, öûãàíåíîê, òàòàð÷îíîê.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Öûãàí¸íîê ýòîò áûë þðêèì, ñèëüíûì è ñìûøëåíûì.
È æåðåá¸íîê âñþ äîðîãó çà íèìè âåñåëî áåæàë.
ÒÅÌÀ 2. ÑËÎÂÀÐÍÛÅ È ÏÀÐÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÏÎ ÒÅÌÅ «Í È ÍÍ Â ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ»
1. ÍÅÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ ÑËÎÂÀ
âåðåíèöà ïðîèñõîäèò îò âåðåíü (ðÿä), ñðàâíèòü: âåðåâêà, âåðèãè îäíà áóêâà Í.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Âåðåíèöû îãíåé, õîðîâîäû îãíåé, òàåò â äûìêå ñîñòàâ íàì îòïóùåííûõ äíåé.
2. ÅÄÈÍÈ×ÍÛÅ ÑÓÔÔÈÊÑÛ
Êðóïà êðóïåíÈê ñóôôèêñ ÅÍÈÊ, ïåðåãëàñîâêà ñóôôèêñà ßÍÈÊ.
Ïòèöà ïòåíåö, ïåðâûé ïåðâåíåö, ñâîÿê ñâîÿ÷åíèöà ñóôôèêñû ÅÍÅÖ (ìóæñêîé ðîä) è ÅÍÈÖ (æåíñêèé ðîä) åäèíè÷íûå ñóôôèêñû ñ îäíîé áóêâîé Í.
Ïëåìÿ ïëåìÿííèê, ïëåìÿííèöà ñóôôèêñû ßÍÍÈÊ/ßÍÍÈÖ óäàðíàÿ ïåðåãëàñîâêà ÅÍÍÈÊ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
ÊðóïåíÈê ÷àùå âñåãî ïðèãîòîâëÿþò èç ãðå÷íåâîé êðóïû.
Ïòåíåö ãíåçäà Ïåòðîâà, ßêîâ Áðþñ ðîäèëñÿ â 1670 ãîäó.
«Ñòèâà! ñêàçàë Ëåâèí, ÷òî æ òû ìíå íå ñêàæåøü, âûøëà òâîÿ ñâîÿ÷åíèöà çàìóæ èëè êîãäà âûõîäèò?»
Ïëåìÿííèê Âîëüòåðà àááàò Ìèíüî íåîäíîêðàòíî ïûòàëñÿ ïðèìèðèòü äÿäþøêó ñ êàòîëè÷åñêîé öåðêîâüþ.
3. ÏÀÐÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ
 äàííîé ãðóïïå ñëîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ 5 ïàð îäíîêîðåííûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ ðàçëè÷íûì íàïèñàíèåì.
(1) ÏÎÑËÀÍÍÈÊ (äâå áóêâû ÍÍ) ÏÎÑËÀÍÅÖ (îäíà áóêâà Í):
ïîñëàòü ïîñëàííûé ïîñëàííèê äâå áóêâû ÍÍ (ïðèñòàâêà ÏÎ â ãëàãîëå ïîñëàòü),
ïîñëàííûé ïîñëàíåö â äàííîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò óñå÷åíèå Í ïåðåä ñóôôèêñîì ÅÖ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Óñå÷åíèå ÍÍ ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðè ñêëîíåíèè ñóùåñòâèòåëüíîãî áóêâà Å â ñîñòàâå ñóôôèêñà ÅÖ ÿâëÿåòñÿ áåãëîé (ïîñëàíåö ïîñëàíöà), à ñî÷åòàíèå òðåõ ñîãëàñíûõ ÍÍÖ íåõàðàêòåðíî äëÿ ðóññêîãî ÿçûêà.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Àìåðèêàíñêèé ïîñëàííèê çàâåë â Ðîññèè ìíîãî äðóçåé.
Ãàâðèèë ãëàâíûé ïîñëàííèê Áîãà ê ëþäÿì.
Ñ äàëüíåãî ìèðà ïðèøåë Ïîñëàíåö, ÷òîáû äàòü ëþäÿì ðàâåíñòâî, áðàòñòâî è ðàäîñòü.
(2) ÑÒÀÂËÅÍÀß ãðàìîòà (îäíà áóêâà Í) è ÑÒÀÂËÅÍÍÈÊ (äâå áóêâû ÍÍ):
ñòàâëåíàÿ ãðàìîòà ñâèäåòåëüñòâî, óäîñòîâåðÿþùåå ïîñâÿùåíèå â ñàí îäíà áóêâà Í, îò ãëàãîëà ñòàâèòü (íåò 4-õ ïðèçíàêîâ);
ñòàâëåííûé ñòàâëåííèê òîò, êòî ïîëó÷èë äîëæíîñòü ïî ÷üåé-ëèáî ïðîòåêöèè ïðè÷àñòèå ñòàâëåííûé îáîçíà÷àåò ïðèçíàê ïî äåéñòâèþ, äâå áóêâû ÍÍ
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
ß åãî ìèòðîïîëèòîì íå ïî÷èòàþ, ó íåãî íåò ñòàâëåíîé ãðàìîòû.
Ñòàâëåííèê öàðÿ ïàòðèàðõ Íèêîí îáúÿâëÿåò áûâøåãî ñîðàòíèêà, ïðîòîïîïà Àââàêóìà, åðåòèêÎì.
(3) ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ (îäíà áóêâà Í) è ÌÎÐÎÆÅÍÈÖÀ (òàêæå îäíà áóêâà Í):
ìîðîæåíîå ñëîâî îáðàçîâàíî ïóòåì ïåðåõîäà èç ïðèëàãàòåëüíîãî â ñóùåñòâèòåëüíîå ïî ñõåìå: ìîðîçèòü îòãëàãîëüíîå ïðèëàãàòåëüíîå «ìîðîæåíûé» ñóùåñòâèòåëüíîå «ìîðîæåíîå»;
ìîðîæåíèöà ñëîâî îáðàçîâàíî îò ïðèëàãàòåëüíîãî: ìîðîæåíûé (ïðèë.) ìîðîæåíèöà (ñóù.), ñóôôèêñ ÈÖ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Åùå â 3000 ãîäó äî íàøåé ýðû â áîãàòûõ äîìàõ Êèòàÿ ê ñòîëó ïîäàâàëèñü äåñåðòû, îòäàëåííî íàïîìèíàþùèå ìîðîæåíîå.
Ìîðîæåíèöà ïðèáîð äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìîðîæåíîãî â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, ðàáîòàþùèé ïî ïðèíöèïó ìèêñåðà.
(4) ÏÐÈÄÀÍÎÅ (îäíà áóêâà Í) è ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ (äâå áóêâû Í):
ñóù. ÏÐÈÄÀÍÎÅ (ñëîâî óïîìèíàåòñÿ â ïðàâèëå 4-õ ïðèçíàêîâ) îäíà áóêâà Í êàê èñêëþ÷åíèå;
ïðèäàíîå (ñóù.) áåñïðèäàííèöà (ñóù.) óäâîåíèå ÍÍ íà ñòûêå ìîðôåì ïðè îáðàçîâàíèè ñóùåñòâèòåëüíûõ îò ñóùåñòâèòåëüíûõ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
 êóïå÷åñêîé ñðåäå ïðèäàíîå ïðèâîçèëîñü àæ íà ïÿòè îáîçàõ, ïðè÷åì êàæäûé èç íèõ èìåë îñîáîå íàçíà÷åíèå.
Äà ÷òî æ äåëàòü-òî, ãäå âçÿòü æåíèõîâ-òî? Âåäü îíà áåñïðèäàííèöà.
(5) ÑÅÐÅÁÐßÍÈÊ (îäíà áóêâà Í) è ÁÅÑÑÐÅÁÐÅÍÈÊ (îäíà áóêâà Í):
ñåðåáðÿíèê ÌÀÑÒÅÐ ñåðåáðÿíûõ äåë îäíà áóêâà Í, îáðàçîâàíî îò ïðèëàãàòåëüíîãî ñåðåáðÿíûé ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñ ÈÊ;
áåññðåáðåíèê ÁÅÑÊÎÐÛÑÒÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ äâå áóêâû ÍÍ, îáðàçîâàíî îò ñóùåñòâèòåëüíîãî ÑÅÐÅÁÐÎ ñ ïîìîùüþ åäèíè÷íîãî ñóôôèêñà ÅÍÈÊ;
ñåðåáðÿíèê èëè ñðåáðåíèê ñòàðàÿ ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÌÎÍÅÒÀ îäíà áóêâà Í, îáðàçîâàíî îò ñóùåñòâèòåëüíîãî ñåðåáðî ñ ïîìîùüþ ñóôôèêñîâ ßÍÈÊ èëè ÅÍÈÊ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Çäåñü áûë ñòàðûé ìîíåòíûé äâîð è æèëè îòäåëüíîé ñëîáîäîé ñåðÅáðÿíèêè, òî åñòü ìàñòåðà ìîíåòíîãî äåëà.
Ôèëàíòðîï è áåññðåáðåíèê Ôåäîð Ãëèíêà ïîêðûâàëñÿ âìåñòî îäåÿëà øèíåëüþ è, åñëè íàäî áûëî âûêóïèòü íà âîëþ êðåïîñòíîãî àðòèñòà, îòêàçûâàë ñåáå â ÷àå.
Ñðåáðåíèêè èëè ñåðåáðÿíèêè ïåðâûå ñåðåáðÿíûå ìîíåòû, ÷åêàíèâøèåñÿ â Êèåâñêîé Ðóñè.
Òîãäà Èóäà, ïðåäàâøèé Åãî, óâèäåâ, ÷òî îí îñóæä¸í, è, ðàñêàÿâøèñü, âîçâðàòèë ïåðâîñâÿùåííèêàì òðèäöàòü ñåðåáðÿíèêîâ.
ÐÀÇÄÅË 5. Í È ÍÍ Â ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂÀÕ
Òåìà 1. Ñëîæíûå ïðèëàãàòåëüíûå è íàðå÷èÿ ñ äåôèñíûì íàïèñàíèåì
Òåìà 2. Ñëîæíûå ñëîâà ñî ñëèòíûì íàïèñàíèåì
Òåìà 3. Ñëîæíûå ñëîâà, îáðàçîâàííûå îò äðóãèõ ñëîæíûõ ñëîâ
Òåìà 4. Ñëîâàðíûå è ïàðíûå âàðèàíòû
Ïðè ðåøåíèè îðôîãðàììû, âî-ïåðâûõ, îïðåäåëÿòñÿ ÔÎÐÌÀ íàïèñàíèÿ ñëîæíîãî ñëîâà (ñëèòíàÿ èëè äåôèñíàÿ), è, âî-âòîðûõ, ïðîâîäèòñÿ åãî ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé àíàëèç.
ÒÅÌÀ 1. Í È ÍÍ Â ÑËÎÆÍÛÕ ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ È ÍÀÐÅ×ÈßÕ Ñ ÄÅÔÈÑÍÛÌ ÍÀÏÈÑÀÍÈÅÌ
1. ÎÁÙÈÉ ÏÐÈÍÖÈÏ ÐÅØÅÍÈß
Ñëîæíûå ïðèëàãàòåëüíûå è íàðå÷èÿ ñ äåôèñíûì íàïèñàíèåì ñîñòàâëåíû èç îñíîâ äâóõ ïðèëàãàòåëüíûõ èëè äâóõ íàðå÷èé, ïîýòîìó â íèõ ñ î õ ð à í ÿ å ò ñ ÿ êîëè÷åñòâî Í èñõîäíûõ îñíîâ, òàê êàê äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñëîæíîãî ñëîâà èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ñîåäèíèòåëüíàÿ ã ë à ñ í à ÿ Î/Å.
2. ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í
Åñëè â èñõîäíîé îñíîâå ïèøåòñÿ îäíà áóêâà Í, òî îäíà áóêâà Í ñîõðàíÿåòñÿ â ñëîæíîì ïðèëàãàòåëüíîì: âàð¸íî-êîï÷¸íûé, ñîë¸íî-ñëàäêèé, ïåñ÷àíî-ãëèíèñòûé, ìîëîäî-çåëåíî.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Äíî âîäîåìà ïåñ÷àíî-ãëèíèñòîå, çàðîñøåå âîäîðîñëÿìè.
Êòî æå ýòî òàì ãîâîðèò: ìîëîäî-çåëåíî.
3. ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ
Åñëè â èñõîäíîé îñíîâå ïèøóòñÿ äâå áóêâà ÍÍ, òî äâå áóêâû ÍÍ ñîõðàíÿþòñÿ â ñëîæíîì ïðèëàãàòåëüíîì: âèííî-âîäî÷íûé, îãíåííî-êðàñíûé, âîçâûøåííî-ðîìàíòè÷åñêèé, íåæäàííî-íåãàäàííî.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Îãíåííî-êðàñíûé ãðàíàò ïèðîï íàçûâàëè «çàñòûâøåé êðîâüþ äðàêîíà».
Ïðèðîäà Âàëààìà íàñòðàèâàåò íà âîçâûøåííî-ðîìàíòè÷åñêèé ëàä.
Ïóñòü ãîâîðÿò, ÷òî íåæäàííî-íåãàäàííî îñåíü ïðèøëà.
ÒÅÌÀ 2. Í È ÍÍ Â ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂÀÕ ÑÎ ÑËÈÒÍÛÌ ÍÀÏÈÑÀÍÈÅÌ
1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
2. Âûáîð Í èëè ÍÍ â ïåðâîé ÷àñòè ñëîæíîãî ñëîâà
3. Âûáîð Í èëè ÍÍ âî âòîðîé ÷àñòè ñëîæíîãî ñëîâà (ïðèëàãàòåëüíîãî)
1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
(1) Ñëîæíûå ñëîâà ñî ñëèòíûì íàïèñàíèåì îáû÷íî îáðàçóþòñÿ íà îñíîâå ñëîâîñî÷åòàíèÿ ñ ï î ä ÷ è í è ò å ë ü í î é ñâÿçüþ: ðàçâîäèòü êîíåé êîíåâîäñòâî, æåëåçíàÿ äîðîãà æåëåçíîäîðîæíûé. Ñïîñîá îáðàçîâàíèÿ ñëîæíîãî ñëîâà: ÷èñòîå ñëîæåíèå èëè ñóôôèêñàëüíîå ñëîæåíèå îñíîâ.
(2)  íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñëîæíîãî ñëîâà èñïîëüçóåòñÿ ñïîñîá ñðàùåíèÿ (íàðå÷èÿ è ïðèëàãàòåëüíîãî), íàïðèìåð: ëåãêîâîîðóæåííûé.
(3) Ðåøåíèå îðôîãðàììû çàâèñèò îò òîãî, â ÊÀÊÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÂÀ äåëàåòñÿ âûáîð Í èëè ÍÍ.
2. ÂÛÁÎÐ Í ÈËÈ ÍÍ Â ÏÅÐÂÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÆÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ
 ýòîì ñëó÷àå âûáîð Í äåëàåòñÿ ïî èñõîäíîìó ñëîâîñî÷åòàíèþ, òàê êàê ïîñëå ïåðâîé îñíîâû ñëåäóåò ñîåäèíèòåëüíàÿ ã ë à ñ í à ÿ Î/Å.
(1) ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í Â ÏÅÐÂÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂ
Îäíà áóêâà Í ïèøåòñÿ â ñëîæíûõ ñëîâàõ, îáðàçîâàííûõ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå:
êîñèòü ñåÍî ñåíîêîñèëêà, òåñàòü êàìåÍÜ êàìåíîò¸ñ, ñêëàä çåðÍà çåðíîñêëàä îäíà áóêâà Í â ñëîæíûõ ñëîâàõ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
 âîåííûå ãîäû â õðàìå íàõîäèëñÿ çåðíîñêëàä.
Æèë áûë íà ñâåòå êàìåíîòåñ, êîòîðûé áûë íåñ÷àñòëèâ è õîòåë çàíÿòü èíîå ïîëîæåíèå â æèçíè.
(2) ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ Â ÏÅÐÂÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂ
Äâå áóêâû ÍÍ ïèøóòñÿ â ñëîæíûõ ñëîâàõ, îáðàçîâàííûõ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: çàêîííîðîæä¸ííûé ðîæäåÍÍûé çàêîÍÍî, âîåííîñëóæàùèé ñëóæàùèé ïî âîåÍÍîé ÷àñòè, äëèííîðóêèé äëèÍÍûå ðóêè. Ñïîñîá îáðàçîâàíèÿ ñëîæíîãî ñëîâà: ÷èñòîå ñëîæåíèå èëè ñóôôèêñàëüíîå ñëîæåíèå îñíîâ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Äìèòðèé áûë íåçàêîííîðîæäåííûì ñûíîì Èâàíà Ãðîçíîãî.
Çàêîí îïðåäåëÿåò ïðàâà, ñâîáîäû, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü âîåííîñëóæàùèõ.
Îí îñòàëñÿ âñå òàêèì æå õóäûì, äëèííîðóêèì è óãëîâàòûì âå÷íûì ïîäðîñòêîì.
3. ÂÛÁÎÐ Í ÈËÈ ÍÍ ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÆÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ (ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ)
Äàííîå ïðàâèëî îïðåäåëÿåò âûáîð Í èëè ÍÍ â ñëîæíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ.
Äëÿ ñëîæíûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà Í âî âòîðîé ÷àñòè ñëîâà äåëàåòñÿ â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ: ñòðîèòü ñàìîëåòû ; ñàìîëåòîñòðîÅÍÈå, ñóôôèêñ ñóùåñòâèòåëüíîãî ÅÍÈ.
Âûáîð äåëàåòñÿ äëÿ òàê íàçûâàåìîãî ÎÏÎÐÍÎÃÎ ïðèëàãàòåëüíîãî áåç ó÷åòà ïåðâîé ÷àñòè ñëîâà, òàê êàê êîëè÷åñòâî Í çàâèñèò òîëüêî îò âòîðîé îñíîâû.
Êîëè÷åñòâî Í äëÿ îïîðíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðàíåå èçëîæåííûì îáùèì ïðàâèëàì.
(1) ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂ
×èñòîøåðñòÿíîé îòûìåííûé ñóôôèêñ ßÍ â îïîðíîì ïðèëàãàòåëüíîì.
Ñâåæåìîðîæåíûé, ìàëîíîøåíûé, çëàòîòêàíûé, öåëüíîêðÎåíûé îäíà Í, íåò 4-õ ïðèçíàêîâ â îïîðíûõ îòãëàãîëüíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ïî-ðàçíîìó ïèøóòñÿ ñëîæíûå ñëîâà, ïîëó÷åííûå ïóòåì ñðàùåíèÿ, è ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ñîñòàâëåííûå èç ïðèëàãàòåëüíîãî (ïðè÷àñòèÿ) è íàðå÷èÿ:
ÒßÆÅËÎÐÀÍÅÍÛÉ ñëèòíîå íàïèñàíèå (ñðàùåíèå íàðå÷èÿ è ïðèëàãàòåëüíîãî), îäíà áóêâà Í (íåò 4-õ ïðèçíàêîâ â îïîðíîì ïðèëàãàòåëüíîì).
ÒßÆÅËÎ ÐÀÍÅÍÍÛÉ îñêîëêàìè ñíàðÿäà ðàçäåëüíîå íàïèñàíèå, äâå áóêâû, ÍÍ â ïðè÷àñòèè ðàíåííûé (åñòü çàâèñèìîå ñëîâî).
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Ïðåäëàãàþòñÿ ÷èñòîøåðñòÿíûå ïåðñèäñêèå êîâðû.
Ðàññâåò ðàñòàÿë çëàòîòêàíûé, ëåñ ïàñìóðíûé ñåé÷àñ, òóìàííûé.
Øåèí ñðàæàëñÿ ó Êîëîìåíñêîé áàøíè, ãäå è ïîïàë â ïëåí òÿæåëîðàíåíûì.
 áîþ ïîä Ëóáèíî, òÿæåëî ðàíåííûé, Òó÷êîâ ïîïàë â ïëåí.
(2) ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂ
Äðàãîöåííûé, ñòîìèëëèîííûé, áåëîêàìåííûé, ïåðâîñòåïåííûé óäâîåíèå ÍÍ äëÿ îòûìåííîãî îïîðíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî íà ñòûêå âòîðîé îñíîâû è ñóôôèêñà.
Ëåãêîâîîðóæ¸ííûé, ãóñòîíàñåëåííûé, ñëîæíîñîêðàùåííûé äâå áóêâû ÍÍ â îòãëàãîëüíûõ îïîðíûõ ïðèëàãàòåëüíûõ (ïðèñòàâêè ÂÎ, ÑÎ, ÍÀ).
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Ðå÷êà òèõî îìûâàåò áåðåã ñîííîþ âîëíîþ, è íà íåé ñòîèò îáèòåëü áåëîêàìåííîé ñòåíîþ.
 ñîñòàâ ñïàðòàíñêîãî âîéñêà ìîãëè âêëþ÷àòüñÿ è ëåãêîâîîðóæåííûå áîéöû.
ÒÅÌÀ 3. Í È ÍÍ Â ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂÀÕ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÛÕ ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂ
Åñëè ñëîæíîå ñëîâî îáðàçóåòñÿ îò äðóãîãî ñëîæíîãî ñëîâà, òî êîëè÷åñòâî Í â íåì îïðåäåëÿåòñÿ ïî îáùèì ïðàâèëàì ñ ó÷åòîì ñõåìû îáðàçîâàíèÿ ñëîâà.
1. ÎÄÍÀ ÁÓÊÂÀ Í
ÂàãîíîñòðîÅÍÈå âàãîíîñòðîÈÒÅËÜÍûé îäíà áóêâà Í ñîõðàíÿåòñÿ â ïðèëàãàòåëüíîì, îáðàçîâàííîì îò ñëîæíîãî ñóùåñòâèòåëüíîãî (ñóôôèêñ ÈÒÅËÜÍ íà ãëàñíóþ)
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Óñòàâ «Òîâàðèùåñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî âàãîíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà» óòâåðäèëè â ôåâðàëå 1897 ãîäà, à ÷åðåç ãîä áûë âûïóùåí ïåðâûé âàãîí.
2. ÄÂÅ ÁÓÊÂÛ ÍÍ
Óìèðîòâîðèòü (ñîâ. âèä, ïðèñòàâêà) óìèðîòâîðåííûé äâå áóêâû ÍÍ â ïðè÷àñòèè, îáðàçîâàíèå îò ñëîæíîãî ãëàãîëà ñîâåðøåííîãî âèäà.
ÄðàãîöåÍÍûé äðàãîöåííÎÑÒÜ, áëàãîóñòðîåÍÍûé áëàãîóñòðîåííÎÑÒÜ äâå áóêâû ÍÍ ñîõðàíÿåòñÿ â ñóùåñòâèòåëüíûõ ïåðåä ñóôôèêñîì íà ãëàñíóþ ÎÑÒÜ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
ßðêèé è îæèâëåííûé, çàãàäî÷íûé è ìàíÿùèé, ñîëíå÷íûé è óìèðîòâîðåííûé âñå ýòî î ãîðîäå Áóäâà, êîòîðûé ñìåëî ìîæíî ñ÷èòàòü ñåðäöåì òóðèñòè÷åñêîé ×åðíîãîðèè.
Ìíîãèå ïëÿæè íàãðàæäàþòñÿ Ãîëóáûì ôëàãîì çà ÷èñòîòó è áëàãîóñòðîåííîñòü.
Íà ìîåì êîðàáëå ìíîãî çîëîòà è äðàãîöåííîñòåé, äëÿ òåáÿ, ëþáîâü, çäåñü íåò ìåñòà.
ÒÅÌÀ 4. ÑËÎÂÀÐÍÛÅ È ÏÀÐÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÑËÎÆÍÛÕ ÑËÎÂ
1. ÑËÎÂÀÐÍÛÅ ÑËÎÂÀ
Ê ñëîâàðíûì îòíîñÿòñÿ ñëîæíûå ñëîâà, äëÿ êîòîðûõ âûáîð Í è ÍÍ íå âñåãäà î÷åâèäåí èëè äåëàåòñÿ ïî îñîáûì ïðàâèëàì:
(1) ÑÀÌÎÍÀÄÅßÍÍÛÉ îò ãëàãîëà «íàäåÿòüñÿ», çíà÷åíèå îáùåãî îòíîøåíèÿ ê äåéñòâèþ, à íå ðåçóëüòàòà äåéñòâèÿ.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Î òùåñëàâíûé è ñàìîíàäåÿííûé ÷åëîâåê! Ñóìåé ñîçäàòü õîòÿ áû òîãî ÷åðâÿêà, êîòîðîãî òû ïîïèðàåøü íîãîé è ïðåçèðàåøü.
(2) ÄÎÌÎÐÎÙÅÍÍÛÉ äâå áóêâû ÍÍ (ïî ñî÷åòàíèþ «ðàñòèòü äîìà», çàâèñèìîå ñëîâî); äîìîðîùåííûé òàáàê âûðàùåííûé äîìà, äîìîðîùåííûé ïîýò çàóðÿäíûé, ïðèìèòèâíûé.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Ìàõîðêó çàìåíÿë äîìîðîùåííûé òàáàê ñàìîñàä.
Òû êàê âñåãäà íàâÿç÷èâûé è âåçäåñóùèé, íàø äîìîðîùåííûé, íàø ëîíäîíñêèé òóìàí.
(3) ÑÎËÅÂÀÐÅÍÍÛÉ, ÑÛÐÎÂÀÐÅÍÍÛÉ, ÂÈÍÎÊÓÐÅÍÍÛÉ ñëîæíûå ïðèëàãàòåëüíûå îáðàçîâàíû îò ñóùåñòâèòåëüíûõ «ñîëåâàðåíèå, ñûðîâàðåíèå, âèíîêóðåíèå», óäâîåíèå ÍÍ íà ñòûêå îñíîâû íà Í è ñóôôèêñà Í.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Âî âðåìÿ ïóãà÷åâñêîãî áóíòà âèíîêóðåííûé çàâîä áûë ðàçãðîìëåí, à çàïàñû çåðíà è âèíà ïóãà÷¸âöû ðàçäåëèëè ìåæäó ñîáîé.
×åääåð ñåðäöå ñûðîâàðåííîé ïðîìûøëåííîñòè â Àíãëèè.
2. ÏÀÐÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ
Ïàðíûå âàðèàíòû ñîñòàâëÿþò ñëîæíûå ñëîâà ñ Í è ÍÍ, â êîòîðûå âõîäÿò îäèíàêîâûå îñíîâû, íî êîòîðûå îáðàçóþòñÿ ðàçëè÷íûì îáðàçîì:
(1) ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ, ÌÀØÈÍÎÂÅÄÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÏÈÑÜ (îäíà áóêâà Í) è ÌÀØÈÍÍÎ-ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÉ (äâå áóêâû ÍÍ)
Ìàøèíîñòðîåíèå (îò ñòðîèòü ìàøèíû), ìàøÈíîïèñü (îò ïèñàòü íà ìàøèíêå) îäíà áóêâà Í, îáðàçîâàíèå íà îñíîâå ñëîâîñî÷åòàíèÿ;
Ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ (îò ìàøèííûé è òðàêòîðíûé) äâå áóêâû ÍÍ, äåôèñíîå íàïèñàíèå, ñëîæåíèå îñíîâ ïðèëàãàòåëüíûõ;
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
 Èíñòèòóòå ìàøèíîâåäåíèÿ ñîçäàíà íîâàÿ ëàáîðàòîðèÿ âèáðàöèîííîé òåõíèêè.
Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ êóðñà «Ìàøèíîïèñü» ïðåäïîëàãàåò îñâîåíèå ñëåïîãî äåñÿòèïàëüöåâîãî ìåòîäà ïå÷àòè íà êîìïüþòåðå.
Ïåðâàÿ ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ áûëà îòêðûòà â 1928 ãîäó â Îäåññêîé îáëàñòè.
(2) ÂÈÍÎÄÅËÈÅ (îäíà áóêâà Í) è ÂÈÍÍÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ (äâå áóêâû ÍÍ)
Âèíîäåëèå (îò äåëàòü âèíî) îäíà áóêâà Í, îáðàçîâàíèå íà îñíîâå ñëîâîñî÷åòàíèÿ.
Âèííî-âîäî÷íûé (îò âèííûé è âîäî÷íûé) äâå áóêâû ÍÍ, ñëîæåíèå îñíîâ ïðèëàãàòåëüíûõ.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ.
Îòìåòèì, ÷òî íàðÿäó ñ îñíîâíîé ôîðìîé íàïèñàíèÿ ÂÈÍÍÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ñ äâóìÿ ÍÍ, ÷òî ðåêîìåíäóåòñÿ âñåìè ñëîâàðÿìè, âñòðå÷àåòñÿ íàïèñàíèå ÂÈÍÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ñ îäíîé áóêâîé Í, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ðàçíûìè ñõåìàìè îáðàçîâàíèÿ ýòèõ ñëîæíûõ ñëîâ.
Ñëîæíîå ïðèëàãàòåëüíîå ÂÈÍÎ-ÂÎÄÎ×ÍÛÉ ñ îäíîé áóêâîé Í îáðàçóåòñÿ ñëîæåíèåì îñíîâ ñóùåñòâèòåëüíûõ âèíî è âîäêà ïî àíàëîãèè ñî ñëîæíûì ïðèëàãàòåëüíûì ëèêåðîâîäî÷íûé (ëèêåð è âîäêà).
Íî ïðè ýòîì ñëîâî «ëèêåðîâîäî÷íûé» ïèøåòñÿ ñëèòíî, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò îñíîâíîìó ïðàâèëó, à ñëîâî âèíî-âîäî÷íûé ñ îäíîé áóêâîé Í èìååò äåôèñíóþ ôîðìó íàïèñàíèÿ â âèäå èñêëþ÷åíèÿ (ôîðìàëüíî çäåñü èìååò ìåñòî óñå÷åíèå îñíîâû ïåðâîãî ïðèëàãàòåëüíîãî).
Ïîýòîìó èñïîëüçîâàòü âòîðóþ ôîðìó íåæåëàòåëüíî.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Ïîñëå Äðåâíåé Ãðåöèè è Ðèìà âèíîäåëèå ïîëó÷èëî íàèáîëüøåå ðàçâèòèå âî Ôðàíöèè.
Âèíîäåëü÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïðîèçâîäèò âèíà, øàìïàíñêîå, êîíüÿêè.
Íà çàâîäå âûïóñêàåòñÿ áîëüøîé àññîðòèìåíò âèííî-âîäî÷íîé ïðîäóêöèè.
(3) ÌÈËËÈÎÍÎÃÎËÎÑÛÉ (îäíà áóêâà Í) è ÑÒÎÌÈËËÈÎÍÍÛÉ (äâå áóêâû ÍÍ)
Ìèëëèîíîãîëîñûé (îò ìèëëèîí ãîëîñîâ) âûáîð îäíîé áóêâû Í â ïåðâîé ÷àñòè ñëîæíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî (ñðàâíèòü: òûñÿ÷åêðàòíûé).
Ñòîìèëëèîííûé (îò ñòî ìèëëèîíîâ) âûáîð äâóõ áóêâ ÍÍ âî âòîðîé ÷àñòè ñëîæíîãî ïðèëàãàòåëüíîãî (èëè ïîðÿäêîâîãî ÷èñëèòåëüíîãî), óäâîåíèå ÍÍ íà ñòûêå îñíîâû íà Í è ñóôôèêñà Í.
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÏÐÈÌÅÐÛ
Çâóê íàïîëíèë ïåùåðó, îòðàçèëñÿ ìèëëèîíîãîëîñûì ýõîì.
Ôèëüì «Íî÷ü â ìóçåå», ïîõîæå, ñêîðî îïðàâäàåò ñâîé ñòîìèëëèîííûé áþäæåò.
ÐÀÇÄÅË 6. ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀ ÔÎÐÓÌÀÕ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ
ÂÎÏÐÎÑ 1. ÄîçèðîâàÍÍî èëè äîçèðîâàÍî? 07.12.2021
Íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòåðîì äîçèðîâàííî.
Âåðíî ñ äâóìÿ Í â ñëîâå «äîçèðîâàííî»? Íàðå÷èå âåäü çäåñü…
ÎÒÂÅÒ
1. Ïðàâèëüíî: Íóæíî ïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòåðîì (êàê?) äîçèðîâàííî.
 íàðå÷èè ïèøóòñÿ äâå áóêâû ÍÍ, ïðè÷åì ýòî îïðåäåëÿåòñÿ ñðàçó, «òîíêîãî àíàëèçà» íå òðåáóåòñÿ.
2. Ïîÿñíåíèå
Ñõåìà îáðàçîâàíèÿ íàðå÷èÿ: äîçèðîâàòü äîç/èðîâà/íí/ûé äîç/èðîâà/íí/î.
3.Ïðàâèëî
Åñëè ãëàãîë èìååò ñóôôèêñ íà ÎÂÀ, òî â ãëàãîëüíîé ôîðìå (ïðè÷àñòèè èëè ïðèëàãàòåëüíîì) âñåãäà ïèøåòñÿ ÍÍ, ïîýòîìó ÍÍ ñîõðàíÿåòñÿ â íàðå÷èè.
Ðîçåíòàëü, http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=62#pp62 Ïóíêò 6. Îòãëàãîëüíûå ïðèëàãàòåëüíûå íà -îâàíí(ûé), -¸âàíí(ûé) ïèøóòñÿ ñ íí: áàëîâàííûé ðåá¸íîê, êîð÷¸âàííûé ó÷àñòîê.
ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ:
Èç ñëîâàðÿ: ÄÎÇÈÐÎÂÀÒÜ; ñâ. è íñâ. ÷òî. Ýòî äâóâèäîâîé ãëàãîë (ñîâåðøåííîãî è íåñîâåðøåííîãî âèäà). Ïîýòîìó îò íåãî ìîæíî îáðàçîâàòü ÏÐÈ×ÀÑÒÈÅ.
Ðàçëè÷àòü ïðè÷àñòèÿ è ïðèëàãàòåëüíûå â ïîëíîé ôîðìå íåò íåîáõîäèìîñòè, à âîò â êðàòêîì ïðè÷àñòèè (â èìåííîé ÷àñòè ñêàçóåìîãî) ïèøåòñÿ Í, íàïðèìåð:
Êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ ÷àñîâ â íåäåëþ ñòðîãî äîçèðîâàíî.
Ïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðîì äîëæíî áûòü äîçèðîâàíî.
ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ
Êñòàòè, â ñîâðåìåííûõ õóäîæåñòâåííûõ òåêñòàõ î÷åíü ÌÍÎÃÎ ÎØÈÁÎÊ íà ýòó òåìó (ïèøóò Í âìåñòî ÍÍ), íàïðèìåð:
Ëþáîâü è ðàáîòà äîëæíû ñî÷åòàòüñÿ ãàðìîíè÷íî è äîçèðîâàíî.
Òåáå ïðîñòî íà÷èíàþò äàâàòü èíôîðìàöèþ ; ñòðîãî äîçèðîâàíî, â îïðåäåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.
Êîíå÷íî, ýòè âîëüíîñòè äîïóñêàëèñü íó î÷åíü äîçèðîâàíî.
Âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ òî÷íî, äîçèðîâàíî, íåãðóáî è çðèìî.
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ ; èíñòðóìåíò ìîùíûé, íî ãðóáîâàòûé, âðîäå òîïîðà. Åãî ñëîæíî ïðèìåíÿòü äîçèðîâàíî.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
Повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты» написана в 1919 — 1920 годах. Это во многом автобиографическая история детства самого автора. Писатель показал в своём произведении привольную жизнь мальчика в деревне, его острое ощущение живой природы, стремление к созерцанию, мечтательность, любовь к семье и друзьям. Автор посвятил это произведение своему сыну Никите. Так зовут и главного героя повести. Многомудрый Литрекон рад предложить Вам к прочтению краткий пересказ этой замечательной детской повести по главам. Сюжет в сокращении поможет оперативно подготовиться к уроку, ведь основные события напомнят Вам то, что Вы уже прочитали в оригинале летом.
Глава 1. Солнечное утро
Шла зима. Никита, которому шёл десятый год, проснулся в солнечный морозный день и вспомнил о том, что вчера вечером плотник Пахом сделал ему скамейку для катания с горы. Сейчас она стояла готовая у крыльца. Сегодня утром Никита уже мог идти кататься. Мальчик прислушался: было тихо. Он подумал, что все ещё спят.
Никита решил не умываться, а тихонько одеться и выйти из дому, чтобы добраться до речки, на которой за ночь намело большие сугробы. Мальчик уже мечтал лететь с горы на своей новой скамейке. Но дверь неожиданно отворилась, и в комнату заглянула «голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой».
Глава 2. Аркадий Иванович
Рыжий мужчина — это учитель Никиты, Аркадий Иванович. Он догадывался, что мальчик захочет незаметно улизнуть на улицу. Никите пришлось умыться, а потом Аркадий Иванович повёл мальчика завтракать. Учитель никогда не жаловался матушке Александре Леонтьевне на Никиту, но мальчик всё равно всегда был настороже. Матушка сказала Никите, что если он пойдёт гулять, то должен обязательно надеть башлык, ведь на улице большой мороз.
После чая Аркадий Иванович повёл его заниматься арифметикой «в пустую и белую комнату». Никита не желал решать задачи и писать диктанты, его тянуло гулять на речку Чагру, где были хорошие сугробы. Вдруг в доме хлопнула дверь, и Аркадий Иванович, в надежде, что ему пришло письмо от его возлюбленной, вышел из комнаты. Никита тем временем быстро оделся, спрятав башлык под комодом, и выбежал на мороз.
Глава 3. Сугробы
Взвалив на плечо новую скамейку, мальчик побежал к плотине. Никита шёл задом наперёд, чтобы запутать Аркадия Ивановича. Подойдя к речке, мальчик взобрался на снежную гору, нависающую над рекой. Вдалеке он увидел ребят, своих приятелей, которые жили в этом конце деревни Сосновки. Ещё дальше едва было видно «кончанских» мальчуганов, живущих на другом конце деревни — это были «вражеские» ребята.
Никита скатился с горы один раз. Поднимаясь обратно, мальчик увидел, что недалеко в снегу стоит Аркадий Иванович. Никита вновь скатился с горы, побежал по льду до нависающего над рекой снежного мыса. Там он выкопал яму, закрывшись изнутри комьями снега. Но учитель всё равно нашёл мальчика. Он рассказал Никите, что из Самары пришло письмо, и ребёнок, заинтересовавшись, вылез из укрытия.
Глава 4. Таинственное письмо
За обедом матушка Никиты прочла это письмо. Оно было от отца мальчика — Василия Никитьевича. В письме сообщалось, что отец купил сыну очень большой подарок, и просил прислать за ним «лишнюю подводу», и что на праздники к ним в деревню приедет приятельница матушки Анна Аполлосовна Бабкина с детьми. Учитель тоже получил весточку из Самары от своей невесты-учительницы. Никита стал расспрашивать о подарке, но матушка не отвечала. Аркадий Иванович тоже был весь день каким-то таинственным и весёлым. Иногда он вынимал из кармана письмо от невесты и перечитывал пару строк.
Вечером Никита побежал через двор к людской к своему другу Мишке Коряшонку, чтобы спросить его, какой подарок привезут из города, но не получил вразумительного ответа. Зато Мишка позвал его завтра пойти бить «кончанских» мальчишек. Никита согласился идти вместе с другом.
Глава 5. Сон
Никите часто снился один и тот же странный сон: в пустой комнате у белой стены находятся большие часы с качающимся маятником. На стене над часами висят два портрета: старик и старушка. В футляре часов отсутствует стекло, и чёрный кот пытается лапой коснуться маятника. Никита знал, что если он это сделает, то всё вмиг исчезнет. Мальчик видел происходящее со стороны, но не мог остановить кота, потому что не в силах был пошевелиться.
И вот в очередной раз мальчик увидел этот сон. Испугавшись, Никита проснулся посреди ночи, перекрестился и вновь уснул. Но сон продолжился. Он опять увидел, как кот пытается прокрасться к часам. Теперь Никите удалось сойти с места и взлететь. Он летал по комнате, отталкиваясь ногами от стен. Мальчик подлетел к вазочке, стоящей на часах с маятником, и увидел: в ней что-то лежало. Вдруг Никита услышал голос, который говорил ему: «Возьми то, что там лежит». Но ему помешали ожившие портреты: старушка схватила мальчика за голову, а старик ударил его курительной трубкой по спине, отчего Никита начал падать. После этого он проснулся.
Уже было утро, девять часов. Аркадий Иванович потряс мальчика за плечо, чтобы разбудить его. Когда Никита проснулся, учитель объявил, что две недели занятий не будет. Ребёнок обрадовался рождественским каникулам и забыл о странном сне.
Глава 6. Старый дом
От мысли, что Никита может делать всё что хочет целых две недели, ему даже стало скучно. В этот же день, после чая, Никита оделся и отправился на прогулку. Перед тем как выйти на улицу, он прошёл по коридору через нежилые помещения. Мальчик дошёл до «крайней угловой комнаты», где над очагом висел портрет красивой дамы «в чёрной бархатной амазонке». Никита стал рассматривать портрет, сидя на диване. Он мог подолгу смотреть на эту женщину. Видя её, Никита испытывал волнение, он был полон любопытства.
От матушки он много раз слышал, что с прадедом приключилась загадочная история, связанная с этой дамой. Портрет прадеда висел в этой же комнате над шкафом с книгами. На портрете был изображён «тощий востроносый старичок с запавшими глазами». Материальное положение прадеда было плохим: дворовые разбежались, все комнаты, кроме той, в которой он жил, были заколочены. Однажды прадед пропал и больше не появлялся у себя дома. Спустя пять лет от него пришло письмо из Сибири, в котором сообщалось, что он «нашёл забвение среди природы». Причиной всего случившегося с ним была дама, изображённая на портрете.
За окном на ветвь дерева села ворона. Никита почувствовал страх и, выйдя из пустой комнаты, побежал во двор.
Глава 7. У колодца
Во дворе Никита повстречал Мишку Коряшонка. Тот макал в воду кончик своей рукавицы. Он объяснил Никите, что все «кончанские» ребята так делают, и что «наши» тоже должны так делать, чтобы было ловчее драться. Мишка сообщил, что битва назначена на послеобеденное время. Ещё он поведал Никите, что у «кончанского» Стёпки Карнаушкина теперь заговорённый кулак, так что его так просто не одолеть. Никита засомневался, стоит ли ему участвовать в драке, если у Стёпки теперь столько силы. Но всё-таки решил идти вместе с Мишкой, чтобы не показаться трусом.
Во дворе появилось стадо овец. Мишка стал дразнить барана, и мальчики весело побежали от него. Когда Никиту позвали на обед, Коряшонок ещё раз напомнил ему о предстоящей битве:
«Смотри, не обмани, пойдём на деревню-то».
Глава 8. Битва
Никита и Мишка пошли на деревню. Они дошли до избы Артамона Тюрина, которого в деревне все боялись — он был сильным и суровым. Сыновья его — «Сёмка, Лёнька и Артамошка-меньшой» пошли вместе с мальчиками бить «кончанских». За избой Артамона начинался другой конец деревни.
На сугробе, где должна была произойти битва, к ним присоединились «Алёшка, Нил, Ванька Чёрные Уши, Петрушка — бобылёв племянник и ещё совсем маленький мальчик». С другой стороны сугроба появилось пять или шесть мальчиков, потом подошли ещё несколько. В итоге с обеих сторон набралось до сорока человек. Ребята дразнили друг друга. С «кончанской» стороны раздавалось: «Лякушки, лягушата!». Со стороны Мишки и Никиты кричали: «Кузнецы косоглазые! Мышь подковали!». Появился среди «кончанских» широкий мальчишка с курносым носом — Стёпка Карнаушкин. «Наши» поначалу дали дёру. Но Никита не мог смириться с таким поражением и решительно встретил бегущего на него Стёпку, ударив его в грудь изо всей силы. «Наши» вновь кинулись «в бой». В итоге «кончанских» гнали пять дворов.
Когда битва кончилась, Стёпка окликнул возвращающегося домой Никиту, похвалил его за смелый удар и предложил «дружиться». Мальчики обменялись дорогими сердцу вещами. Никита отдал Серёже перочинный ножик, а Серёжка ему — свинчатку.
Глава 9. Чем окончился скучный вечер
Вечером Никита разглядывал картинки в журнале «Нива», но занятие это было не интересное. Матушка читала, держа на коленях ручного ежа Ахилку. Слышно было, как на чердаке завывал ветер. Никите представилось, что там наверху, среди старой и поломанной мебели сидит пыльный и мохнатый, весь покрытый паутиной «Ветер». Когда он завыл ещё отчаянней и сильней, во дворе послышались голоса и хруст снега. Это приехала из Самары Анна Аполлосовна Бабкина со своими детьми.
В коридоре Никита увидел высокую крупную женщину, очень тепло одетую. Это была сама
Бабкина. За руку она держала сына Виктора. Он смотрел на Никиту исподлобья. За ними вошёл ямщик, у которого на руках лежала спящая девочка. Это была Лиля. Матушка приняла девочку у ямщика, и та, просыпаясь, вздохнула.
Глава 10. Виктор и Лиля
Виктора положили спать в комнате с Никитой. Утром они разговорились. Никита один раз был в Самаре в гостях у Бабкиных, и Виктор это хорошо помнил. Вместе они пошли пить чай в столовую, где уже сидела Лиля. Это была девочка девяти лет.
«Лиля была одета в белое платье с голубой шёлковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В её светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки».
Никита хорошо разглядел девочку: она была до того хорошенькая, голубоглазая, с длинными и пышными ресницами, что мальчику казалось, что она ненастоящая. Виктор заметил, что Никите нравится его сестра. Он предупредил своего товарища, что Лиля всё время жалуется маме, поэтому надо быть с нею поосторожней. После чая Лиля села шить. Никита попытался привлечь её внимание, показывая Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но девочка даже не обернулась в его сторону. Матушка попросила, чтобы они не шумели в доме, а шли гулять на улицу.
Мальчики вышли на двор. Они направились к колодцу, к которому шли коровы пить воду. Вдалеке стоял Мишка Коряшонок с пастушьим кнутом. Он вдруг крикнул, предупреждая: к мальчикам направляется бык Баян, отделившись от стада. Никита попытался увести своего приятеля, но тот от испуга упал на снег, закрыв руками голову. Баян был уже совсем близко. Никита вдруг остановился и стал прогонять быка, ударяя его шапкой по морде. Подбежал Мишка Коряшонок с кнутом. Перепуганный Никита случайно взглянул на окно дома и увидел удивлённую Лилю, которая улыбалась ему. Мальчику стало вдруг отчего-то очень радостно.
Ребята пошли кататься с гор, и во время прогулки Никита всё думал, стоит ли оглядываться на окно по возвращению домой? В итоге он решил, что не будет оглядываться.
Глава 11. Ёлочная коробочка
Анна Аполлосовна привезла целый чемодан материалов для поклейки ёлочных игрушек и всяческие украшения к Рождеству. Матушка решила, что нужно начать их клеить уже сегодня после обеда, иначе можно не успеть всё доделать к празднику. Анна Аполлосовна удалилась спать под предлогом, что пойдёт писать письма.
В столовой для этой работы освободили стол. Матушка заварила клей, нарезала цветную бумагу и картон. Дети начали клеить: Виктор взялся за цепи, Никита делал «фунтики для конфет», Лиля клеила коробочку. Никита не сводил глаз с девочки. Когда матушка вышла, а Виктор был занят работой, Никита заговорил с Лилей, спросив её о том, что она делает. Девочка ответила, что эта коробочка предназначена для кукольных перчаток. Они только-только разговорились, как вдруг Виктор нарушил их идиллию — влез в разговор о коробочке. Из-за этого Лиля ушла на другой конец стола.
12. То, что было привезено на отдельной подводе
Никита проснулся утром счастливым. Он встал сегодня раньше всех и побежал в комнату к Аркадию Ивановичу. Он спросил учителя, нравятся ли ему дети Анны Аполлосовны. Когда Аркадий Иванович стал спрашивать, кто конкретно ему должен нравится, Никита убежал из спальни учителя и пошёл во двор.
На дороге он увидел воза, едущие друг за другом. Мишка Коряшонок, шедший по двору, сказал Никите, что это везут гостинцы из города. Обоз состоял из шестнадцати саней. Никита не сразу разглядел, что находилось в санях.
«Это было большое, странной формы, зелёное, с длинной красной полосой»
От интереса и радости у мальчика колотилось сердце. Это была лодка, сбоку от неё находились два весла и мачта. Вот и раскрылась тайна подарка из отцовского письма.
Глава 13. Ёлка
В гостиной установили огромную ёлку. Приятно запахло хвоей. Дети стали украшать её звёздочками, яблоками, пряниками и свечами. Но украшений на всю ель не хватило. Поэтому пришлось вновь клеить ёлочные игрушки. Дети долго сидели за работой, пока Лиля не уснула, утомившись, прямо за столом.
Детям было велено не заходить в гостиную до вечера. Когда пришли приглашённые на праздник деревенские дети, Никита, Лиля и Виктор вошли в гостиную.
«В гостиной от пола до потолка сияла ёлка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от неё шёл густой, тёплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками».
Дети стояли и смотрели, как заворожённые. Во время праздника мама пела и играла на рояле. После того, как раздали подарки, Аркадий Иванович развлекал детей — водил хороводы. Цепью все дети вприпрыжку пошли в столовую за учителем. В прихожей Никита и Лиля оторвались от цепи и остались наедине. Никита поцеловал голубоглазую девочку, а она вдруг сказала ему, что считает его хорошим мальчиком, при этом добавила, что «это секрет».
После праздника Никита провожал деревенских детей до плотины. Домой он шёл как во сне, будто вокруг него — волшебное царство. На душе у него было и счастливо, и странно.
Глава 14. Неудача Виктора
Виктор подружился с Мишкой Коряшонком, вместе они построили за прудом крепость из снега. Виктор написал письмо «кончанским» с угрозой поколотить. Мишка отнёс письмо в деревню, воткнул его на палке в сугроб у избы Артамона. «Наши» ребята, прочитав письмо, вызвали на бой «кончанских» и пришли в крепость, где должна была состояться битва.
Никита, увидев построенную крепость, не захотел играть с мальчишками, и те сделали вывод, что он «с девчонкой связался». Вскоре пришли «кончанские», их было человек пятнадцать, во главе со Стёпкой Корнаушкиным. Началась битва. С обеих сторон полетели комья снега. С Виктора сбили фуражку, ему славно досталось. «Наши» пустились бежать по льду пруда.
Глава 15. Что было в вазочке на стенных часах
Никита не понимал, отчего ему стало неинтересно играть с ребятами. Он чувствовал счастье рядом с Лилей, и ощущал, что внутри него играет музыка. Сидя на диване в отцовском кабинете, на том месте, где пару дней назад сидела Лиля, мальчик мечтательно смотрел в морозное окно. К нему вдруг пришло вдохновение, и он написал стихотворение:
«Уж ты лес, ты мой лес,
Ты волшебный мой лес,
Полный птиц и зверей
И весёлых дикарей…
Я люблю тебя, лес…
Так люблю тебя, лес…»
Никита хотел показать его Виктору, пришедшему домой после битвы с распухшим носом, но тот не захотел его слушать. Тогда Никита направился в прихожую, где у печи сидела Лиля. Они разговорились. Мальчик рассказал ей про приснившуюся ему вазочку, в которой что-то должно было лежать. Лиля была заинтересована таинственным сном Никиты, и предложила найти эту вазочку в доме.
Они пробрались в комнату, которая снилась Никите. Лиля приметила вазочку «с львиной мордой» наверху старинных часов. Никита узнал её. Подставив стул, мальчик что-то нащупал в вазочке и взял это. Когда дети вернулись в прихожую, Никита разжал ладонь. Это было колечко — тоненькое, «с синим камешком». Девочка всплеснула руками. Никита надел колечко Лиле на пальчик, и она поцеловала его. Никита отдал ей и своё стихотворение, которое написал в кабинете отца, оно очень понравилось девочке.
Глава 16. Последний вечер
Праздничные дни подходили к концу. Во время вечернего чаепития Анна Аполлосовна объявила, что завтра, в понедельник, рано утром она заберёт детей и уедет обратно в Самару. После этих слов Лиля погрустнела, опустив голову. У Никиты «застлало глаза», он был удручён. Закончив пить чай, дети вместе вышли из столовой. В прихожей Никита спросил Лилю, приедет ли она летом в Сосновку. Она не знала, потому что такие вопросы решает её мама, но пообещала писать ему письма. Они попрощались, с грустью разойдясь по комнатам.
Никите казалось, что всему пришёл конец. Мальчик не мог поверить, что не увидит больше тень от голубого банта на стене над диваном, где обычно сидела и шила Лиля. Он заснул, видя перед глазами этот огромный бант. Снилось ему, будто он бродит по зарослям леса. Вдруг из-за лопухов появился краснокожий дикарь в очках. Мальчик проснулся и увидел Аркадия Ивановича, который будил его утром.
Глава 17. Разлука
Каникулы кончились. В январе, от отца Никиты пришло письмо, в котором он с грустью сообщал, что из-за дела о наследстве вынужден остаться в городе ещё надолго. Домой он приедет только к Великому посту. Матушка сильно расстроилась и пустила слезу. Ей казалось, что Никита уже стал забывать своего отца. Никита, в это время рисовавший карту Южной Америки по настоянию матушки (она считала, что за время каникул он обленился), думал о том, что он ничуть не забыл Василия Никитьевича и с огромной радостью вспоминал его сейчас. Он представил его перед собой.
«…он видел краснощёкое, с блестящими глазами и блестящими зубами, весёлое лицо отца — тёмная борода на две стороны, громкий похохатывающий голос».
Матушка часто ругала Василия Никитьевича за беспечность и легкомысленность его поступков. Бывало, что отец Никиты тратил большие деньги на совершенно ненужные или лишние вещи, выдумывал странные идеи.
Аркадий Иванович, как и матушка, тоже грустил, переживая свою разлуку. Он думал о своей невесте, городской учительнице Вассе Ниловне. Никита тоже стал думать о своей разлуке с Лилей. Прямо на карте, под Америкой, мальчик написал выдуманные им самим слова: «Пролетели счастливые дни». Тем временем учитель внимательно наблюдал, что делает с картой Никита.
Глава 18. Будни
Наступили сильные морозы. Никиту редко выпускали на прогулку. Аркадий Иванович ввёл новый сложный предмет — алгебру. Но Никита не мог погрузиться в учёбу, потому что не знал, за что можно «зацепиться» в этом предмете: алгебра ему казалась совершенно «сухой».
Сидя дома, Никита приходил в кабинет отца и читал, сидя у печи на диване, книги Фенимора Купера. Мальчик мог подолгу фантазировать, как он совершает подвиги: спасает Лилю на мустанге от похитивших её индейцев, стреляет в их предводителя, который стоит на самой вершине скалы.
Когда матушка разрешала выйти из дома, Никита бродил один во дворе. Он всё скучал по Лиле, ходил по тем местам, где они вместе гуляли, вспоминал счастливые моменты, проведённые с голубоглазой девочкой. Ему казалось, что раньше он плохо ценил своё счастье.
Матушка стала замечать его грустное настроение, поэтому отправляла его спать пораньше, а также попросила Аркадия Ивановича отменить алгебру, велела давать сыну касторки. Никите стало лучше. Но по-настоящему повеселел он только тогда, когда с юга стал дуть сырой и сильный ветер.
Глава 19. Грачи
В воскресенье Никита зашёл в людскую. Там играли в карты рабочие: «Василий, Мишка Коряшонок, Лекся-подпасок и Артём — огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом». Артём был безлошадным бобылём, очень хотел жениться. С недавних пор он стал заглядываться на Дуняшу — девушку, которая смотрела за молочным хозяйством. Пахом сидел на лавке у печи и подшивал голенище. Он не хотел играть в карты с остальными, так как был против этих игр. Никита сел играть с рабочими и сразу проиграл.
Пахом позвал стряпуху, чтобы та покормила их. Василий стал креститься перед бумажной иконой. Вскоре вошла стряпуха Степанида с обедом. Рабочие, игравшие в карты, сели есть похлёбку «из бараньих голов». Пахом ел постное — картошку с солью.
Никита вышел из людской. День был туманный, дул влажный и тяжёлый ветер. Мальчик побрёл к плотине. В облаках вились и тревожно кричали чёрные грачи. Никита, подняв голову, смотрел в высоту. Птицы кричали о чём-то смутном, но в месте с тем и о радостном. Грачи прилетели обратно, к своим оставленным в прошлом году гнёздам. Пришла весна.
Глава 20. Домик на колёсах
Все эти дни Никита был сонный, ему было тревожно, болела голова. Он чувствовал, что в чём-то виноват, хотя ничего плохо не делал. Матушка смотрела на него строго. Никите всё казалось: что-то должно произойти — странное, страшное, но не знал что это может быть, и любопытство донимало его.
При этом мальчик будто одичал, ему было отчего-то горько. Вся природа вокруг вдруг стала Никите чужой. Гуляя в поле, он нашёл плугарскую будку на колёсах. Войдя, мальчик осмотрелся и стал просить Господа Бога, чтобы всё снова стало хорошо, чтобы всё расцвело и вышло солнце, и чтобы снова стало у него на душе легко. После этого Никите и правда стало лучше. Матушка на него вновь смотрела ласково и приветливо.
Глава 21. Необыкновенное появление Василия Никитьевича
Ночью пошёл дождь — он обрадовал проснувшегося Никиту. Теперь мальчик был уверен, что всё будет хорошо. А наутро снег совсем растаял. Небо постепенно освобождалось от туч, становилось голубым. Матушка волновалась, что отца до сих пор нет, и уже пятый день не было почты. Когда потекли вешние воды, Никита побрёл по двору, дошёл до оврага. Он шёл вдоль течения воды по траве, мечтательно рассматривая бегущие ручьи. На другой стороне оврага было поле.
«Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лощадях. Передний, оборачиваясь, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой верёвок. По пегой лошади Никита признал в нём Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест».
Скакали верховые в направлении деревни Хомяковки, располагавшейся на другой стороне реки. Никите увиденное показалось очень странным, ведь погода не позволяла ездить верхом. Мальчик добрёл до нижнего пруда. На плотине появился Стёпка Карнаушкин верхом на лошади. Теперь Никита понял: что-то произошло. Мальчик побежал домой. Возле «чёрного крыльца» стояла лошадь Стёпки. Он приехал, чтобы рассказать о случившемся: отец Никиты тонет около деревни Хомяковки. Все домашние были очень напуганы. Матушка потом рассказывала, что Никита в тот момент «зажмурился и, как заяц, закричал». Сам же мальчик этого не запомнил. Аркадий Иванович успокаивал ребёнка, но его самого трясло.
Рабочие заложили крепкого коня Негра в санки — спасать Василия Никитьевича. Матушка с Никитой сидели в ожидании возле окна в столовой, смотрели вдаль, где виднелась Хомяковка. Вечером рабочие привезли раскрасневшегося, промёрзшего отца, укрытого ворохом тёплой одежды. Он был жив.
Глава 22. Как я тонул
В этот же день, сидя за горячим чаем, Василий Никитьевич рассказал, как и почему он тонул. Никита сидел на стуле, забравшись на сидение с коленями, животом навалившись на стол, и внимательно слушал отца.
Из Самары Василий Никитьевич выехал три дня тому назад. В городе некий Поздюнин пристал к нему с просьбой купить красивого и умного жеребца по имени Лорд Байрон. Отец Никиты влюбился в этого коня и, поддавшись соблазну, всё-таки его купил. Василий Никитьевич не хотел оставлять новую лошадь одну в Самаре. На рассвете отцу заложили Лорда, и он выехал один из города. Когда дорога стала непроходимой, Василий Никитьевич решил остановиться на ночлег в Колдыбани, «у батюшки Воздвиженского». С попом они спорили до самой полуночи — доедет Василий Никитьевич до родной усадьбы в такую погоду или нет? Отец Никиты доказывал, что доедет. Ночью, как не беду, пошёл дождь. Но Василию Никитьевичу не терпелось повидаться с семьёй, ведь он находился «в двадцати верстах от Сосновки». Утром дождь закончился, и отец выехал на Байроне. Ехал он по бездорожью, кругом была вода. Проехали за Хомяковку, чтобы перейти речку вброд — это получилось. Дальше было три оврага, а в них вода — «сажени три глубины». Василий Никитьевич выпряг Лорда и поскакал на нём верхом. Подойдя к оврагу, Байрон прыгнул в него и ушёл под воду «по самую шею». Отец слез с коня и точно также ушёл под воду. Больше часа барахтались они с конём в воде, смешанной со снегом, но постепенно «выбились» на «чистую воду». В итоге Василия Никитьевича и Лорда Байрона прибило к берегу, на который они смогли поочерёдно выбраться. Но дальше было ещё два оврага. Вдруг отец увидел, что к ним на помощь скачут верховые.
После длинного рассказа у Василия Никитьевича сделался озноб, и его уложили в кровать.
Глава 23. Страстная неделя
Шла Страстная неделя. Отец три дня лежал в жару, а потом стал постепенно выздоравливать. В его планах была подготовка к посеву. В доме шла большая уборка. Александра Леонтьевна тоже принимала в ней участие, поэтому к концу недели утомилась. В пятницу в доме начали печь куличи. Никита и Аркадий Иванович красили яйца.
В субботу многие из людской и из дома ушли в село Колокольцовку, которое располагалось «за семь вёрст» от усадьбы, к Великой заутрене. Уставшая матушка и отец, а также Аркадий Иванович, который не получил письма от невесты и был в расстроенных чувствах, остались дома. Никита «на вечерней заре» поехал к заутрене с дворовым мужиком Артёмом.
Глава 24. Дети Петра Петровича
Остановились Никита и Артём у Петра Петровича Девятова, старого друга Василия Никитьевича, который держал в дальней деревне бакалейную лавку. У Девятова было семь детей: «Володя, Коля, Лёшка, Лёнька-нытик», двое совсем маленьких и девочка Анна, ровесница Никиты. Пётр Петрович ещё до рассвета ушёл в церковь. Его жена Марья Мироновна наказала всем детям отдыхать в комнате тихо.
Никита и дети Девятова лежали на полу «на двух ситцевых перинах». Мальчик познакомился с ребятами. Ребята рассказывали о себе разные небылицы. Девочка Анна часто подходила к дверям комнаты, где отдыхали мальчики, и уличала их в обмане, просила Никиту не верить им. После каждого вранья ребят, она, вздыхая, произносила: «Неправдычка». Мальчики её каждый раз прогоняли. Только молчаливый Коля её защищал.
Лёшка говорил, будто на прошлую Пасху он съел двести яиц, что под водой он может подолгу не дышать и всё видит, от этого якобы в прошлом году у него в голове завелись блохи и червяки. Володя говорил, что завтра сам пойдёт звонить в колокола: в мелкие — левой рукой, а правой — в большой, в котором «сто тысяч пудов». Ребята рассказывали, какой их отец сильный, может коня за передние копыта поднимать. Лишь один Коля лежал молча и всё смотрел на Никиту по-доброму и улыбался ему одними глазами. Про него ребята сказали, что плавать он не умеет, а только читает книжки, поэтому отец хочет определить его учиться в город.
Так они и проговорили до того самого времени, когда надо было собираться идти на заутреню.
Глава 25. Твёрдость духа
После заутрени в доме Петра Петровича был накрыт стол. Когда Никита лёг спать, он вспоминал, что он слышал и видел в церкви — перед глазами вставало всё, что было на заутрене.
«И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества свечей перед сусальными ризами и сквозь синеватые клубы ладана, вверху, под церковным, в золотых звездах, синим куполом, — голубя, простершего крылья. За решетчатыми окнами — ночь, а голоса поют, пахнет овчиной, кумачом, огни свечей отражаются в тысяче глаз, отворяются западные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого, — все простилось в эту ночь».
Утром Никита и все без исключения дети Девятова «пошли к мирскому амбару на сухой выгон». Собираясь небольшими группами, они играли в разные игры. Никита пытался подойти к кому-нибудь, но за ним увязалась Анна. Ребята начали посмеиваться над ним. Никита понял, что понравился девочке, но проявил твёрдость духа и не стал с ней играть, потому что не мог предать Лилю.
Глава 26. Весна
Шла весна. Солнце теперь светило особенно ярко. Пахло весенним ветром, свежей травой. На деревьях распустились почки. С каждым днём в саду становилось всё больше и больше птиц.
Как-то раз Никита сидел возле дороги и смотрел, как по выгону ходит табун: мерины, кобылы, жеребята. В это время по дороге в открытой повозке ехал весёлый Василий Никитьевич. Он увидел сына и, остановившись, спросил: кто из табуна больше всего нравится Никите? Мальчик показал на тёмно-рыжего кроткого жеребёнка Клопика. После этого отец поехал дальше. Никита смекнул, что отец неспроста задал ему такой вопрос.
Глава 27. Поднятие флага
Одиннадцатого мая — день рождения Никиты. Было назначено «поднятие флага» на пруду. Никите шутя присвоили звание адмирала. В столовой отец поздравил сына, подарил ему перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, «весьма пригодный для морского дела».
После чая отец с матушкой и Аркадий Иванович пошли с Никитой на пруд. На берегу стояла лодка — подарок отца. Василий Никитьевич, напевая морской марш, развернул флаг с изображением красной лягушки на задних лапах. Никита сел в лодке у руля, учитель взял вёсла, и они поплыли по воде. На берегу стояли радостные отец и мать.
Глава 28. Желтухин
Никита нашёл возле дома выпавшего из гнезда скворца, принёс его домой. Назвали его Желтухин. Посадили его на подоконник открытого окна, затянутого марлей со всех сторон. Никита приносил ему червей и мух, в блюдце — водичку. Скворец поначалу боялся мальчика и считал, что тот его съест. Когда кот Василий Васильевич прорвал марлю, чтобы поймать птицу, Никита вовремя оттащил зверя от Желтухина. После этого случая скворец стал доверчивее к мальчику. Потом Желтухину соорудили домик из дерева — с крылечком, дверкой и двумя окошками.
Так скворец и поселился в усадьбе. Днём жил в саду, а вечером возвращался в домик, научился по-русски говорить. В конце лета его «сманили дикие скворцы», обучили летать, и к осени Желтухин улетел вместе с перелётными птицами.
Глава 29. Клопик
Когда с весенними работами в поле было покончено, наступило свободное время до покоса. Рабочие лошади теперь ходили за прудом, на лугах в табуне, при котором состоял конюшонком Мишка Коряшонок. Никита стал ходить к нему за пруд обучаться верховой езде, ведь отец подарил ему Клопика. Матушка переживала, что Никита не сможет ездить на необъезженной лощади и обязательно что-нибудь себе сломает. Но отец уверил её, что мальчик должен быть в этом возрасте самостоятельным, и матушка сдалась, разрешив ребёнку учиться ездить верхом.
Василий Никитьевич объявил сыну, что он должен научиться чистить, взнуздывать и седлать лошадь, «и после езды — вываживать». Только тогда он станет отличным кавалеристом. Из конюшни вывели Клопика. Никите позволили самому оседлать коня. Мальчику нелегко давался процесс, о котором говорил отец, но всё же ему удалось обуздать его при помощи кучера Сергея Ивановича.
В заложенную тройку с запряжённым в неё Лордом Байроном сели отец и мать, и поехали. Никита на Клопике ехал рысью рядом с ними. Когда тройка набрала ход, Клопик пустился в галоп и догнал коляску с родителями. Никита был в восторге:
«Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера»
Глава 30. В купальне
В тёплую летнюю погоду Василий Никитьевич, Никита и Аркадий Иванович ходили купаться на пруд, к купальне. Пока отец Никиты намыливался, учитель уже прыгал в пруд. Мальчик сидел на лавочке и ожидал, когда отец закончит мыться. Когда Василий Никитьевич произносил «поплыли», Никита бросался в пруд и плыл рядом с ним. Он хотел, чтобы отец похвалил его, ведь этим летом Никита хорошо научился плавать.
Они шутили с Аркадием Ивановичем: подплывали к учителю с двух сторон и «топили его», ловя за ноги. Обычно Аркадий Иванович успевал уплыть от них и выбраться из воды.
Возвращаясь после водных процедур, все трое встречали Александру Леонтьевну, которая была в халате и чепчике. Она сообщала, что «чай накрыт в саду», и предупреждала, чтобы они её не ждали: теперь была её очередь купаться.
Глава 31. Стрелка Барометра
Наступила засуха. Все в доме были озабоченные и серьёзные. Домашние были удручены тем, что урожай от зноя может погибнуть, и зима будет голодная. Стрелка барометра всё время указывала на деление «сухо, очень сухо». Аркадий Иванович был особенно печален, ведь его невеста не сможет приехать в Сосновку из-за болезни матери.
После обеда родители Никиты легли отдыхать. В комнату к мальчику влетел Желтухин. Никита накормил его. Вдруг скворец сел на карниз футляра барометра. Барометр показывал, что будет буря. Никита побежал рассказать об этом родителям. Вечером усилился ветер, хлынул дождь, отчего приятно запахло влагой. Так буря спасла урожай.
Глава 32. Письмецо
Однажды отец послал Никиту за почтой. Мальчик приехал на Клопике в село Утевку, на базарную площадь, где располагалось почтовое отделение. Почтмейстер Иван Иванович Ландышев часто пьянствовал, отчего люди боялись заходить на почту. Кроме того, он не отдавал газеты и журналы, пока сам их не прочтёт от корки до корки. На этот раз Никите тоже не удалось их взять. Получив только письма, он отправился домой через степь. Пустив коня «вольным ходом», мальчик стал пересматривать стопку писем.
Одно письмо было маленькое «в светло-лиловом конвертике, надписанное большими буквами “Передать Никите”», написано оно было на кружевной бумаге. Послание было от Лили. В нём девочка писала, что живёт на даче в Самаре и ничуть не забыла своего друга и события этой зимы, и подаренное Никитой колечко не потеряла. «Я вас очень люблю», — писала Лиля. Перечитав несколько раз, Никита летел на Клопике, чувствуя себя счастливей всех на свете.
Глава 33. Ярмарка в Пестравке
Отец Никиты очень хотел поехать на ярмарку в Пестравку, но Александра Леонтьевна была против, потому что боялась, что он опять потратится. Василий Никитьевич хотел продать в Пестравке лошадь Заремку, потому что она «кусается и бьёт задом». В итоге сошлись на том, что отец всё-таки поедет, но не будет тратить много денег, для этого он продаст два воза яблок. Никита попросился ехать «на возах» рядом с Мишкой Коряшонком.
На ярмарке Василий Никитьевич недорого приобрёл «партию верблюдов», а Заремку продал некоему Медведеву и яблоки отдал ему в придачу. На следующий день отец собирался пойти смотреть ещё тройку серых лошадей. Он понимал, что дома ему попадёт от Александры Леонтьевны.
Глава 34. На возу
В августе целыми днями Никита пропадал с отцом на молотилке. Вечером на возу, полном соломы, усталый Никита ехал домой после трудового дня, от которого осталось столько впечатлений. Мальчик вспоминал, как свирепо выл барабан, съедая снопы, и гнал «в пыльные недра молотилки солому и зерно». Никита очень любил эти моменты возвращения «с молотьбы».
«В степи было теперь совсем темно. Всё небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звёздной пыли шёл ветерок. Разостлался светящимся туманом Млечный Путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звёздами, покойно глядел на далекие миры».
Наблюдая за чудесным вечерним небом, мальчик мечтательно думал, что когда-нибудь он сядет на воздушный корабль и улетит далеко-далеко. Подходили к концу труды всего года. Уже близилась осень.
Глава 35. Отъезд
Наконец наступила осень. Василий Никитьевич вновь уехал в Самару, там он удачно продал пшеницу. Оттуда он писал, что его дело с наследством так и не продвинулось, поэтому он должен был остаться в городе. Но чтобы не разлучаться с родными, он хотел, чтобы вся семья переехала жить в город. Ещё отец решил, что Никита должен поступить в гимназию. Матушка согласилась ехать к отцу, но сама она не любила городскую жизнь. Аркадий Иванович был рад переехать в Самару, чтобы увидеть свою возлюбленную.
Приехав в город и подъехав к одноэтажному дому белого цвета, матушка, Аркадий Иванович и Никита увидели отца, выбегающего им навстречу. Никита первым переступил порог нового жилища. В зале он увидел Лилю. Она спросила, получил ли мальчик её письмо, и услышав утвердительный ответ, попросила вернуть ей письмо. Девочка расстроилась, что Никита ей не ответил. Мальчику стало совестно, что за деревенскими заботами он забыл это сделать. Он извинился перед Лилей, и она простила его «на этот раз». Девочка сообщила ему, что поступила в первый класс гимназии.
Аркадий Иванович вместе с Никитой заносили вещи в новую комнату мальчика. В доме было семь комнат — тесноватых, необжитых. Время в городе шло быстрее, чем в деревне. На улице всё время было шумно. Никита чувствовал себя здесь чужим. Ночью мальчику снилось, будто он, стоя перед Лилей «в синем мундире с серебряными пуговицами», возвращает голубоглазой девочке письмо.
На следующее утро Аркадий Иванович и Никита с матушкой пошли говорить с директором гимназии. Через неделю Никита сдал вступительный экзамен и поступил во второй класс.
Автор: Диана Танцур
Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!
Приди, о муза благодатна,
В венке из юных роз, с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды
И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей природы.
Как солнца за горой пленителен закат, —
Когда поля в тени, а рощи отдаленны
И в зеркале воды колеблющийся град
Багряным блеском озаренны;
Когда с холмов златых стада бегут к реке
И рева гул гремит звучнее над водами;
И, сети склав, рыбак на легком челноке
Плывет у брега меж кустами;
Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,
И веслами струи согласно рассекают;
И, плуги обратив, по глыбистым браздам
С полей оратаи съезжают…
Уж вечер… облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает,
Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осененный.
Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
Чуть слышно над ручьем колышется тростник;
Глас петела вдали уснувши будит селы;
В траве коростеля я слышу дикий крик,
В лесу стенанье филомелы…
Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч?
Восточных облаков хребты воспламенились;
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;
В реке дубравы отразились.
Луны ущербный лик встает из-за холмов…
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!
Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем…
О дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!
Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!
О братья! о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные природе,
Хранить с огнем души нетленность братских уз?
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишенный спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,
Тащиться осужден до бездны гробовой?..
Один — минутный цвет — почил, и непробудно,
И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой… о небо правосудно!..
А мы… ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в сердце вспоминанье
О радостях души, о счастье юных дней,
И дружбе, и любви, и музам посвященных?
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных…
Мне рок судил: брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!
Кто, в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и холмы облачает
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,
Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!
Так, петь есть мой удел… но долго ль?..
Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!
Краткое содержание

И. Шишкин. Вечер. 1871
В элегии повествование ведётся от первого лица. Романтический герой (поэт) предаётся размышлениям о собственной судьбе, о близких людях. Всё поэтическое «полотно» произведения имеет тесное переплетение с пейзажными описаниями. С первых строк поэт погружает читателей в мир спокойствия, описывая тихий ручей. Перед нами возникает множество описаний мелких деталей окружающего мира в вечернее время, и, при этом, нет ни одного лишнего. Множество деталей, описанных автором, способствуют подчёркиванию великолепия вечернего времени суток, органично вплетаясь в целостную картину восприятия лирического героя.
Несмотря на тот факт, что поэт написал данное стихотворение в молодости, его мысли свидетельствуют о том, что для него всё уже давно осталось далеко позади. Он вспоминает потерянных друзей, безвременно ушедших в иной мир. На мыслях о втором товарище лирический герой внезапно смолкает, тем самым давая понять, что не готов выступать судьёй чужим поступкам. Он позволяет себе сообщить лишь о том, что хочет, чтобы память о верных друзьях навсегда осталась в его сердце.
В заключительных строчках элегии лирический герой заводит речь непосредственно о самом себе. Мы понимаем, он настроен на меланхоличное, чрезвычайно тоскливое восприятие мира, раздумья о бренности всего сущего на земле.
История создания
Эта восхитительная элегия увидела свет в 1806 г. В год её написания Жуковский, будучи ещё совсем молодым человеком, успешно окончил Московский пансион и отправился пожить на свою малую родину, в село Мишенское. Местная сельская природа славилась разнообразием, широтой и красотой. Проживая среди природной красоты окружающих сельских просторов, Жуковский вдохновился на написание романтической элегии.
Жанр, направление, размер
Перед нами яркий образец самой первой романтической элегии в истории русской литературы. Благодаря обращению к жанру романтической элегии, Жуковский сумел в полной мере донести до читателей всю глубину философских раздумий романтического героя. Так как повествование ведётся от первого лица, читатели могут наблюдать за отношением самого автора к извечным мировоззренческим проблемам.
Поэтический размер – шестистопный ямб. Рифмовка перекрёстная.
Композиция
Элегия включает в себя тридцать две строфы (катрена). В каждой строфе – четыре строчки. С семантической точки зрения, элегию можно разделить на три части:
- Первая часть – описание пейзажа родного края. Поэт не просто повествует о том, что наблюдает вокруг, а искренне любуется величием местной природы: покоем равнины, многоголосьем птичьего «хора», легкостью ветерка, колыханием листьев ивняка и пр.
- Вторая часть включает в себя личные переживания лирического героя (поэта) и его воспоминания.
- Третья часть включает размышления автора о роли и месте поэта в социуме.
Образы и символы
В элегии представлена богатая образная палитра, созданная поэтическим талантом Жуковского:
- образ лирического героя – центральный. Повествование ведётся от личного местоимения «Я», поэтому лирический герой полностью слит с поэтом. Герой не способен представить себе свою дальнейшую судьбу, но он не может не признать, что будущее неизбежно. Он мечтает служить своей поэтической Музе, ради которой готов навсегда остаться в одиночестве, отрекшись даже от близких и друзей. Герой уверен, единственную ценность для него представляют «диалоги» с Музой. Поэту нравится умиротворённое существование, исключающее любые споры и притязания. Он желает воспринимать красоту мироздания во всех ипостасях;
- образ вечера – центральный. Данное время суток вынесено в название произведения. Для лирического героя вечер символизирует переходное состояние от светлого к тёмному, от солнечного дня – к чёрной ночи. Вечером все привычные предметы и явления выступают в непривычных для себя очертаниях и оттенках. Поэт воссоздаёт удивительную атмосферу таинственности, сна и меланхолии. В вечернее время поэт открывается природе (мирозданию), тем самым соглашаясь с мыслью о могуществе Всевышнего, и соглашаясь с утверждением, что суть его могущества заключена в слиянии с природой;
- образы близких друзей – поэт предаётся воспоминаниям о своих товарищах, которые отсутствуют рядом. Когда-то они дарили ему вдохновение и радость, но сейчас он пребывает в плену одиночества. Друзья больше не способны подарить радость и оживить дни поэта. Он замечает: «Так, петь есть мой удел…»;
- образ смерти – в заключительных строчках элегии поэта посещают мысли о неизбежности смерти: «… но долго ль? … Как узнать?». Лирический герой не может знать, долгим ли будет его жизненный путь, и что уготовила ему судьба, но он готов ей полностью покориться, не предавая при этом своё предназначение творца;
- образ природы – всё то, что поэт описывает читателям, представляется неким абстрактным образом русской природы в средней полосе страны. Всё, чем любуется поэт, окружает его в родном селе Мишенское – это поля, дубравы, рощи, речка, закаты над горой и пр. Лирический герой с восхищением воспринимает красоту природы, ощущая своё единение с ней. Поэт делает вывод о сути своего предназначения: слагать песни «во славу Божию», писать о товарищах, воспевать любовь и счастье.
Темы и настроение
Основная тема элегии, поднимаемая Жуковским – это его личные размышления о собственной судьбе, воспоминания об ушедших друзьях в тесном переплетении с восхитительными картинами природных красот. Также поэт касается ещё одной важной темы – быстротечности человеческой жизни. Человек, по мнению автора, живёт циклично, как и природа. К сожалению, смена циклов человеческой жизни происходит очень быстро, ровно так же, как и смена времён года в природе.
Настроенческий пафос произведения проникнут эмоциями тоски, разочарования, неуверенности в завтрашнем дне, зыбкости происходящего. Лирический герой осознаёт, что его судьбу ничто не способно изменить. Если ему уготовано судьбой иметь поэтический талант, ценить и понимать красоту окружающей природы, значит, он должен писать стихи, покорно снося многочисленные удары судьбы.
Основная идея
Основная мысль, которую стремится донести до читателей Жуковский, заключается в следующем утверждении: истина, к которой стремятся люди, находится в обретении гармонии между человеком и природой, а также в потребности любить и верить.
Средства выразительности
С целью раскрытия основной идеи произведения, Жуковский создаёт следующие средства выразительности:
- эпитеты – «ущербный лик луны», «виющийся ручей»;
- анафора – «Как слит с прохладою…»;
- обобщение – «Приди, о Муза»;
- восклицательные и вопросительные предложения – «Ах!», «Но что?»;
- звукопись – «поток «журчит», тростник «колышется»;
- сжатые фразы – «Всё тихо; рощи спят; в окрестности покой»;
- аллитерации – «И вёслами струи согласно рассекают», «В дубраве упредить пернатых пробуждение».
Ирина Зарицкая | Просмотров: 250 | Оценить:
Ручей, виющийся по светлому песку,
Как тихая твоя гармония приятна!
С каким сверканием катишься ты в реку!
Приди, о муза благодатна,
В венке из юных роз, с цевницею златой;
Склонись задумчиво на пенистые воды
И, звуки оживив, туманный вечер пой
На лоне дремлющей природы.
Как солнца за горой пленителен закат, —
Когда поля в тени, а рощи отдаленны
И в зеркале воды колеблющийся град
Багряным блеском озаренны;
Когда с холмов златых стада бегут к реке
И рева гул гремит звучнее над водами;
И, сети склав, рыбак на легком челноке
Плывет у брега меж кустами;
Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,
И веслами струи согласно рассекают;
И, плуги обратив, по глыбистым браздам
С полей оратаи съезжают…
Уж вечер… облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает,
Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;
Простершись на траве под ивой наклоненной,
Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
Поток, кустами осененный.
Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
Чуть слышно над ручьем колышется тростник;
Глас петела вдали уснувши будит селы;
В траве коростеля я слышу дикий крик,
В лесу стенанье филомелы…
Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч?
Восточных облаков хребты воспламенились;
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;
В реке дубравы отразились.
Луны ущербный лик встает из-за холмов…
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!
Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем…
О дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!
Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!
О братья! о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные природе,
Хранить с огнем души нетленность братских уз?
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишенный спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,
Тащиться осужден до бездны гробовой?..
Один — минутный цвет — почил, и непробудно,
И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой… о небо правосудно!..
А мы… ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в сердце вспоминанье
О радостях души, о счастье юных дней,
И дружбе, и любви, и музам посвященных?
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных…
Мне рок судил: брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Блажен, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!
Кто, в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и холмы облачает
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,
Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!
Так, петь есть мой удел… но долго ль?..
Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!
Краткое содержание
И. Шишкин. Вечер. 1871
В элегии повествование ведётся от первого лица. Романтический герой (поэт) предаётся размышлениям о собственной судьбе, о близких людях. Всё поэтическое «полотно» произведения имеет тесное переплетение с пейзажными описаниями. С первых строк поэт погружает читателей в мир спокойствия, описывая тихий ручей. Перед нами возникает множество описаний мелких деталей окружающего мира в вечернее время, и, при этом, нет ни одного лишнего. Множество деталей, описанных автором, способствуют подчёркиванию великолепия вечернего времени суток, органично вплетаясь в целостную картину восприятия лирического героя.
Несмотря на тот факт, что поэт написал данное стихотворение в молодости, его мысли свидетельствуют о том, что для него всё уже давно осталось далеко позади. Он вспоминает потерянных друзей, безвременно ушедших в иной мир. На мыслях о втором товарище лирический герой внезапно смолкает, тем самым давая понять, что не готов выступать судьёй чужим поступкам. Он позволяет себе сообщить лишь о том, что хочет, чтобы память о верных друзьях навсегда осталась в его сердце.
В заключительных строчках элегии лирический герой заводит речь непосредственно о самом себе. Мы понимаем, он настроен на меланхоличное, чрезвычайно тоскливое восприятие мира, раздумья о бренности всего сущего на земле.
История создания
Эта восхитительная элегия увидела свет в 1806 г. В год её написания Жуковский, будучи ещё совсем молодым человеком, успешно окончил Московский пансион и отправился пожить на свою малую родину, в село Мишенское. Местная сельская природа славилась разнообразием, широтой и красотой. Проживая среди природной красоты окружающих сельских просторов, Жуковский вдохновился на написание романтической элегии.
Жанр, направление, размер
Перед нами яркий образец самой первой романтической элегии в истории русской литературы. Благодаря обращению к жанру романтической элегии, Жуковский сумел в полной мере донести до читателей всю глубину философских раздумий романтического героя. Так как повествование ведётся от первого лица, читатели могут наблюдать за отношением самого автора к извечным мировоззренческим проблемам.
Поэтический размер – шестистопный ямб. Рифмовка перекрёстная.
Композиция
Элегия включает в себя тридцать две строфы (катрена). В каждой строфе – четыре строчки. С семантической точки зрения, элегию можно разделить на три части:
- Первая часть – описание пейзажа родного края. Поэт не просто повествует о том, что наблюдает вокруг, а искренне любуется величием местной природы: покоем равнины, многоголосьем птичьего «хора», легкостью ветерка, колыханием листьев ивняка и пр.
- Вторая часть включает в себя личные переживания лирического героя (поэта) и его воспоминания.
- Третья часть включает размышления автора о роли и месте поэта в социуме.
Образы и символы
В элегии представлена богатая образная палитра, созданная поэтическим талантом Жуковского:
- образ лирического героя – центральный. Повествование ведётся от личного местоимения «Я», поэтому лирический герой полностью слит с поэтом. Герой не способен представить себе свою дальнейшую судьбу, но он не может не признать, что будущее неизбежно. Он мечтает служить своей поэтической Музе, ради которой готов навсегда остаться в одиночестве, отрекшись даже от близких и друзей. Герой уверен, единственную ценность для него представляют «диалоги» с Музой. Поэту нравится умиротворённое существование, исключающее любые споры и притязания. Он желает воспринимать красоту мироздания во всех ипостасях;
- образ вечера – центральный. Данное время суток вынесено в название произведения. Для лирического героя вечер символизирует переходное состояние от светлого к тёмному, от солнечного дня – к чёрной ночи. Вечером все привычные предметы и явления выступают в непривычных для себя очертаниях и оттенках. Поэт воссоздаёт удивительную атмосферу таинственности, сна и меланхолии. В вечернее время поэт открывается природе (мирозданию), тем самым соглашаясь с мыслью о могуществе Всевышнего, и соглашаясь с утверждением, что суть его могущества заключена в слиянии с природой;
- образы близких друзей – поэт предаётся воспоминаниям о своих товарищах, которые отсутствуют рядом. Когда-то они дарили ему вдохновение и радость, но сейчас он пребывает в плену одиночества. Друзья больше не способны подарить радость и оживить дни поэта. Он замечает: «Так, петь есть мой удел…»;
- образ смерти – в заключительных строчках элегии поэта посещают мысли о неизбежности смерти: «… но долго ль? … Как узнать?». Лирический герой не может знать, долгим ли будет его жизненный путь, и что уготовила ему судьба, но он готов ей полностью покориться, не предавая при этом своё предназначение творца;
- образ природы – всё то, что поэт описывает читателям, представляется неким абстрактным образом русской природы в средней полосе страны. Всё, чем любуется поэт, окружает его в родном селе Мишенское – это поля, дубравы, рощи, речка, закаты над горой и пр. Лирический герой с восхищением воспринимает красоту природы, ощущая своё единение с ней. Поэт делает вывод о сути своего предназначения: слагать песни «во славу Божию», писать о товарищах, воспевать любовь и счастье.
Темы и настроение
Основная тема элегии, поднимаемая Жуковским – это его личные размышления о собственной судьбе, воспоминания об ушедших друзьях в тесном переплетении с восхитительными картинами природных красот. Также поэт касается ещё одной важной темы – быстротечности человеческой жизни. Человек, по мнению автора, живёт циклично, как и природа. К сожалению, смена циклов человеческой жизни происходит очень быстро, ровно так же, как и смена времён года в природе.
Настроенческий пафос произведения проникнут эмоциями тоски, разочарования, неуверенности в завтрашнем дне, зыбкости происходящего. Лирический герой осознаёт, что его судьбу ничто не способно изменить. Если ему уготовано судьбой иметь поэтический талант, ценить и понимать красоту окружающей природы, значит, он должен писать стихи, покорно снося многочисленные удары судьбы.
Основная идея
Основная мысль, которую стремится донести до читателей Жуковский, заключается в следующем утверждении: истина, к которой стремятся люди, находится в обретении гармонии между человеком и природой, а также в потребности любить и верить.
Средства выразительности
С целью раскрытия основной идеи произведения, Жуковский создаёт следующие средства выразительности:
- эпитеты – «ущербный лик луны», «виющийся ручей»;
- анафора – «Как слит с прохладою…»;
- обобщение – «Приди, о Муза»;
- восклицательные и вопросительные предложения – «Ах!», «Но что?»;
- звукопись – «поток «журчит», тростник «колышется»;
- сжатые фразы – «Всё тихо; рощи спят; в окрестности покой»;
- аллитерации – «И вёслами струи согласно рассекают», «В дубраве упредить пернатых пробуждение».
Ирина Зарицкая | Просмотров: 250 | Оценить:
Январь, читаю, душа автора, след тигра в зимнем лесу. В начале был голод. Придет новый чародей, накроет наш стол скатертью самобранкой; тяжелы эти черно-белые чаши, чуют срок и черед. Творити книги многи несть конца. Гуляли в снегопаде. К церкви, пекарня, пирожки. Ей плохо, давление, лежит. К перемене погоды. Оттепель. В Манеже выставка, Ю.Медведев, Чернышев, Алексеев. Шестеро в лодке. Повторы, копии. Мокрый снег, слякоть из-под колес. Опять мороз. Сел за стол. В заутрии сей семя твое, и в вечер да не оставляет рука твоя. Юлиан отступник, речь «К царю Солнцу», написал за одну ночь; речь «К Матери Земле» – за две ночи. Проводил в поликлинику. Бледная, похудела, на грани отчаянья. Непосильная ноша для ее хрупких плеч – этот крест. Джек Лондон, 135 лет со дня рождения. «Морской волк», одесская киностудия, 1990 год. Волка Ларсена играет известный актер, литовец. Понедельник. К Нарвским воротам, снять ксерокс с моей повести «Рак на блюде». Там подешевле, скидка для пенсионеров, на рубль с листа. Для сборника «Повести петербургских писателей». Метель, мутно, метро. Вышел на площадь. Ворота триумфальные, зеленые. Вороньи лавры. Толпа, скользят, гололед. Ужас этот снежком припорошен, дьявольское коварство, долго ли шею свернуть. Вечером к Старовойтовым. Коньячок. Косноязычие мастера черных солнц. Утром к метро, розы. Вот и ей 65. Небо голубое, мороз, а я еле тащусь, на ногах гири. К вечеру метель. Гулял в парке, вернулся, стол уже накрыт. Опять оттепель. Мокрые хлопья вьются. Поехали на Литейный, приемная, полковничиха, рыжая, заявление.
Февраль, таянье, серо, тускло, сыплется мокрый снег. Мне 64. Нелепая поездка на Васильевский остров, Михнов, выставка, не нашли. Проболтались четыре часа. Промочила ноги, сердитая. У метро Гарнин, нос к носу. Вечером Лена с Мишей. Напился. Мнози суть высоци и славны, но кротким открываются тайны. В Дом писателя. Алексеев: ты мне тем больше всего нравишься, что не делаешь лишних движений. Отзыв в «Литературной газете». Сергуненков, юбилей. Почто гордится земля и пепел. По всему миру мрут пчелы. Ученые говорят: из-за химикатов и телефонов сотовой связи. По предсказанию Эйнштейна, если на Земле вымрут все пчелы, человечество погибнет. Мороз, солнце, медицинский институт на Садовой, у цирка. Чернышев, Лебедев-Серб, Тропников, Алексеев, Константин Иванов, Сорокин. Шампанское. Алексеев: «Как пишет Овсянников? Вот так: Ночь, улица, фонарь, аптека. Пришел, увидел, победил. Ужасный, мрачный, отвратительный писатель. Ужасная отвратительная поэтика». Лебедев-Серб: «Что в народе говорят об Овсянникове – что он белее Андрея Белого». Выставка Константина Иванова, пл. Чернышевского. Вино, скука, ушел. «Поэтический гений есть истинный человек, а тело или внешняя форма производна от поэтического гения». Вильям Блейк. Снегирек на клене, каждое утро прилетает клевать семена. Пишу плотно. Сократи слово, малыми многая изглаголи. Концерт в Капелле, дирижер из Канады. Дебюсси, Равель, Дворжак. Среди говорящих тварей есть боги, есть люди, а еще есть Пифагор. Феллини, «Джульета и духи», смотрели до часу ночи. Только стал засыпать – зовет, у нее ужасная боль в спине. Растирал мазью, плачет, хочет жить. Утром солнце, яркость. У соседнего высотного дома-башни ослепительно блестят стекла.
Март, мокрый снег, березы за окном. Скрябин. Если бы Бог не любил музыки, я не мог бы ее писать. Я только поднимаю завесу, делаю скрытое явным, я только переводчик. Я ничто, я только то, что хочу. Я бог, я вселенная, я игра. Искусство – это светящиеся звуки. Ничего не создается, все только игра. В кабинете Скрябина перед его пианино висел на стене портрет восточного мудреца, мрачное, дьявольское лицо, работа его друга художника. Скрябин сочинял музыку, сидя перед этим портретом. Рисунок Леонардо да Винчи – голова девушки ( для картины «Мадонна в скалах). И высказывание Леонардо под этим рисунком: «То лицо, которое на картине смотрит прямо на художника, его делающего, всегда смотрит на всех тех, которые его видят». Смысл сказанного словами ( в словах ) и смысл видимого глазами ( в смотрении, когда смотришь) – между ними пропасть. И я слышу: «Или смотри, или говори. Что-нибудь одно». В Мексике выбросило на берег кита, гигант длиной 10 метров. Сто человек сталкивали его обратно в океан. Некоторые астрономы утверждают, что в 2012 году у нас в небе загорится второе солнце, сверхновая звезда. На Земле будут белые ночи. Это и есть предсказание майя о конце эры в 2012 году. Вечером вызывали «Скорую помощь». Лидия Андреевна потеряла сознание, повалилась со стула. Думали – смерть. Нашатырь. Пришла в себя. Мои самые сокровенные, самые дорогие для меня чувства и мысли чужды миру и не стремятся быть понятыми читателем. Франсис Понж. На грани сходства и несходства. Полное сходство вульгарно. Полное несходство – обман. Избегай вульгарности. Также избегай и обмана. Древние египтяне при мумифицировании сохраняли все внутренние органы тела, как необходимые для будущего соединения с духом. Кроме мозга. Мозг они просто выбрасывали, как совершенно ненужное для человека в потусторонней жизни. В филармонию, Лист. В Японии землетрясение, 18 тысяч погибших. Разрушена атомная станция. Взрыв реакторов. В Южно-приморский парк, давненько мы здесь не были. Талый снег, светлая березовая роща. Демьян Бедный, настоящая фамилия – Придворов. Возможно, незаконный сын К.Р., Константина Романова. На столе Демьяна Бедного стоял портрет К.Р. Известно, что К.Р. ему покровительствовал, помог поступить в Московский университет. У Демьяна Бедного был свой личный вагон, подаренный Лениным. Громадная библиотека, собранная из библиотек, реквизированных ЧЕКА. Ушла в поликлинику. Тревожно. В Доме писателя, женский день, читали три писательницы: Жорж Санд, Эмилия Бронте и Вирджиния Вулф. Звонил Алексеев, говорит: « Ты же самурай!». Гулял, ветер. Плеск талых ручьев, льющихся с крыши школы. Иду, опустив руки. Пустота. Исайя. Четыре крыла земли. Гюго, предисловие к «Кромвелю». Художник – внутренний строй, присущий всей природе. А подражатель – тварь дрожащая на всех ветрах. Перевели часы на летнее время. Утром чистое небо, но вот, уже заволакивает, будет, как вчера, буран. Сизо-темное небо в борьбе туч. Во всех сих не отвратится ярость Его, но еще рука Его высока. Забыл, где живу. Забываю вчерашний день. Беспамятство, сырой снег. Скрипим перышком. Осталось лет пять: чудить в этом чаду. 70 – это уже ятаган в тучах. Жалобы турка. Будь самим собой, старая подошва, дырка от бублика. Толпа толкает меня внутрь себя, а там Карамзин с «Бедной Лизой». Поскольку переживания – фундамент моего искусства, я не подлежу изучению. Сезанн. Седеем, грецкий орех, ум за разум. Динамическая, речевая конструкция, Тынянов, чудище-юдище. Оскудеет слава сынов кидарских.
Апрель, клики чаек, проспект Стачек. Купили резиновый коврик под стиральную машину. Солнце в лицо, печет, жарко. У церковных ворот ручьи блестят. Пекарня, проголодались, пирожки горячие, с луком. В квартире душно, топят, как зимой, раскаленная батарея. Старый фильм «Изящная жизнь», немое кино. Перемена погоды, дождь, сырость. В приемную депутата, продуктовые пособия для инвалидов. Крупа, макароны, консервы, подсолнечное масло. Тащим на тележке. Ослабели мы с ней, истощение, тяжелая была зима. Шатает, ноги скользят и подкашиваются. Горе венцу гордыни, на версе горы тучныя, пиянии без вина. И ногама поперется венец гордыни. Система вогнутых зеркал. Если стоять в ней, станешь ясновидящим, тебе откроется прошлое, настоящее и будущее. Болгарская провидица Ванга предсказала 3-ю мировую войну в 2012 году, сохранится только Россия. Россия будет ковчег всего мира. Столицей мира будет Петербург. Звонил Алексеев: мою книгу читает Москва. Поехали за тортом. Яркий день, грохот, приставленная к стене лестница, рабочие снимают вывеску, то ли Саргон, то ли Сайгон, все как во сне. К Нарвским воротам за подстилками для Лидии Андреевны. Там очередь, много таких, ухаживающих за лежачими, у кого муж парализован, у кого жена, у кого что. Обратно троллейбусом, груз громоздкий. Сухо, мутно, дико. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге. Это вещь, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать стихи! Хармс, из письма. Красота – это торжество порядка. Фома Аквинский. Вербное воскресенье. Надо идти от себя, и как можно дальше. Пиза, Галилей, площадь Чудес. ЛЕНЭКСПО, книги, злато слово, речь в микрофон. Оказался в каком-то неизвестном месте, дома кругом, детская площадка. Никак не могу понять, где я. Расспрашивал, как мне попасть на улицу Лени Голикова. Да тут недалеко, говорят, автобус ходит, пять остановок. Добрался до дома в десятом часу.
Цветы, птицы, майское, синее. Мама видится, в ватничке, в платочке. День Победы, Марсово поле, по набережной, Нева слепит. Лица, лица. Изнемогли в толпе, толчее. Грибоедов с отстрелянным пальцем, клен в цвету. Монетка 10 копеек, клейкая, кто-то ее потерял среди разбросанных по земле чешуек и хвостиков. Ветер, мглисто, дождь. Поворачивает к теплу. В Эрмитаже выставка, из Прадо. Тициан, «Венера и клавесин». Устали наши ноженьки кружить по залу. Где бы присесть? Черемуха! Запах донесся еще на дороге, когда еще ее не видел, там, в переулке. У, мировая! Размахнулась во всю Вселенную! Кукушка, туманный голос с того берега. Два рыбака, солнце садится. Упорная строгость, hostinato rigore, – девиз Леонардо да Винчи. Проснулся среди ночи, мешала спать какая-то мысль, которую надо додумать. А проснулся и забыл – что за мысль, о чем. Лежал на спине, слышу: первая электричка. Голова болит, виски сдавило. Отчего эта боль? От забытой мысли? Что я ее забыл? Вот и мучает, мучительница. Ведь мысль – женщина. За окном светло. Сад в зеркалах после дождя. Скворец, блестя мокрой угольной спинкой, гуляет по грядкам, клюет червяков. Живу тут один, тяжелые сны, время сажать и сеять. Вид жаберных, человеко-рыбы, нулевой уровень узнавания. Дух времени в ноздрях моих. Оглянулся: синий купол Троицкого собора. В Екатерининском саду – сирень.
Оредеж. Сижу в лодке, опустив руку в воду. Блеск этот, листья тополей трепещут, такие еще молодые, зеленые. Голос кукушки из леса, гулкий, звонкий. Так и сидел бы тут в безмыслии до скончанья веков. Ветер, веранда, книга. Закатные лучи озаряют страницу; шрифт резкий, как зубья, страшная ясность смысла вонзается в мозг. Вагнер, маленького роста, щуплый, с орлиным носом, очень подвижный, вспыльчивый, непререкаемый, не терпел никаких возражений, тиранический характер. Умер в 70 лет в Венеции от внезапного сердечного приступа, посреди работы, мгновенно. Ходил по комнате, писал статью, вдруг удар в сердце. Успел сказать: «доктора». Упал, агония, смерть. Опять сижу в той лодке, приложив к уху раковину. Вслушиваюсь: внутри зарождается звук, растет. Брахман. Рядом купаются две старухи. Выходят из воды, одна говорит: не пугайтесь, кому мы теперь нужны. И смеется, веселая. Ночь, по дороге кто-то бредет, шатаясь, то ли пьяный, то ли старый. Abussus abussum, бездна бездн. Двуликий быколев сеет в космосе новые знаки. В Вырицу, квитанции за электричество. Жарко, с ног валюсь, частичка бытия, покой и воля. А кто огород будет поливать? Луи Ламбер?
Дождь с утра и, кажется, на весь день. Лук Геракла. Скучно стреле в колчане, состояние неписьма. Лежу, сложив на груди руки, как покойник, тишина мертвая, только электричка прошумит глухо, и опять эта, глубокая, как бездонный колодец, тишина. Но я не верю ей, я знаю, у нее есть голос, и этот голос мне говорит: встань, садись за стол, возьми ручку и пиши. Все равно – что. Пока не начал писать, ты не знаешь – кто ты. До письма ты – никто. Начни писать – и узоры и формы с отпечатка пальцев, которыми ты сжимаешь пишущую ручку, перейдут в слова и фразы на листе бумаги – твой автопортрет. Эти узоры – с отпечатка титанических пальцев, пишущих Книгу чернилами древней крови предков. Это Он, Водолей, водит моей рукой, это его диктант. Жаждущая смысла рассудочность, Юнг. Дождь весь день, как я и предполагал. К вечеру стих. Оредеж в тумане, влажно, матово. Шлепки капель о воду. Полнота, Плерома. С каждой каплей восстанавливается целость мира. Каждое слово земли и воды пишется изнутри мира, всем миром, всем мирозданием. Так в каждое мгновенье восстанавливается мир.
Понедельник. Из соседнего дома пьяный вопль. Сок отравляет шумны мозги. Ставь на проигрыш, поражение – это и есть победа. Поэт начинается там, где кончается человек. Ортега де Гассет. Магическое превращение. Опять стоял на горе, созерцая закат. Что внутри, то и вовне. Во всем видно грустное нутро мира. Лариса, растрепанный голос. Облака, тополиный пух, вой пилы. Он может нести на голове Великий круг, ступать по Великому квадрату, глядя в зеркало Великой чистоты. Стоит ли пожертвовать хоть волоском со своей голени ради пользы Поднебесной? Вещи правильной формы. В городе, день темный, дождь, на Разъезжую. Троянский конь, авторские экземпляры, и черный рак на белом блюде. Никольский собор, облачно, день душный. Тревожное ожидание. Крюков канал, этот антрацит в масляных бликах, колеблются складки, тополиный пух летит. Черный чугун решетки. Весь день на ногах. Екатерину Васильевну привезли из больницы, 94 года, сломанная шейка бедра. Санитары вносят на носилках, громко стонет. Канал, Аларчин мост, музыка из машины на набережной. Спрашивает: что видно в окне? Не расслышав моих слов, просит говорить громче и помедленней, прямо над ее ухом. Таня, сиделка, Джан, Лейли. Низкий полет стрижей, их круженье, как много, как черно. Снова тучи собралися над моею головой. Не знает, что сообщают ему глаза и уши, сквозь пальцы пропускает тьму вещей. Бродить у начала и конца. Странствовать сердцем в пустоте.
Июль, сны. Чжуань-сюй правил, используя магическую силу воды и давая по названиям вод названия должностей. Небесный узор. Ян рождается в знаке цзы, инь рождается в знаке у. Жаркое утро. Сложно-образованные формы облаков, высокая рука Мастера создала эти неведомые шедевры не для моего восторга. Они прячут свою тайну, их превращения мгновенны. Вот, они уже расплываются, распадаются, их форма рушится. Где они? В запасниках каких музеев? Роскошь крошеной ромашки в росе. Четыре «ро», три «ш», семь «о» и «ё». Чудо-строка. Такая, может быть, одна во всей мировой поэзии. Гулял. Господин Люй. Томление. Дева на дороге, отвернулась от моего проницательного взгляда. Только путешествующие во временах способны владеть этим искусством. Грань приобретения и утраты глубока и тонка, неясна и темна. Дух обитает в сердце и управляет формой. Пошел купаться. Уже темнеет. Оредеж обмелел, спустили плотину. Танец привидений в тумане вокруг призрачного центра. Кто познал одно, тот знает всё. Кто не способен познать одно, тот не знает ничего. Обнимает корень Великой чистоты и ничем не обременен, вещи его не тревожат. Поехали на Английский проспект, получить пенсию Екатерины Васильевны на почте по доверенности. Ждал снаружи, ветер, чахлая трава газона. Екатерина Васильевна третий день не ест, не пьет. Пришел священник, соборовать. Душный день. В Русский музей, выставка Бориса Григорьева. «Улица блондинок». Похудела, измождение, усталое, замученное лицо. Оредеж. Туман. Без руля и без ветрил. Грибоедов в Тифлисе при венчании уронил кольцо (трясла лихорадка). Дурная примета. Пушкин тоже уронил кольцо при венчании. Путь в Персию, свадебное путешествие, пышное, радостное, цветы, песни, всадники гарцуют. Обратно – гроб, ночь, факелы, черный Тифлис, траурные полотнища, вопли рыдающих грузинок, Нина Чавчавадзе, мертвый ребенок, мертвый муж. Пушкин, какая встреча, песни Грузии печальной.
Опять один. Един есть Бог, един – Державин. В саду под яблоней. Дао дополняется умом, и от этого возникают заблуждения; сердце обретает глаза, и теряется ясность зрения. Каждый стоит на страже своего дела, не вступая друг с другом в соперничество. Тот, кто постиг корень, не заблудится в верхушке. Великое совершенство похоже на несовершенное, постигается без слов. Сдерживая сиянье, можно устоять. Учитель говорит: «Струна права, это в звуке ложь». Форма – это то, чем соприкасаешься с вещами, чувство же остается скрыто внутри, и тот, кто захочет вывести его наружу, если увлечется формой, то погубит чувство, а если излишне отдастся чувству, убьет форму. Только когда чувство и форма проникают друг друга, является нам Феникс и Цилинь. Мелочью легко нанести урон сути, а это тут же отзовется в форме. Ум мудреца в умении по началу судить о конце и говорить намеками. Если ценить вещи за то, что в них ценно, то все вещи будут ценны; если презирать вещи за то, что в них презренно, то все вещи окажутся презренными. Пружина духа глубоко скрыта, резец не оставляет следа – таково тончайшее мастерство. Недостижимо высокое не может быть мерой для людей. Чувства приходят в движение внутри нас и обретают формы в речах и звуках. Господин формы, хозяин звука, узор – вэнь. Резной дракон. Молния в пепле. Звук есть маленький листок дерева Земли и звезд. Вторник. Умерла Екатерина Васильевна.
Встали в семь. Морг у Троицкого собора. Голубой купол в золотых звездах над нами, солнце, яркий день. Отпеванье, попик в рясе пел перед гробом вечную память. В вагоне душно, Мейстер Экхарт, в переводе Сабашниковой. Надо еще додумать кое-что. Хвостики мыслей. Длань незримо-роковая, металла звон, скрежет тормоза, платформа. Для звуков жизни не щадить. Слышно страшное в судьбе русских поэтов. Приехала, бледная, унылая. Луна-льдинка, холодно, жутко. Как дальше жить, спрашивает. А я не знаю, что ей ответить. Не знаю, не знаю. Жить-тужить. Ничто из ничто создал ничто, как говорит Василид. Идем в Вырицкую церковь Казанской Божьей Матери, пешком по шоссе, жаркий день. В церкви прохлада. Девочка некрасивая бегает. Толстый поп в черной рясе, очень энергичный. Когда мы подходили к церковным воротам, этот поп брызгал святой водой на богатый лимузин, освящал. Сверху с купола стук молотков. Ремонт. Поставили свечку за упокой Екатерины Васильевны. Грибоедов, слова по-кудрявее – это для поэтов. Доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умрети. Радищев «Слово о Ломоносове». Лариса из леса, с черникой, радостная. Вышел: ночь теплая, ни ветерка, сад-Вий, на западе бледно-розово. Мотылек порхнул у самых ресниц, как молния, в пепельных пятнышках, мучнистое тельце. Трепетность, хрупкость. Идем, слышим: гром! Туча черная-пречерная! Скорей обратно. А до дома далеко, не успеем, гроза застанет на дороге, вымокнем насквозь, и спрятаться негде. Гром все резче, страшней, туча все черней, небо закрыла. Вот и змея в глаза, вспышка электросварки. Первая капля клюнула в голову. Бежим, только в калитку и – дождь. Сначала робко, потом разошелся, хлынул ливнем. Стихло, глядим: радуга! В полнеба на сизо-темном небе. Ах, красота! И тает, тает этот цветной поясок. Вот уж ничего и нет. Воскресенье, купались, замерзли, пили водку. Даосская книга «Люйши Чуньцю». Облако в виде человека в лазурном одеянии с красной головой и неподвижного. Имя ему Небесный Враг. Облака, как висящее знамя, красное. Душно. Проводил, уехала. Пена дней. Твари в панцирях, нота – юй, число – шесть, вкус – соленый, запах – гнили, жертвы – входу. На дороге, голоногая, загорелая, в коротеньком, черном платьице на тесемках, посмотрела на меня долгим взглядом. Глаза цыганские, жгучие. Угрюмый тусклый огнь желанья. Лет шестнадцать. Хрупкий свет, на западе розово-пепельно. Ночью гроза. Все небо вспыхивало, как будто гигантский ночной мотылек бился серебристым крылом. И гремело, и вспыхивало долго, час за часом, молнии чертили ослепительные зигзаги неизвестных письмен на пиру Валтасара, а дождь все не начинался. Вот что-то зашелестело в саду, вот гуще, шумней. Долгожданный.
Константин Леоньтьев, роман «Река времен», сжег будучи монахом, чтобы победить соблазн литературы и славы. На Волге потонул лайнер, почти все погибли, сто человек команды, более двухсот пассажиров. Перевернулся по неизвестной причине. Спаслись только те, кто был на палубе, и несколько человек, кто сумел отдраить иллюминаторы в каютах. Иллюминаторы по приказу капитана были все задраены. В глубоком унынии, говорит, что ждет смерти. Ушла за молоком. Длинная шерстяная безрукавка, резиновые калоши. Томик Огарева. «Или в лиловой мгле сияния луны». «При блеске солнечном их яркой белизны». «Досадно нежному слуху», как говорил Тредиаковский. Холод, ливни зарядили, неистощимые, неисчислимые. Что-то невесело нам живется в последнее время. Пора к Свидригайлову в Америку. Тредиаковский разбирает оду Сумарокова. «Что то за диковище? или лучше, что то за сумбур? и толь страннейший, что он здесь прилеплен, как горох к стене. Мне в сочинениях толикия важности не любы ни Нимфы, ни Нептуны, ни другие подобные сумасбродные тени: ибо можно без всех сих пустошей обойтись. Автору надобен токмо звон, а кроме того ни что». Не спится, колесо в мозгу. Топчу тоску. Озарение, откровение, слияние. «Поэзия тебе любезна, приятна, сладостна полезна, как летом вкусный лимонад». Автор «Фелицы». «Потолику между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфекты на богатый стол». Автор «Деидамии». «Коль бы стихи с рифмами не гремели, в начале своем и средине, мужественною трубою; но на конце пищать токмо и врещать детинскою сопелкою. Согласие ритмическое отроческая есть игрушка, недостойная мужеских слухов». Он же. Четверг, туман, накрапывает. Проводил до платформы. Потухший взгляд. Уехала.
Мглисто, Фрейд, подавленность. Ты пьешь волшебный яд желаний. Один в доме. Поднялся по лестнице и – ночь. На печной трубе играют причудливые узоры отраженных листьев, мятущихся в ветре. Иван Крылов, начал писать свои басни в 40 лет в подражание Лафонтену. Слава и тираж изданий больше, чем у Пушкина. Сербский эпос, битва с турками на Косовом поле. И долго сердцу грустно было. Если бы кто-нибудь проносил передо мной картину неизвестного мира в текучей раме сна, одну минуту, хотя бы одну минуту, – может быть, я успел бы ее запомнить и при пробуждении записать? Нет, навряд ли, навряд ли. Мечты и звуки. На почту, платить за электричество. На шоссе машина обрызгала грязью из-под колес, летела, как сатана. Джакобо Леопарди, библиотека 20 тысяч томов, одна из самых больших частных библиотек в мире. Собрал его отец, потратив на книги почти все состояние. О, как писали в мощны годы!
Идем к Троицкому собору. Синий купол в золотых звездах на фоне темной дождевой тучи. Поставили свечки, за здравие и за упокой. Вышли – тротуар мокрый, дождь был. В кондитерскую, пирожные. Опять дождь. Бежим под зонтом до метро. Дома распили бутылку сухого красного вина «Фанагория». У нас, говорит, теперь новый период – старость. Прожили вместе уже 32 года. Метро Чернышевская, встреча, луци у них напряжени. Понедельник, месяц в окне вагона, огромный, красный, сентябрьский. Он звуки льет – они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые. У Аничкова моста расстались: до связи. Сырой ветер в лицо, темно, фонари. Трезвость. На Фонтанку, Антон Рубинштейн. Художнику необходимо признание, иначе его творчество иссякнет, подавленное горечью сомнений в собственном таланте. Богом быть не могу, королем не хочу, я – артист! Две книжных полки с Гражданского проспекта. Облака. Древние индийские трактаты на санскрите, летательные аппараты, виваны. Древний город Мохенджо-Даро ( Холм мертвых), уничтоженный взрывом атомной бомбы. Спираль истории. Все уже было и забылось. Хемингуэй, прочитав рассказ Андрея Платонова «Возвращение» в переводе на английский, воскликнул: «Вот мой учитель!». Полнолуние. Заяц толчет в ступе волшебный корень бессмертных слов. Все лишь ступог к имени, даже ночная Вселенная. Среда, ветер, голос горестный: «Когда же ты вернешься?». Две черных собаки у обочины, нехотя встав, отошли в сторону. Ночь, умный череп. Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой вселенной несчастнее нет человека. Музей Ахматовой, стихи читал, взвизгивая, глухой. Подскочил какой-то: вы автор этой книги? Тютчев за границу взял томик Державина и там сочинял стихи: сей, сея, сии. А вернувшись через 20 лет в Россию, стал писать только: этот, эта, эти. Стучит кулачком по столу: почему у немцев в Мюнхене есть памятник Тютчеву, а у нас в Петербурге нет? Высокая сосна, выставка графики, набережная Робеспьера. Красный свитер, одряхлел. Примирение. Кепочку потерял, не помню, где. А ведь я в ней так симпатичен был и нравился женщинам. На радио, Петроградская, Карповка 43, проливной дождь, еле нашел. Закон скупых чернил, рукопись мира, этот темный, черный, очень черный путь. Тащусь с гирями на ногах. Пятница, ночь темная, одна единственная звездочка подмигивает, подбадривает. Испугал какой-то странный шорох. Как будто что-то внезапно обрушилось около меня в тишине сада. Оказывается, это слива решила стряхнуть с себя все капли, что остались на ней после дождя. Есть еще чудеса на земле.
Солнце, залив, мы одни. Масонский треугольник, Адмиралтейство, сияющая дельта. Санкт-Петербург или Санкт-Питерсбург? Купили пуховик, китайский, с меховым капюшоном. Именно такой она и искала. Пушкин носил два перстня, верил в их магическую силу. На портрете работы Кипренского эти два перстня есть. Один – с изумрудом, талисман, хранил его от всех бед. Второй – с сердоликом, подарок Воронцовой, с караибской надписью, хранил от предательства. На все свои дуэли Пушкин надевал перстень с изумрудом, и всё заканчивалось благополучно. Отправляясь на дуэль с Дантесом, он снял с пальца перстень с изумрудом и оставил его дома. На его место надел перстень с сердоликом. В Эрмитаже Вермеер Дельфтский, «Любовное письмо». Выходим, во дворе листья летят, кувыркаясь, сдуваемые ветром с высоких вековых дубов. Золото в лазури. Николай Аполлонович. Невский проспект – прямолинейный проспект. Угол Садовой и Римского-Корсакова дом № 5. В этом доме она жила до 23 лет. Теперь тут отель в 9 этажей. Просит девушку в баре разрешения посмотреть из окна на то место, где был дом. Уже темно, фонари. Вот, говорит, как молнией ударило. Моя жизнь тут. А вот – и жизнь прошла. Поэтесса, финка, слепая, 16 лет живет в Петербурге, стихи пишет по-фински. Переводчица привела ее сюда за руку. У осьминогов голубая кровь и три сердца. Может быть, они явились с другой планеты. Ныне труп искусства, размалеванный натурой, положен в гроб и запечатан черным квадратом. Похороны Малевича по-супрематически: в ногах красный круг, в изголовье – черный квадрат.
Мойка, мглисто, антрацитная вода, веточка, выросшая из щели в граните; дрожат на ветру листочки, еще зеленые. Жизненная сила. Искали выставку, галерея на пр. Бакунина д. №5, около пл. Восстания. Радиопередача, а мы и забыли. Что ты грустишь? Не грусти. Вот у тебя уже в окно новый день смотрит. Малая Посадская, мечеть в утренней мгле, зелено-голубая шапочка. Едем, Шпалерная. Всех скорбящих радость. Помолиться о книге. Вонми, о небо! Что реку. Земля, услышь мои глаголы! Дом Державина, столпотворение. Здесь все, чьи имена внесены на страницы вечности. В зале, где проходили собрания «Общества любителей Российской словесности». Речи составителей Словаря. Битов, плач Иеремии. Вино на подносах. У леопардов рисунок шкуры индивидуален, так же, как отпечатки пальцев у людей. Рюмка водки, поперхнулся, закашлялся. В голове замутилось. Не видела, была занята разговором с вдовой. Вышли, Нева, свинцово, муть, мглистость эта ноябрьская. Чайка на голове сфинкса, мост. Бледная, истомленная, морщинки. Какие же мы с ней уже старые. Ужас. Катимся, катимся. Кто-то крутит калейдоскоп, и мир каждое мгновенье предстает в новом, невиданном порядке. А мне не успеть – побыть, пожить в этом новом, другом мире. Калейдоскоп крутится слишком быстро. И вот он уже так завертелся, что все слилось, черно-белое, день-ночь. Светает в половине десятого, фонари еще излучают свое безотрадное электричество. Жду – погаснут, и будет легче. Никого, ничего. Поехали на ул. Декабристов, в жилконтору, оттуда пешком по каналу Грибоедова, дом Екатерины Васильевны. Говорит, что, как только она попадает в эти места, на нее наваливается тоска, готова расплакаться. К Троицкому собору. Пока шли, стемнело, отражения фонарей в мутно-серой воде, вот уже в черной. Через Троицкий вещевой рынок, тряпки, грузины. Белеют титанические колонны. В соборе пусто, тихо, просторно. Помолились перед иконой Богоматери Скоропослушницы. Молился о книге.
Снятся ящерицы с зашитым ртом и веками. Пришла девушка, морить клопов и тараканов. Все вокруг меня говорят о своих тайнах, но я не слышу, что говорят мне эти голоса. Спрашивать не умею. Я не знаю, о чем спрашивать. Да и вообще у меня никогда не возникает никаких вопросов. Безразличие. Кто ты, человек во тьме, легкий и текучий, лишенный чувства собственной важности? Мглистый день. Рабочий в куртке, низко нагнувшись, режет газовым резцом что-то железное, из-под ног брызжет златогривая струя. Смутно. Этот мир – место, исполненное тайн, особенно в сумерках. В это время существует только сила. Узор силы. Слушай свою силу и иди на ее зов, не колеблясь. К травнику на Черную речку. Мокрый снег, слякоть. На обратном пути, Владимирский собор, аптека, Кузнечный рынок. Достоевский сидит, мокрый, сутулый, черный. Текст «Варяга» сочинил австрийский поэт пацифист Рудольф Грейц. Мы, футуристы, увидели, в каком жидком состоянии находится язык в русской литературе. Василий Каменский. Постель из струн, Караваджо с лютней. Это антихрист, который явился, чтобы погубить искусство. Он пришел в мир, чтобы разрушить живопись. Так говорил о нем Пуссен. На корабле плыл в Рим, вез свои картины; корабль попал в бурю, затонул, картины погибли. Умер в 39 лет. Даосский трактат «Тайна золотого цветка». В молчании утром ты улетаешь вверх. Шекспир ввел в английский язык 1200 новых слов. Лексикон современного Шекспиру англичанина в среднем 2000 слов. Лексикон современного нам английского интеллектуала – 4000 слов. Кто был Шекспир? 54 версии. Елка у метро, старик в варежках. Светает, ураганный ветер. В парикмахерскую. Стригла девушка с раскосыми монгольскими глазами. Куст у церкви, воробьи расчирикались, как весной. Школа, водяные струи низвергаясь с крыши, рушатся с шумом на бетонное крыльцо и перила. Иду, понурый. Грусть, Вагенгейм, полускульптура дерева и сна. Пятница, пьянство. Потерял шапку. Эх ты, Эккерман. Серенько, бесснежно. Не грусти. Ты написал книгу. Новый год грядет; дракон, его ледяные когти уже над нами.
(Продолжение следует)
-
ТУМА́ННЫЙ, —ая, —ое; —ма́нен, —ма́нна, —ма́нно.
1. Прил. к туман1 (в 1 знач.). Туманная дымка. □ Сквозь туманную мглу просияла пестрая радуга. Григорович, Антон-Горемыка. Из окна вагона не видно было надвигавшегося города: необозримо лежала туманная пелена. Серафимович, Черной ночью.
2. Окутанный, покрытый, подернутый туманом. Туманная даль. □ И весь туманный луг с неясными очертаниями деревьев уже пронизывали косые золотистые лучи солнца. А. Н. Толстой, Сестры. Перед его глазами расстилалось спокойное, чуть туманное море и виднелась цепь ярких огней эскадры. Степанов, Порт-Артур. || С туманом, с частыми туманами. Туманное утро. Туманный рассвет. □ Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. Л. Толстой, Война и мир. Наступила туманная, сырая осень. Писемский, Тысяча душ. || Видимый как сквозь туман; расплывчатый, неясный. Туманный силуэт. Туманные очертания гор. □. Я пишу не историю своего времени. Я просто всматриваюсь в туманное прошлое и заношу вереницы образов и картин. Короленко, История моего современника. Доброе лицо ее старенького отца возникло перед ней — далекое, туманное, будто воспоминания раннего детства. Чаковский, У нас уже утро.
3. перен. Неясный, непонятный, неопределенный. Туманный намек. Туманная фраза. □ Какие-то туманные вопросы и сомнения тревожат ее, она чего-то допытывается. Добролюбов, Что такое обломовщина? Они сами не знали, чего хотят. Их мечты были туманны и противоречивы. Горбатов, Донбасс.
4. Подернутый дымкой сна, усталости и т. п. (о глазах); затуманенный. Поэт Роняет молча пистолет, На грудь кладет тихонько руку И падает. Туманный взор Изображает смерть, не муку. Пушкин, Евгений Онегин. Она взглянула на меня —. Ее глаза были туманными от тоски. Леонов, Туатамур. || С неясным, помутненным сознанием (о голове). [Табардин:] Я чувствую себя больным, опустошенным. Голова туманная, вместо мыслей какие-то обрывки. А. Н. Толстой, Ракета. || Грустный, печальный (о человеке, его лице). Но это кто в толпе избранной Стоит безмолвный и туманный? Пушкин, Евгений Онегин. Не светятся глаза его ясной радостью, не живит игривая улыбка туманного лица его. Мельников-Печерский, В лесах.
5. Используемый для сигнализации с целью предостережения во время тумана. Туманный сигнал. Туманная предостерегательная станция. □ Мы вошли в довольно густой туман —. Был сигнал адмирала — приготовить туманные буи. Костенко, На «Орле» в Цусиме.
◊
Туманные картины (
устар.) — изображения на светлом экране, показываемые при помощи проекционного фонаря.
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х
т. / РАН,
Ин-т лингвистич.
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;
Полиграфресурсы,
1999;
(электронная версия): Фундаментальная
электронная
библиотека
- Туманный — посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области. Центр и единственный населённый пункт одноимённого городского поселения.
Население — 685 жителей (перепись 2010).
Расположен на правом берегу реки Воронья в 129 км от Мурманска.
Населённый пункт был включён в учётные данные и получил наименование 14 июля 1971 года. Статус посёлка городского типа присвоен решением Мурманского облисполкома № 160 от 12 апреля 1978 года.
Источник: Википедия
-
ТУМА’ННЫЙ, ая, ое; -а́нен, а́нна, а́нно. 1. только полн. формы. Прил. к туман1 в 1 знач. Туманная полоса. 2. Представляющий собою туман, состоящий из тумана, похожий на туман. Туманная дымка. Туманное пятно. 3. Окутанный туманом, невидный из-за тумана. Я берег покидал туманный Альбиона. Батюшков. Туманная даль. || Мрачный, темный, непрозрачный вследствие тумана. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Тургенев. Туманен вечер был, ложились мягко тени. Блок. Туманная погода. 4. безл., в знач. сказуемого тума́нно. О туманной погоде. Сегодня на дворе туманно. 5. перен. Лишенный жизненности, невыразительный, тусклый. Т. взгляд. 6. перен. Омраченный чем-н., безрадостный (поэт.). На заре туманной юности всей душой любил я милую. А. Кольцов. 7. перен. Неясный, непонятный, запутанный. Т. смысл. Туманная речь. Туманное разъяснение. || Трудно определимый, лишенный определенности. Будущее мое туманно. ◊
Туманные картины
— см. картина.
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940);
(электронная версия): Фундаментальная
электронная
библиотека
-
тума́нный
1. метеорол. относящийся к туману, состоящий из тумана ◆ Небо затянула туманная дымка, отчего солнце стало ровным кругом. Михаил Успенский, «Там, где нас нет», 1995 г. (цитата из НКРЯ)
2. покрытый, укутанный туманом, характеризующийся обилием туманов; мрачный, тёмный, непрозрачный вследствие тумана ◆ Я берег покидал туманный Альбиона. Батюшков ◆ Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Тургенев ◆ Туманен вечер был, ложились мягко тени. Блок
3. предназначенный для использования в тумане
4. перен. нечётко, плохо видимый
5. перен. неясный, непонятный, неопределённый ◆ Она не стала вдаваться в подробности, отделалась туманными заверениями, что некоторые успехи уже наметились. Александр Савельев, «Аркан для букмекера», 2000 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Туманный смысл. ◆ Туманная речь.
6. перен. лишённый жизненности, невыразительный, тусклый ◆ Туманный взгляд.
Источник: Викисловарь
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: цинический — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Понятия, связанные со словом «туманный»
-
Фа́та-морга́на (итал. fata Morgana) — редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями. Своё название получило в честь волшебницы — персонажа английских легенд Феи Моргана.
-
Мира́ж (фр. mirage — букв. видимость) — оптическое явление в атмосфере: преломление потоков света на границе между резко различными по плотности и температуре слоями воздуха. Для наблюдателя такое явление заключается в том, что вместе с реально видимым отдалённым объектом (или участком неба) также видно и его отражение в атмосфере…
-
Лунная радуга (также известная как ночная радуга) — радуга, порождаемая Луной. Отличается от солнечной только меньшей яркостью. Имеет тот же радиус, что и солнечная (около 42°), и всегда находится на противоположной от Луны стороне неба.
-
Паргелий (от др.-греч. παρα- и ἥλιος «солнце» — ложное солнце) — один из видов гало, выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны (парселена).
-
Грибы с Юггота (англ. Fungi from Yuggoth) — цикл сонетов Говарда Филлипса Лавкрафта. Состоит из 36 стихотворений. Написаны, предположительно, в 1929 году.
- (все понятия)