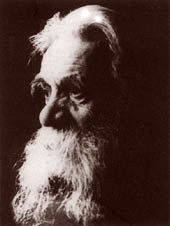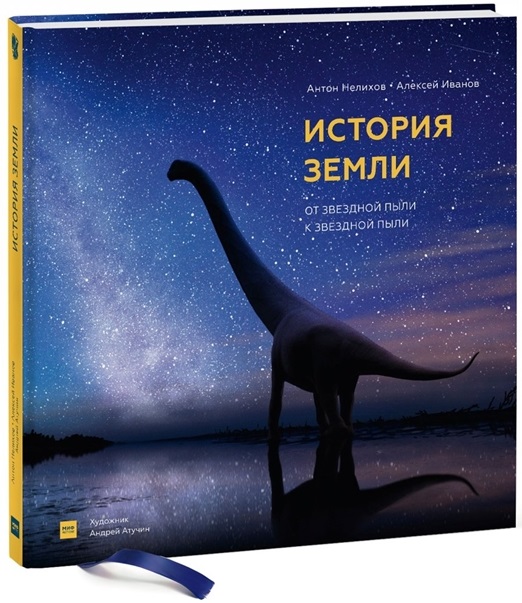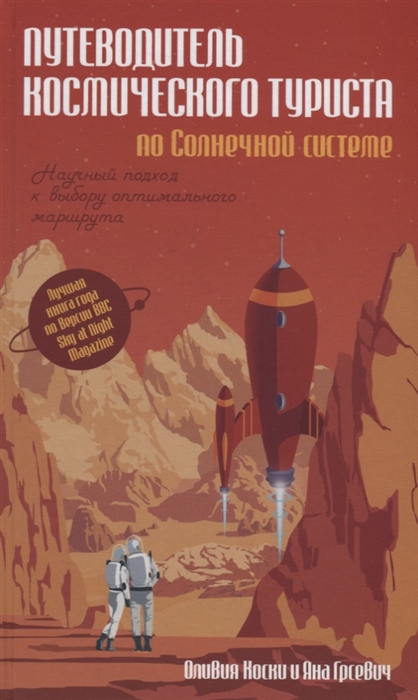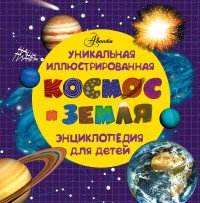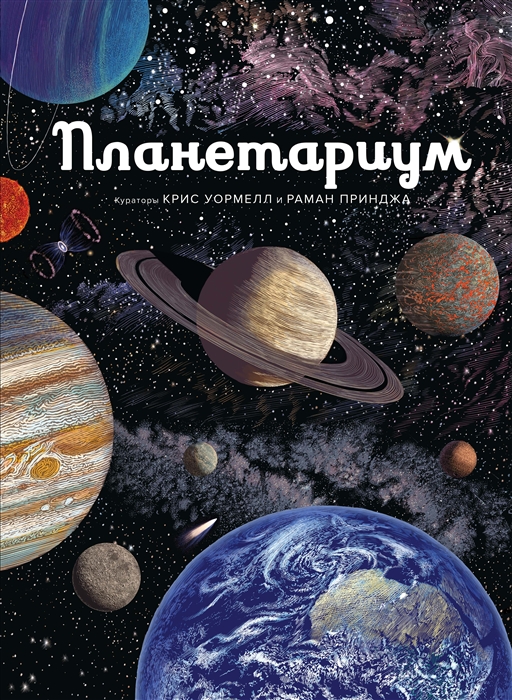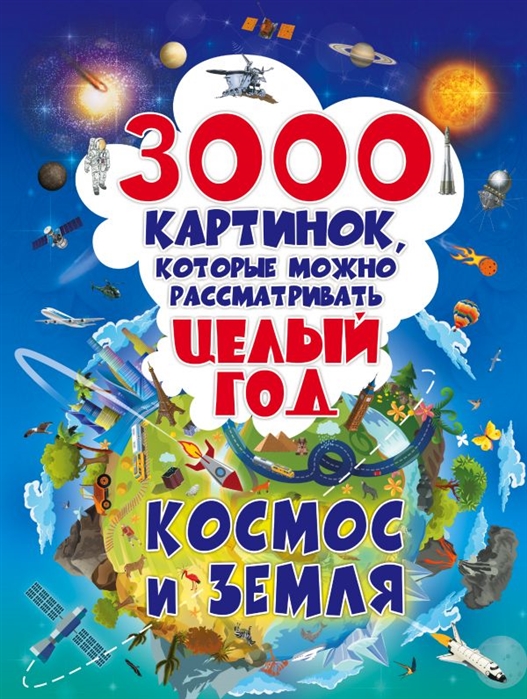В прежне время к нам заграничны корабли приезжали за лесом. От нас лес увозили. Стали и песни увозить.
Мы до той поры и, в толк не брали, что можно песнями торговать.
В нашем обиходе песня постоянно живет, завсегда в ходу. На работе песня — подмога, на гулянье — для пляса, в гостьбе — для общего веселья. Чтобы песнями торговать — мы и в уме не держали.
Про это дело надо объяснительно обсказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было.
В стары годы морозы жили градусов на двести, на триста. На моей памяти доходило до пятисот. Старухи сказывают — до семисот бывало, да мы не очень верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было.
На морозе всяко слово как вылетит — и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет Мы’ по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али заделье — это, значит, деловой разговор — домой несем, дома в тепле слушам, а то на улице в руках отогрtем. В морозны дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить: словом перекидываться. В морозны дни над Уймой морожены слова веселыми стайками перелетали от дома к дому да через улицу. Это наши хозяйки новостями перебрасывались. Бабам без новостей дня не прожить.
Как-то у проруби сошлись наша Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, слова сыпали гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово. По льдинке видно.
— Ты это что? — кричит Анисья, — како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!
И пошла, и пошла, ну, прямо без удержу, до потемни сыпала. Сватья тоже не отставала, как подскочит (ее злостью подбрасывало) да как начнет переплеты ледяны выплетать. Слова-то — все дыбом.
А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяких кислых слов наговорила.
— Ну и я ей навалила, только бы теплого дня дождаться, оно хоть и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, насквозь прошибет! Свекровка-то ей говорит:
— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно твое слово. И таки они горлопанихи на том берегу, просто страсть! Прошлу зиму я отругиваться бегала, мало не сутки ругалась, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу стругалась. Было на уме еще часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила еще на спутье забежать поругать.
А малым робятам забавы нужны — матери потаковщицы на улицу выбежат, наговорят круглых ласковых слов. Робята ласковыми словами играют, слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов переломают. Ну да матери на ласковы слова для робят устали не знают. А деъкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мерзнет колечушками тонюсенькими-тонюсенькими, колечушко в колечушко, отсвечиват цветом каменья драгоценного, отсвечиват светом радуги. Девки из мороженых песен кружева сплетут да всяки узорности. Дом по переду весь улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково: «Милый, приходи, любый, заглядывай!» Нарядно нашей деревни нигде не было. Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют!
С этого и повелась торговля песнями. Как-то шел заморской купец, он зиму проводил по торговым делам, нашему языку обучался. Увидал украшенье — морожены песни — и давай от удивленья ахать да руками размахивать.
— Ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Кака распрекрасна интересность диковинна, без всякого береженья на само опасно место прилажена!
Изловчился купец да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел: — Что за штуки колки каки, чем они швыряют? — Так, пустяки.
Иноземец и «пустяков» набрал охапку. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да за-поскакивали кому в нос, кому в рыло. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов в избу не носил.
Иноземцу загорелось песен назаказывать: в свою страну завезти на полюбование да на прослушанье.
Вот и стали песни заказывать да в особы ящики складывать (таки, что термоящиками прозываются). Песню уложат да обозначат, которо — перед, которо — зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели. А по весне на пароходах и отправили. Пароходищи нагрузили до труб. В заморску страну привезли. Народу любопытно, каки таки морожены песни из Архангельскова? Театр набили полнехонек.
Вот ящики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали: — Еще, еще! Слушать хотим!
Да ведь слово не воробей, выпустишь — не поймать, а песня, что соловей, прозвенит — и вся тут. К нам письма слали и заказны, и просты, и доплатны, и депеши одну за другой: «Пойте больше, песни заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»
Коли деньги шлют, значит, не обманывают. Наши девки, бабы и старухи, которы в голосе, — все принялись песни тянуть, морозить.
Сватьина свекровка, ну, та сама, котора отругиваться бегала, тоже в песенно дело вошла. Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет, как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да брильянты-самоцветы, внучкино вторенье, как изумруды. Девки поют, бабы поют, старухи поют. Песня делам не мешат, рядом с делом идет, доход дает.
Во всех кузницах стукоток, брякоток стоит — ящики для песен сколачивают.
Мужики бороды в стороны отвернули, с помешки чтобы бороды слов не задерживали.
— Дакосе и мы их разуважим, свое «почтение» скажем. Ну, и запели! Проходящи мимо сторонились от тех песен. Льдины летели тяжело, но складно. Нам забавно: пето не для нас, слушать не нам.
Для тех песен особи ящики делали и таки большущи, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых песен больши кучи накопились.
Заморски купцы приехали. Деньги платят, ящики таскают, на пароход грузят и говорят: — Что таки тяжелы сейгод песни? Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:
— Это особенны песни, с весом, с особенным уважением в честь ваших хозяев напеты. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведется, каждый раз говорили: «Кабы им ни дна ни покрышки». Это-то, по-вашему, значит — всего хорошего желам. Так у нас испокон века заведено. Так всем и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.
Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали. Домой приехали, сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от архангельского народу особенно уважение заморской королеве: песни с весом!
Король и королева ночь не спали, спозаранку задним ходом .в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.
Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить. Песни порастаяли и начали звенеть. На что заморски хозяева нашему языку не обучены, а поняли!
Попробовать «морожены песни» на вкус, растопить льдинку и приручить ковер – всё это могли сделать зрители вместе с участниками лаборатории «Были и небыли», которая прошла в Архангельске в рамках Фестиваля уличных театров. Итогом лаборатории стали перформансы, 26 июня захватившие пространство в сквере Победы, неподалеку от памятника Степану Писахову.
В течение пяти дней участники лаборатории, которая объединила актеров театров Архангельска и Северодвинска, музыкантов, хореографов, писателей и театроведов, исследовали город – его прошлое и настоящее, историю и мифологию. Процесс творческого исследования начинался вокруг знаковой для Архангельска, ставшей почти мифологической фигуры сказочника Степана Писахова. Сказки про Сеню Малину и «морожены песни» – первое, с чем ассоциируется это имя, хотя Писахов не только сочинял сказки, но и писал очерки, был художником и путешественником.
Куратором лаборатории «Были и небыли» стала театровед, продюсер Ника ПАРХОМОВСКАЯ (Москва), а режиссером итогового спектакля-променада — Кирилл ЛЮКЕВИЧ (Санкт-Петербург). Вместе с ними участники лаборатории погружались в историю: например, побывали в недавно открывшемся, обновленном Музее Степана Писахова, по-новому посмотрели на привычные вещи и пространство вокруг, посетили пластические тренинги (их проводила хореограф Сусанна ВОЮШИНА), искали «писаховские» места в городе и рассказывали о них друг другу. Каждый из участников нашел и показал такое особенное место – кто-то рассказывал про улицы и дворы, приглашал выйти к реке. По итогам лаборатории была создана карта с маршрутом, где отмечены эти места, и теперь любой желающий может повторить путь, открывающий город с самых неожиданных сторон.
В процессе лаборатории создавались перформансы, через которые участники искали созвучное «писаховскому» миру в сегодняшней реальности и в каждом из нас. В итоговый показ вошли лишь некоторые из них – но почти во всех перформансах зрители могли стать не только наблюдателями, но и активными участниками, подключиться к поиску «своего» Писахова и попробовать увидеть город в непривычном ракурсе.
По всей территории сквера Победы вечером 26 июня развернулись интерактивные представления. Начинался спектакль-променад у памятника Степану Писахову, к которому в этот день участники лаборатории и все желающие приносили цветы, апельсины, козули, открытки и другие предметы, — получился импровизированный сказочный мемориал. Каждый зритель прошел по своему спонтанному маршруту, выбирая заинтересовавшие его точки.
Вместе с актером театра драмы Иваном БРАТУШЕВЫМ можно было растопить льдинку в ладошках, затем пройти дальше вглубь сквера и посмотреть, как слова «поморской говори» обретают пластическую форму, встретиться с художницей, рисующей голубое небо, и купить билет на пароход «Архангельск – Нью-Йорк»…
На Чумбаровке зрители вместе с актрисой Архангельского молодежного театра Натальей МАЛЕВИНСКОЙ пели частушки, получая в награду мороженое, а на траве сквера играли на необычных музыкальных инструментах, создавая импровизированный оркестр. Правда и вымысел поджидали зрителей и прохожих на территории всего пространства сквера – стоило только присмотреться и прислушаться. Вот на дереве – деревянная оконная рама, которая становится живой картиной и заполняется тем сюжетом, какой подскажет воображение смотрящего. А на скамейке целая коллекция спичек – можешь взять одну и сохранить у себя, ведь среди них нет ни одной одинаковой.
Были здесь и настоящие – на грани правды и вымысла – откровения. Так, актриса театра кукол Елена АНТУШЕВА рассказывала про старинные деревянные дома Архангельска как про живых существ, уходящих в небытие свидетелях прошлого, за каждым из которых стоит своя судьба и тайна. Деревянных домов постройки прошлого века в городе становится все меньше – и вместе с ними уходит память о живой истории города.
Актриса театра драмы Нина НЯНИКОВА открыла настоящее чудо в одном из дворов города – оказалось, что иногда улицы современного Архангельска не мостятся и не асфальтируются, а… «коврятся». Настоящую «ковровую аллею» нашла актриса, а на спектакль взяла с собой «коврёнка» – недавно появившегося в архангельском дворе «детёныша» взрослого ковра. В историю про живые ковры верилось с первой фразы – так и оживало сказочное, «писаховское» мироощущение, по всей видимости, свойственное жителям города, которые живо включились в игру и помогли сочинить новую городскую мифологию – сказку о живых ковровых мостовых.
Зрители могли путешествовать по пространству большого перформанса в течение часа, собирая свою личную историю из разговоров, встреч и ощущений – о городе, сказочной реальности, былях и небылицах места, где мы живем, но про которое так мало знаем.
А то ишшо вот песни.
Все говорят: «В Москву за песнями». Это так зря говорят. Сколь в Москву ни ездят, а песен не привозили ни разу.
А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходишши большушши нагрузят, таки больши, что из Белого моря в окиян едва выползут.
Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которы в голосе, тоже пели — деньги зарабатывали: Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на двести пятьдесят да на триста градусов, ну, всякой разговор на улице и мерзнет да льдинками на снег ложится.
А на моей памяти еще доходило до пятисот. Стары старухи сказывают — до семисот бывало, ну да мы и не порато верим.
Что не при нас было, то, может, и вовсе не было.
А на морозе, како слово скажешь, так и замерзнет до оттепели. В оттепель растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху быват и греха всякого! Которо сказано в сердцах (понасердки), ну, а которо издевки ради — новы и хороши слова есть. Ну, которы крепки слова, те в прорубь бросам. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики опираются. На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят.
Новой улицей идешь — вся мороженой руганью усыпана, — идешь и спотыкаешься. А нова улица вся в ласковых словах — вся ровненька да ладненька, ногам легко, глазам весело.
Зимой мы разговору не слышим, а только смотрим, как сказано.
Как-то у проруби сошлись наши Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово (по льдинке видно).
— Ты это что, — кричит Анисья, — курва эдака, како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!
И пошла и пошла, ну, прямо без удержу, ведь до потемни сыпала! Да уж како сыпала, — прямо клала да руками поправляла, чтобы куча выше была. Ну, сватья тоже не отставала, как подскочит да как начала переплеты ледяны выплетать! Слово-то все дыбом!
А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяческих кислых слов наговорила.
— Ну, и я ей навалила! Только бы теплого дня дождаться, — оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, наскрозь прошибет.
Свекровка-то ей говорит:
— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно, и таки ли они горлопанихи на том берегу, — просто страсть. Прошлу зиму и отругиваться бегала, мало не сутки ругались, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругала. Было на уме ишшо часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ишшо на спутье забежать поругать.
А малым робятам забавы нужны, — каки ни на есть бабушки, матери-потаковшшицы подол на голову накинут от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Робята катают, слова блестят, звенят. Которы робята окоемы — дак за день-то много слов ласковых переломают. Ну, да матери на ласковы слова для робят устали не знают.
А девки — те все насчет песен. Выйдут на улицу, песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтово отсвечиват цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумшшицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушки навесят. Коли где свободно место окажется, приладят слово ласковое: «Милый, приходи, любый, заглядывай».
Весной на солнышке песни затают, зазвенят. Как птицы каки невиданны запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!
Как-то шел заморской купец (зиму у нас проводил по торговым делам), а известно — купцам до всего дело есть, всюду нос суют. Увидал распрекрасно украшенье — морожены песни, и давай ахать от удивленья да руками размахивать:
— Ах, ах, ах! Кака антиресность диковинна, без бережения на самом опасном месте прилажена. — Изловчился да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили и ну — в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел:
— Что такое за штуки, колки какие, чем они швыряют?
— Так, пустяки.
Иноземец с большого ума и «пустяков» набрал с собой. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» по полу тоже растаяли да как заподскакивают кому в нос, кому во что. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов больше в избу не носил.
Иноземцу загорелось песен назаказывать в Англию везти на полюбованье да на послушание.
Вот и стали девкам песни заказывать да в особый яшшик складывать, таки термояшшики прозываются. Песню уложат да обозначат, которо перед, которо зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходишши нагрузили до трубы, В заморску страну привезли. Народу любопытно: каки таки морожены песни из Архангельского? Театр набили полнехонек.
Вот яшшики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали: «Ишшо, ишшо». Да ведь слово — не воробей: выпустишь — не поймашь, а песня что соловей: прозвенит — и вся тут. К нам шлют письма, депеши: «Пойте песен больше, заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»
А сватьина свекровка, — ну, та самая, котора отругиваться бегала, — в песни втянулась.» Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет; как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да бральянты самоцветы, внучкино вторенье — как изумруды. Столь антиресно, что уж думали в музей сдать на полюбованье. Да в музее-то у нас, сами знаете, директора сменялись часто и каждый норовил свое сморозить, а покупали что приезжи сморозят — будто привозно лутче.
Ну, бабкину песню в термояшшик.
Девки поют, бабы поют, старухи поют. В кузницах стукоток стоит — термояшшики сколачивают.
На песнях много заработали. Работа не сколь трудна. Мужики заговорили:
— Бабы, зарабатывайте больше. Надоели железны крыши, в них и виду нет, и красить надо. Мы крыши сделам из серебра и позолоченны.
Бабы не спорят:
— Нам английских денег не жаль…
Мужики выпрямились, бородами тряхнули:
— Вы это, бабы, для кого песни поете? Дайко-се мы их разуважим, «почтение» окажем.
Мужики бороды в сторону отвернули для песенного простору и начали. Оно и складно, да хорошо, что не нам слушать. Слова такие, что меньше оглобли не было! И одно другого крепче.
Для тех песен особенны яшшики делали. И таки большушши, что едва в улицы проворачивали.
К весне мороженых песен кучи наклали.
Заморски купцы снова приехали. Деньги платят, яшшики таскают, грузят да и говорят: «Что порато тяжелы сей год песни?»
Мужики бородачи рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:
— Это особенны песни, с весом, с уважением, значит, в честь ваших хозяев. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведется, кажной раз говорим: «Кабы им ни дна ни покрышки!» Это по-вашему значит — всего хорошего желам.
И так у нас испокон веков заведено. Так и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.
Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, труб не видно, флагами обтянули. В музыку заиграли. Поехали. От нашего хохоту по воде рябь пошла.
Домой приехали, сейчас — афиши, объявления. В газетах крупно пропечатали, что от архангельского народу особенное уважение заморской королеве: песни с весом!
Король и королева ночь не спали, с раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.
Прочему остальному народу с полден праздник объявили по этому случаю.
Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели.
Вот яшшики наставили, раскупорили все разом. Ждут.
Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить.
Песни порастаяли и — почали обкладывать.
На что заморски купцы нашему языку не обучены, а поняли!
Писахов, Степан
| Степан Григорьевич Писахов | |
| Имя при рождении: | Степан Григорьевич Пейсахов |
|---|---|
| Дата рождения: | 25 октября 1873 |
| Место рождения: | Архангельск |
| Дата смерти: | 3 мая 1960 |
| Место смерти: | Архангельск |
Степа́н Григо́рьевич Писа́хов (13 (25) октября 1879, Архангельск — 3 мая 1960, Архангельск) — русский художник, писатель, этнограф, сказочник.
Биография
Детские годы
В фонде архангельской духовной консистории в метрической книге Рождественской церкви г. Архангельска на 1879 г. есть актовая запись под № 37, где написано: «13 окт. 1879 г. у мещанина Григория Михайловича Пейсахова и законной его жены Ирины Ивановны родился сын Стефан».
Отец Степана, Григорий Михайлович был купцом, выходцем из еврейской семьи, крестившимся в православие. Согласно материалам Первой Всероссийской переписи населения 1897 г., в семье 49-летнего купца были жена Ирина Ивановна, 45 лет, сын Степан 17 лет и дочери Таисья, Серафима и Евпраксинья, соответственно 18, 13 и 11 лет. Своё основное занятие купец определил как «Золотых и серебряных дел мастерство», а побочное — «торговля разными хозяйственными принадлежностями». На деле это означало, что Григорий Михайлович имел ювелирную мастерскую и небольшой магазин. В семье купца работали три человека прислуги: экономка, кучер и кухарка. Кроме того, Григорий Писахов содержал подмастерье и одного ученика.
Ирина Ивановна, мать Писахова, была дочерью писаря конторы над Архангельским портом Ивана Романовича Милюкова и его жены Хионии Васильевны. Хиония Васильевна была староверкой, «строга и правильна в вере».
Душа художника и сказочника Степана Писахова формировалась под влиянием двух противоположных стихий: устремление к Царю небесному материнской старообрядческой веры и отцовской жаждой практического устроения на земле зажиточной жизни. Рос мальчик в атмосфере староверческих правил жизни. Знакомство с песнями, псалмами и духовными стихами, народной поэзией давало уму особое направление. Не удивительно, что герой Писахова может передвигать реки, ловить ветер. О причастности своей к «роду староверскому» Писахов никогда не забывал и в знак уважения к религиозным воззрениям своих предков написал с натуры этюд, а затем картину «Место сожжения протопопа Аввакума в Пустозёрске».
Отец пытался приучить мальчика к ювелирным и граверным делам. Когда вслед за старшим братом Павлом, художником-самоучкой, Степан потянулся к живописи, это не понравилось отцу, который внушал сыну: «Будь сапожником, доктором, учителем, будь человеком нужным, а без художника люди проживут». «Чтение преследовалось», — вспоминал Писахов. Тайком забирался под кровать с любимой книгой и там читал. Огромное впечатление произвела книга Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Она подогревала желание Писахова убежать из-под опеки отца. Сам Писахов был похож чем-то на Дон-Кихота. Наверное, своей любовью к добру и справедливости, неприятием неправды и человеческой чёрствости. Всю свою жизнь он искал царство «искренних, простых отношений».
Самостоятельная жизнь
В гимназию Писахов не попал (по возрасту), окончил всего лишь городское училище и то с запозданием. Бегство и странничество виделось ему единственным выходом из тисков домашней жизни, и после окончания городского училища в 1899 г. он устремляется вначале на Соловки, потом поступил на лесозавод рубщиком («заработал за лето 50 руб.»). Потом — Казань, попытка поступить в художественную школу. Попытка оказалась неудачной, в 1902 г. он уезжает в Петербург и поступает в художественное училище барона Штиглица (училище технического рисования и прикладного искусства). Наиболее способные ученики могли получить дополнительную подготовку по станковой живописи и ваянию. Преподаватели высоко оценили дарование Писахова, и он несколько лет занимался живописью под руководством академика Александра Новоскольцева. На получаемые из дома ежемесячные 10 руб. Писахов на протяжении 3-х лет влачит полуголодное существование, овладевая в училище профессией учителя рисования и художника-прикладника, а на занятиях в частных школах — живописью. О трудностях, которые он пережил в Петербурге, можно судить по названию воспоминаний, которые не завершил: «Ненаписанная книга. Голодная Академия». Но Писахов не унывал: много читал, ходил в музеи и театр. В 1905 г., не закончив курс обучения, Писахов вместе с большой группой студентов уходит из училища. Не имея на руках диплома о праве занятия учительской должности (аттестат был выдан в 1936 г.), лишённый всяческих источников существования Писахов готов признать ошибочным свой выбор пути художника.
Путешествия. Поиски
Он обращается к поиску «Божией правды», сначала у святынь Новгорода, а позднее, летом 1905 г. — на арктическом Севере («мир только что создан»). Новая Земля, становище Малые Кармакулы. Не расставался с мольбертом. С сочувствием отнёсся к ненцам — добрым, наивным и бесхитростным обитателям Новой Земли. Писателя поразили их сказки про людей, «которые только любят и не знают ни вражды и ни злобы… Если они перестают любить, сейчас же умирают. А когда они любят, они могут творить чудеса». Один полярный исследователь написал: «Кто побывал в Арктике, тот становится подобен стрелке компаса — всегда поворачивается на Север»[1]. Только на Новую Землю Писахов плавал не менее 10 раз, последний в 1946 г. Поиск божественной «солнечной теплоты», которая могла бы возродить в человеке духовную природу, Писахов начинает в Арктике и продолжает осенью того же 1905 года в странах средиземноморья, куда попадает с толпой паломников. «Там, думал, увижу самое прекрасное на земле!» Осенью 1905 г. попал в Иерусалим, остался без гроша. Был писарем у архиерея в Вифлееме. Получил разрешение у турецких властей — на право рисовать во всех городах Турции и Сирии. Потом Египет.
Писахов был аскетически неприхотлив и верил в людей. В трудную минуту — выручали. На пароходе от ледяного ветра его укрыл буркой старый болгарин, в Александрии ограбили — русский эмигрант накормил, дал в долг. Почти целую зиму занимался в Свободной академии художеств в Париже. В Риме выставил свои работы, они потрясли зрителей серебряным сиянием («север даёт»). Вернулся домой в Архангельск. «Как будто глаза прополоскались! Где деревья, красивее наших берёз? … А… летние ночи, полные света без теней — это так громадно по красоте…».
Три зимы после путешествия на юг 1907—1909 гг. Писахов провёл в Петербурге в мастерской художника Якова Гольдблата. Популярный в те годы модернизм почти не повлиял на Писахова (весьма скромная дань: «Сны» и «Церковь, путь к которой потерян»). Летом — Карское море, Печора, Пинега и Белое море. Из поездок по Пинеге и Печоре привез 2 цикла: «Северный лес» и «Старые избы». «Старые избы» — небольшая часть огромной работы, проделанной Писаховым для увековечения памятников северной архитектуры. Всё в сумрачных серо-коричневых тонах. К ним присоединяются и обширные этнографические зарисовки. Самыми памятными поездками Писахов считал плавание в 1906 г. по Карскому морю на корабле «Св. Фока», участие в 1914 г. в поисках Георгия Седова, исследование земли саамов, присутствие при основании первых станций радиотелеграфа на Югорском Шаре, Маре-Сале и острове Вайгач. Всё увиденное запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в Архангельске, Петербурге, Москве, Берлине, Риме. Очень любил бывать на Кий острове. В его картинах беломорского цикла — ощущение бесконечности мироздания. Природа раскрывается перед человеком, сливается с его существом. Кажется, что главная тема этих картин — тишина, рождающая творческую сосредоточенность. Картины просты по сюжету: камни, берег моря, сосны. Особый свет: серебристый зимой и золотисто-жемчужный летом. Удивляет умение показать бесчисленное множество оттенков белого.
Первые выставки. Признание
В 1910 г. в Архангельске проходила выставка «Русский Север». Писахов принял самое активное участие в организации её художественного отдела и выставил более двухсот своих картин. 60 работ Писахова были представлены на Царскосельской юбилейной выставке 1911 года, посвященной 200-летию Царского Села. В 1912 г. за участие в выставке «Север в картинках» в Петербурге он получил Большую серебряную медаль. Его картины экспонируются на «Выставке трёх» (Якова Бельзена, Степана Писахова, Иеронима Ясинского) в Петербурге в 1914 г. Художник был тогда в расцвете своих творческих сил. Возможно, на одной из этих выставок и произошел его разговор с Ильёй Репиным, о котором он упоминает в письме искусствоведу Михаилу Бабенчикову (1956 г.): «На выставке Илья Ефимович (Репин) хорошо отнёсся к моим работам. Ему особенно понравилась „Сосна, пережившая бури“ [в настоящее время картина, к сожалению, утеряна]. Илья Ефимович уговаривал сделать большое полотно. Я бормотал что-то о размерах комнаты. „Знаю: холст на стене над кроватью, краски на кровати и до стены два шага. Ко мне в Пенаты. И места будет довольно, и краски можете не привозить“.
Товарищи поздравляли, зависти не скрывали. А я … не поехал, боялся, что от смущения не будет силы работать». Скорее всего это было в Царском Селе, когда Репин работал над картиной «А. С. Пушкин на акте в лицее 8 января 1815 года».
Писахов в годы первой мировой и гражданской войн
Первая мировая война прервала художественную деятельность Писахова. В 1915 г. он был призван в армию, служил ратником ополчения в Финляндии, а в 1916 г. был переведен в Кронштадт. Здесь его застала февральская революция. С первых дней работал в Кронштадтском Совете рабочих и солдатских депутатов, оформлял первомайскую демонстрацию (1917 г). После демобилизации 1918 г. вернулся в Архангельск. Заряд творческой энергии, от рождения заложенный в Писахове, был столь велик, что одного увлечения живописью уже казалось недостаточно для полного выражения индивидуальности. Писахов берётся за перо. Впервые записывать свои рассказы Писахов стал ещё до революции по совету Иеронима Ясинского — писателя, журналиста, известного как редактор журналов «Беседа» и «Новое слово». Тогда эта попытка закончилась неудачей. Теперь Писахов решил попробовать свои силы в жанре очерков («Самоедская сказка» и «Сон в Новгороде»), где воссоздаёт портреты современников. Оба эти очерка были опубликованы в архангельской газете «Северное утро», которая издавалась поэтом-суриковцем и журналистом М. Л. Леоновым. В мае 1918 г. последовал арест М. Л. Леонова и закрытие газеты. В июне 1918 в Архангельске открывается персональная выставка Писахова. А 2 августа в Архангельск вошли интервенты. «Население встречало с энтузиазмом проходившие части». (Из воспоминаний С. Добровольского, возглавлявшего в те годы военно-судебное ведомство Северной области). В числе народа, стоявшего на парадной пристани Архангельского порта, был и Степан Писахов. На первых порах интервенты пытались заигрывать с населением, представляя себя защитниками демократии. Временное правительство Северной области терпимо относилось к творческой интеллигенции, яркими представителями которой были Леонид Леонов, Борис Шергин и Степан Писахов. Они имели возможность устраивать выставки картин, публиковались в газетах, выпустили сборник «На Севере дальнем». Все трое не подозревали, что ситуация может резко измениться и их творческая активность будет расценена как пособничество «белым». В ночь на 19 февраля 1920 г. в Архангельск вступили части Красной Армии. Л. Леонов сразу же покинул Архангельск, перебрался на юг России; Б. Шергина пригласили в Москву в Институт детского чтения; Писахов же не в силах был покинуть родной дом и любимый Север. Он чувствовал, что Архангельск, особенности родного края делают его личностью, именно творческой личностью. Больше всего на свете он любил этот свой дом. Ему оставалось только одно — найти форму поведения, позволившую бы выжить и сохранить творческое лицо в условиях власти, которая никогда ничего не забывала и не прощала. Но через много лет, когда он был уже известным сказочником и художником, нашлись все же люди, которые из зависти или по другой какой причине стали писать пасквили и способствовали тому, чтобы «белогвардейское» прошлое прочно укрепилось за Писаховым.
Писахов в 20-30-х годах
В 1920-м, после окончательного установления в Архангельске советской власти, Писахов начинает активно работать. В 1920—1921 гг. он подготовил 5 своих выставок. Губисполком поручает ему приведение в порядок музеев Архангельска. По заданию московского Музея Революции делает зарисовки мест боёв с интервентами на Севере, а для Русского музея — зарисовки памятников архитектуры на Мезени и Пинеге. Осенью 1920 г. участвует в комплексной экспедиции в Большеземельскую тундру. В 1923 г. Писахов ведет сбор материалов для этнографической экспозиции Севера на первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставке в Москве. В 1927 г. его картина «Памятник жертвам интервенции на о. Иоканьга» занимала центральное место на всесоюзной выставке «10 лет Октября», за неё он был премирован персональной выставкой, состоявшейся через год в Москве. Две его картины были приобретены ВЦИКом и помещены в кабинете М.И. Калинина. Но повседневная жизнь Писахова по-прежнему остаётся неустроенной. Денег не хватало. Писахов берётся за преподавание живописи.
Преподавание
Основным заработком Писахова до войны и после войны были уроки рисования. Почти четверть века проработал он в школах Архангельска. Преподавать рисование начал в 1928 г. Работал в третьей, шестой и пятнадцатой школах. В автобиографии, датированной 23 октября 1939 г., он писал: «Мои ученики без добавочной художественной подготовки поступали в художественные вузы, что считаю тоже своей наградой». Из воспоминаний его бывшего ученика, художника-графика Ю. М. Данилова: «Прежде всего, человек необыкновенный, с необыкновенным багажом знаний, с необыкновенной щедростью отдачи всего, что знал и умел, с необыкновенной добротой». Они познакомились, когда Юра был учеником 3-й архангельской школы, где Писахов преподавал рисование. Разглядев в Юре дарование на уроках рисования, Писахов пригласил его в студию, которую открыл у себя в мастерской. После войны Ю. Данилов поступил в Академию художеств на архитектурный факультет. И только приехал в родной Архангельск — встретил на улице Писахова. Степан Григорьевич тут же предложил Данилову проиллюстрировать свою книжку сказок. То ли хотел помочь материально вчерашнему фронтовику, то ли подталкивал своего ученика, студента архитектурного факультета, на художественную стезю. Как бы то ни было, книжка вышла в 1949 г. и стала первым опытом Данилова в иллюстрации. Писахов сам никогда не иллюстрировал свои сказки. А чужим иллюстрациям от души радовался. Считал, что каждый имел право на своё прочтение его сказок. Этим он и дорожил. Десятки художников их оформляли, почти у каждого есть находки.
Литература
Известность С. Г. Писахов снискал как автор изумительных, поистине неповторимых сказок. «Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка „Ночь в библиотеке“ мной была написана, когда мне было 14 лет». Первая его опубликованная сказка «Не любо — не слушай…» появилась в 1924 г. в сборнике «На Северной Двине», издаваемом архангельским обществом краеведения. По своему характеру она так отличалась от традиционного фольклора, что составители сборника пустили её в печать без подзаголовка. Писахов решился дать сказку в сборник по совету Б. Шергина и А. Покровской, сотрудников московского Института детского чтения. Именно их поддержка помогла Писахову найти свой путь в литературе. Сказка «Не любо — не слушай» стала тем материнским ложем, из которого вышли ставшие знаменитыми «Морожены песни», «Северно сияние», «Звездный дождь». Писахов сразу нашел удачный образ рассказчика (Сеня Малина из деревни Уймы), от лица которого и повёл повествование во всех своих сказках. Сказки также публиковались в губернской газете «Волна» и краевой газете «Правда Севера». Но пробиться на страницы столичных журналов Писахову долгое время не удавалось. Лишь в 1935 году он сумел опубликовать несколько своих сказок в журнале «30 дней». Они вышли в 5 номере журнала под заголовком «Мюнхаузен из деревни Уйма». Теперь Писахов уже не терзался сомнениями по поводу «писать или бросить». «Когда сказки стали появляться в „30 дней“, меня как подхлестнуло». За короткое время (1935—1938 годы) этот популярный журнал Союза писателей опубликовал более 30-ти сказок Писахова. Словом, открыл сказочника именно этот журнал. Публикации в «30 дней» ускорили издание первой книги Писахова, которая вышла в Архангельске в 1938 г. А вскоре появилась и вторая книга (1940 г.). В эти книги вошло 86 сказок. Сказки Писахова — это продукт индивидуального писательского творчества. Народные по духу, они имеют мало общего с традиционной фольклорной сказкой. У чудес в сказках Писахова совершенно иная природа, чем у чудес народных сказок. Они порождены писательской фантазией и вполне мотивированы, хотя мотивировка эта не реалистична, а фантастична. «В сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю», — утверждал писатель, понимая, что никаких строгих канонов у литературной сказки нет и быть не может. Один из излюбленных приёмов Писахова — материализация природных явлений (слова застывают льдинками на морозе, северное сияние дергают с неба и сушат т.д.) становится толчком для развития авторской фантазии во многих сказках. Это во многом определяет тот особый юмор, который так характерен для сказок Писахова: все, о чем говорится в них, вполне может быть, если в самом начале допустить существование таких овещественных явлений. В 1939 г., когда Степану Григорьевичу уже было 60 лет, его приняли в члены Союза писателей [2]. Он мечтал о выходе книги в Москве. Перед войной в Москве, в ГИЗе подготовили книгу сказок Писахова, но она так и осталась в рукописи. Когда начались боевые действия, сказочная тематика отошла на второй план. Годы войны Писахов провел в Архангельске, разделяя со своими земляками все невзгоды тыловой жизни. Часто вместе с другими литераторами был желанным гостем в госпиталях. Из письма А. И. Вьюркову — московскому писателю, постоянному корреспонденту С. Г. Писахова в 40-е годы: «Время не ждёт, стукнуло 65. Была собрана юбилейная комиссия. Надо было подписать отношение в Москву для утверждения о разрешении юбилея. … Кому надо было подписать… — отменил. Просто запретил! И всё. Даже учительской пенсии нет, даже возрастной нет. Живу перевертываюсь… Порой хочется жить. Хочется дождаться конца погани — фашистов. На мне одежда расползается. Пальто донашиваю отцовское!… А я еще тяну, все еще как-то нахожу возможность оплатить обед, штопать одежду, утешаюсь мыслями: вычеркнуть юбилей смогли — вычеркнуть меня из существования могут. Вычеркнуть мои работы — картины, сказки… Врут-с! Не вычеркнуть!» После войны Писахов приносит в Архангельское издательство рукопись, состоящую из ста написанных им сказок. Её «два года перечитывали…» и наконец отобрали девять сказок. Эту маленькую книжечку, опубликованную в 1949 г., Писахов отослал И. Эренбургу с просьбой «помочь подтолкнуть в издании мои сказки». Но лишь в 1957 г. в издательстве «Советский писатель» появилась первая «московская» книга Писахова. К писателю приходит всесоюзная известность. 80-летие со дня рождения широко отмечают в Архангельске. Центральные и местные издания публикуют статьи о «северном волшебнике слова». Перу Степана Григорьевича принадлежат также интересные путевые очерки, рассказывающие об освоении Арктики, об экспедициях в Заполярье, заметки, дневники, опубликованные в большинстве своём после смерти писателя.
Внешний облик Писахова
Степан Писахов издавна привлекал к себе внимание. О нём начали писать ещё в двадцатые-тридцатые годы. Но, за небольшим исключением, это были работы «малого жанра»: газетные статьи, заметки, очерки. Всем, интересующимся его жизнью, Степан Григорьевич, как правило, рассказывал о себе одно и то же, но зато давал факты эффектные, поражающие необычностью. Перекочёвывая из одного очерка в другой, они придавали образу сказочника особую колоритность. Большинство ранних работ о Писахове написано его собратьями по перу — писателями и журналистами. Даже при скудности фактов они сумели создать такой яркий и точный портрет, что Писахов предстает перед читателями как живой. Но удивительно, что никто не описал его молодым. Даже писатель И. Бражнин, который уехал из Архангельска в 1922 г., пишет, что Писахов уже тогда «был живой исторической достопримечательностью Архангельска». А «исторической достопримечательности» было сорок три года. И Борис Пономарёв, журналист, историк северной литературы, который был знаком с Писаховым более четверти века, признавался, что помнит его только таким. Все как будто забыли, каким Писахов был до революции. А ведь тогда это был невысокого роста крепкий и здоровый мужчина, выглядевший моложе своего возраста, всегда чисто выбритый и опрятно одетый. Учёба в Петербурге, знакомство с художественными коллекциями России, Франции, Италии, богатейшие впечатления от путешествий по Средней Азии и арабскому Востоку — все это вылепило фигуру яркого, образованного, умного и наблюдательного интеллигента. Однако после победы диктатуры пролетариата эти достоинства не только не были востребованы, но и вызывали подозрение. В целях самосохранения Писахов резко меняет свой облик, манеру поведения, стиль общения с окружающими. Он надевает карнавальную маску бахаря-сказочника: отращивает бороду, появляется на людях в поношенной одежде и старомодной шляпе, осваивает лексику простонародья. Кроме того, за стариковской внешностью легче было спрятать бедность, от которой он страдал смолоду, скрыть болезненную стеснительность, неровности характера, иногда чересчур вспыльчивого. Он выбрал образ старика, чудака, человека со странностями и тем самым сохранил за собой право на озорство, непосредственность в словах и делах.
Последние годы жизни
В последние годы своей жизни Писахов не любил говорить о возрасте: «Я привык быть под „стеклянным колпаком“. Это удобно: в гололедицу поддерживают, в трамвай подсаживают. На вопрос, который год, — говорю: в субботу будет 500!» (Из письма прозаику Александру Зуеву от 2 сентября 1959 г.).
За несколько дней до своего 70-летнего юбилея Писахов получил предложение от музея Арктического института продать записи, черновики, зарисовки, а также все картины, которые он хранил у себя дома. «Очень похоже это предложение на похоронную, — писал Писахов Владимиру Лидину. — Взялся за перо, переписал часть начатого, взял кисти — слушаются… Ещё „надежды питают“. Авось, и повернётся хорошее ко мне».
Полушутя-полусерьёзно Степан Григорьевич не раз говорил, что собирается отметить не только свой вековой юбилей, но и непременно дожить до 2000 года. Об этом он написал последнюю свою сказку, правда, оставшуюся неопубликованной. Майским днём 1960 года его не стало.
Музей Степана Писахова
В конце 2007 года был открыт архангельский музей Степана Писахова. Он расположен в бывшем доме-магазине купца Буторова, поскольку дом, в котором жил Писахов, был снесён в конце 60-х. Однако, несомненно, Степан Писахов бывал в лавке Буторова. В музее восемь залов, в которых представлено более 150 картин, документы и личные вещи художника, а также музейные объекты, воссоздающие атмосферу времени. Главная идея Музея — показать жизнь и творчество Степана Писахова на фоне времени, в котором он жил[3].
В 2008 г. Архангельске на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского состоялось торжественное открытие памятника Степану Писахову (автор Сергей Сюхин) — маленькому человеку, великому художнику[4].
Публикации
- Не любо — не слушай //На Северной Двине: Сборник / Арханг. о-во краеведения. Архангельск, 1924.- С.74-80;
- Сказки.- Архангельск, 1938;
- Сказки. 1940
- Сказки.- Архангельск, 1949;
- Сказки.- М., 1957;
- Сказки /Предисл. Ш. Галимова.- Архангельск, 1977;
- Сказки / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. А.А. Горелов.- М., 1978;
- «Сказы и Сказки» (1984)
- Сказки. Очерки. Письма / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.Б. Пономарева.- Архангельск, 1985.- (Рус. Север);
- «Месяц с небесного чердака» (1991)
- «Ледяна колокольня» (1992)
- Не любо — не слушай : сказки.- Калининград, 2004.
Примечания
См. также
- Смех и горе у Бела моря
Ссылки
- В Архангельске открыт музей Степана Писахова.
- «Весёлый сказочник с сердитыми бровями»
- О Писахове и Шергине
- BiblioGid.ru
- Писахов в библиотеке Мошкова Lib.ru
- Книги Писахова на Яндекс.Маркете
- Сказочник часть 1 2 3 4
- Музей Писахова, Музей Писахова
- Два эпизода из жизни сказочника
- Поэтическая душа Русского Севера
Источник: Писахов, Степан
Главная / ИНТЕРЕСНЫЕ АДРЕСА / КОНКУРСЫ, АКЦИИ, ФЕСТИВАЛИ / Всероссийский проект «Символы России» /
Всероссийский проект «Символы России»
2021 год
Возрастная категория 10-12 и 13-16 лет

- Аткинсон С. Путеводитель по звездному небу/ Стюарт Аткинсон; иллюстрации Брэндана Кирни; [перевод с английского Артёма Андреева].-Москва: АСТ: [Аванта], 2019.-55[8]с.: ил.-(Мировой научпоп для детей).
- Баранова М.П. Тяпа, Борька и ракета: повесть о бродячих собаках, которые стали знаменитыми/ М.П.Баранова, Е.С.Велтистов; худож. Е.Т.Мигунов, К.П.Ротов.-Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2015.-172[3]c.: ил.-(Ребята с нашего двора).-6+.
- Брашнов Д.Г.Удивительная астрономия/ Д.Г.Брашнов.-Москва: ЭНАС-КНИГА, 2015.-207c.: ил.-(О чем умолчали учебники).-12+.
- Брейк М. Самые-самые большие загадки времени и пространства: пер. с англ./ М.Брейк; худож. Н.Чокси; пер. Д.Сухих.-Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2012.-64c.: ил.
- Вселенная: большой иллюстрированный гид/ автор-составитель Оксана Абрамова.-Москва: АСТ: ОГИЗ, 2019.-160с.: цв. ил.-(Большой иллюстрированный гид).
- Грэхем И. Космос/ Йен Грэхэм; иллюстрации Барбары Бакош; перевод с английского Ирины Усовой.-Москва: АСТ: Аванта, 2019.-32с.: цв. ил.-(Вопросы и ответы для любознательных. Аванта).
- Дженкинс М. Открываем космос: от телескопа до марсохода/ Мартин Дженкинс; иллюстрации Стивена Бисти; [перевод с английского В.Горохова].-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.-64с.: ил.
- Дубкова С.И. Из наномира в Большой адронный коллайдер/ Светлана Дубкова.-Москва: Белый город, [2013].-255с.: ил.
- Жвалевский А.В. Мы в космосе. Как человек шёл к звездам/ Андрей Жвалевский.-М.: Пешком в историю, 2021.-84с.: ил.-(Мир вокруг нас).
- Качур Е.А. Увлекательная астрономия/ Елена Качур; иллюстрации Анастасии Балатёнышевой и Анастасии Холодиловой; [автор заданий А.Ванякина; научный редактор П.Дядина].-Москва: Манн, Ивванов и Фербер, 2015.-74с.: ил.-(Детские энциклопедии с Чевостиком).
- Климентов В.Л. Вперёд, в космос!: Открытия и достижения/ В.Л.Климентов, Ю.А.Сигорская; худож. А.Г.Шлядинский.-Санкт-Петербург; Москва: Речь, 2016.-112c.: ил.-(Речь о России).-12+.
- Климентов В.Л. Гагарин. Удивительная история первого полёта/ В.Л.Климентов; худож. В.Люлько.-Санкт-Петербург: Питер, 2019.-55c.: ил.-(Вы и ваш ребёнок).-12+.
- Климентов В.Л. Космическая эра. Истории покорения космоса: космическая эпоха в лицах/ Вячеслав Климентов, Ольга Низовцева.-Москва: АСТ: ОГИЗ, 2019.-191с.: цв. ил.-(Космос. История покорения).
- Коски О. Путеводитель космического туриста по Солнечной системе: научный подход к выбору оптимального маршрута/ Оливия Коски и Яна Грсевич; перевод с английского В.И.Фролова.-Москва: КоЛибри, 2019.-223с.: цв. ил.
- Космос и Земля: уникальная иллюстрированная энциклопедия для детей/ [автор текста Eduardo Banqueri; перевод с испанского И.Паршина; ред. П.Волцит, М.Фетисова; художники Estudio Marcel Socias, Gabi Martin].-Москва: АСТ: Аванта, 2015.-72с.: ил.-(Наша планета).
- Костюков Д. Космос: [невероятные истории о ракетах и космических станциях, о героях и изобретателях, о прыжках по Луне и инопланетянах, о запахе космоса и 16-ти рассветах в сутки, о невесомости и полетах со скоростью 28 тысяч км/ч!]/ Дмитрий Костюков, [художник] Зина Сурова.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016.-75с.: ил.
- Левитан Е.П. Мир, в котором живут звёзды/ Ефрем Левитан; [художник Т.Гамзина-Бахтий].-Москва: Издательский Дом Мещерякова, 2015.-188с.: ил.-(Пифагоровы штаны).
- Левитан Е.П.Чёрные дыры. Космические ужастики/ Е.П.Левитан; иллюстрации Ксении Ларичкиной.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.-64с.: цв. ил.-(Моя первая книжка).
- Литвинцева Л.В. Искусственный интеллект: беседы со школьниками/ Людмила Литвинцева; иллюстрации Марии Дамбиевой.-Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2019.-312c.: цв. ил.
- Монвиж-Монтвид А.И. Первый полёт в космос: [энциклопедия]/ А.И.Монвиж-Монтвид; худож. С.А.Зорина.-Москва: АСТ: Аванта, 2020.-95c.: ил.-(История нашей родины в рассказах и картинках).-0+.
- Набокова Е.А. Давай поговорим о космосе: научно-популярное издание/ Е.А.Набокова; худож. Е.А.Набокова.-Москва: Волчок, 2019.-137c.: ил.-(Наука в картинках).-6+.
- Нелихов А.Е. История Земли. От звездной пыли к звездной пыли/ Антон Нелихов, Алексей Иванов; художник Андрей Атучин.-Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019.-128с.: цв. ил.-(МИФ-Детство).
- Перельман Я.И. Занимательная астрономия/ Я.Перельман.-Москва: Бомбора, 2019.-320с.-(Захватывающая наука Якова Перельмана).
- Принджа Р. Планетариум/ текст: Раман Принджа; [перевод с английского Андрея Дамбиса]; иллюстрации: Крис Уормелл.-Москва: Махаон, 2018.-112с.: цв. ил.
- Рязанский С.Н. Сказки звёздного неба/ рассказывает космонавт Сергей Рязанский; художник Кристина Коновалова.-Москва: CLEVER/ [Клевер-Медиа-Групп], 2021.-75с.: цв. ил.-(Космические истории).-5+.
- Талер М.В. 3000 картинок, которые можно рассматривать целый год. Космос и Земля/ Талер М.В., Ликсо В.В.-Москва: АСТ, 2019.-239с.: ил.-(Полная энциклопедия в картинках для малышей).
- Ткаченко А.Б. Циолковский. Путь к звёздам/ Александр Ткаченко; художник Ольга Громова.-3-е изд.-Москва: Настя и Никита, 2019.-22[2]с.: цв. ил.-(Книжная серия «Настя и Никита», вып. 126).-0+.
- Чудная Д.Ю. Животные-космонавты. Первые покорители космоса/ Д.Чудная; Музей космонавтики; худож. А.Мицкевич.-Санкт-Петербург: Питер, 2018.-63c.: ил.-(Вы и ваш ребёнок).-12+.
- Хокинг Л. Джордж и код, который не взломать: пер. с англ./ Л.Хокинг, С.Хокинг; худож. Г.Парсон; пер. Е.Д.Канищева.-Москва: Розовый жираф, 2016.-349[3]c.: ил.-6+.
2020 год
Возрастные категории 10-12 и 13-16 лет
Российская государственная детская библиотека провела для детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет Всероссийский конкурс «Символы России» — конкурс вопросов об общеизвестных народных подвигах Великой Отечественной войны, которые совершались на фронте и в тылу.
Несмотря на то, что далеко не все города удостоены высшей степени отличия «город-герой» или почетного звания «город воинской славы», в Советском союзе не было ни единого места, которое не внесло бы свой вклад в Победу. Тыл жил под лозунгом «Все для фронта, все для победы!», принимал эвакуированных и раненых, производил оружие и боеприпасы, отправлял на передовую призывников и добровольцев, продовольствие, обмундирование, топливо. Темой проекта 2020 года стали подвиги фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.
По итогам конкурса прошла Всероссийская олимпиада «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла».
Координатор проекта по Ленинградской области — Ленинградская областная детская библиотека.
Благодарим участников! Поздравляем победителей олимпиады по Ленинградской области из Выборга и Кировска!

2019 год
Возрастные категории 8-10 и 11-14 лет

| | Символы России. Спортивные достижения Приём работ завершен 06.10.2019 Отбор лучших вопросов до 25.10.2019 Победители конкурса вопросов 2019 года | 21.11.2019 Поздравляем победителей олимпиады по Ленинградской области из Выборга и Сланцев! Благодарим участников олимпиады из Выборга, Кировска, Приозерска и Сланцев! Дипломы победителей и сертификаты участников будут вручены на местах проведения олимпиады до 31.12.2019 Проверь себя: | |
2018 год
Возрастные категории 7-10 и 11-14 лет

Конкурсные вопросы должны касаться произведений, входящих в примерные программы основных общего и начального образования по литературе, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту.
2017 год
2016 год
22.12.2020