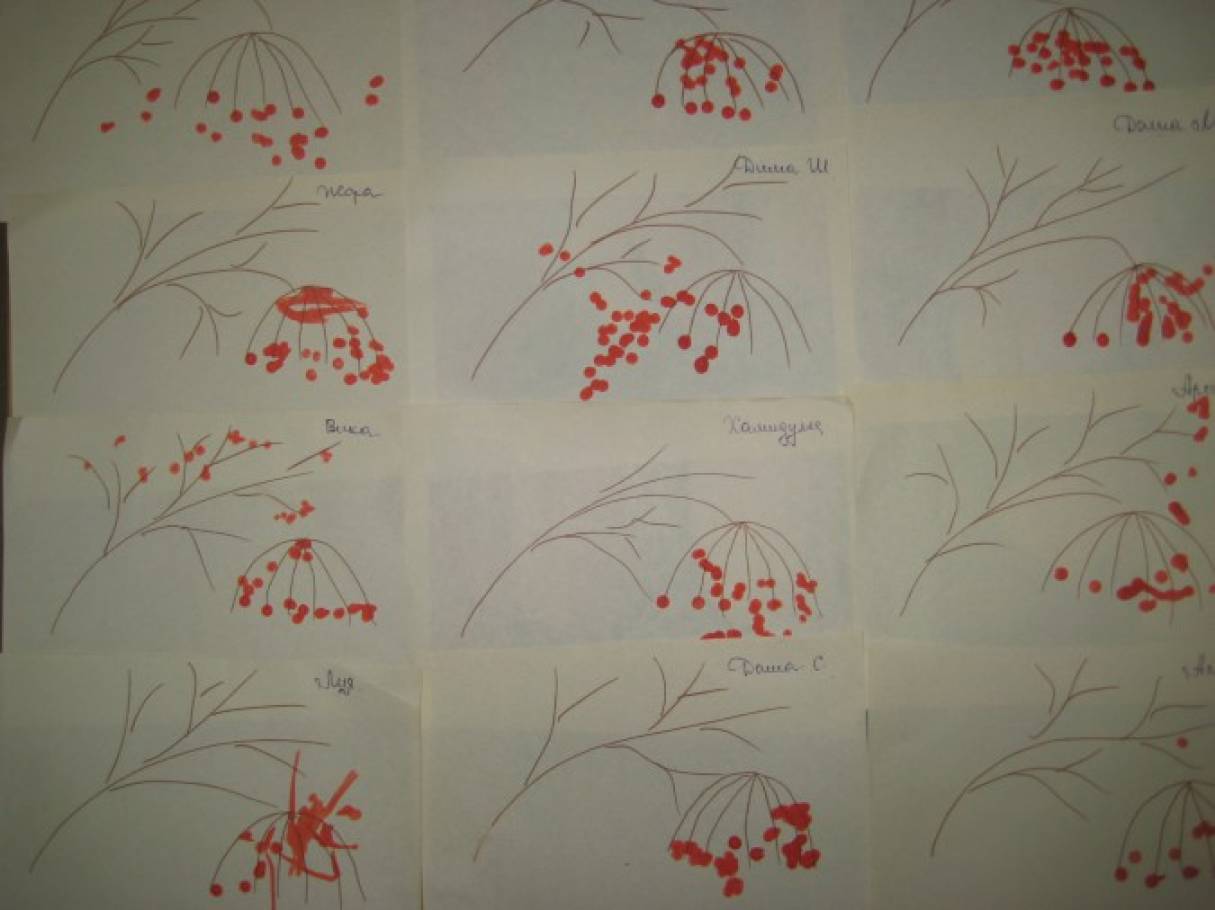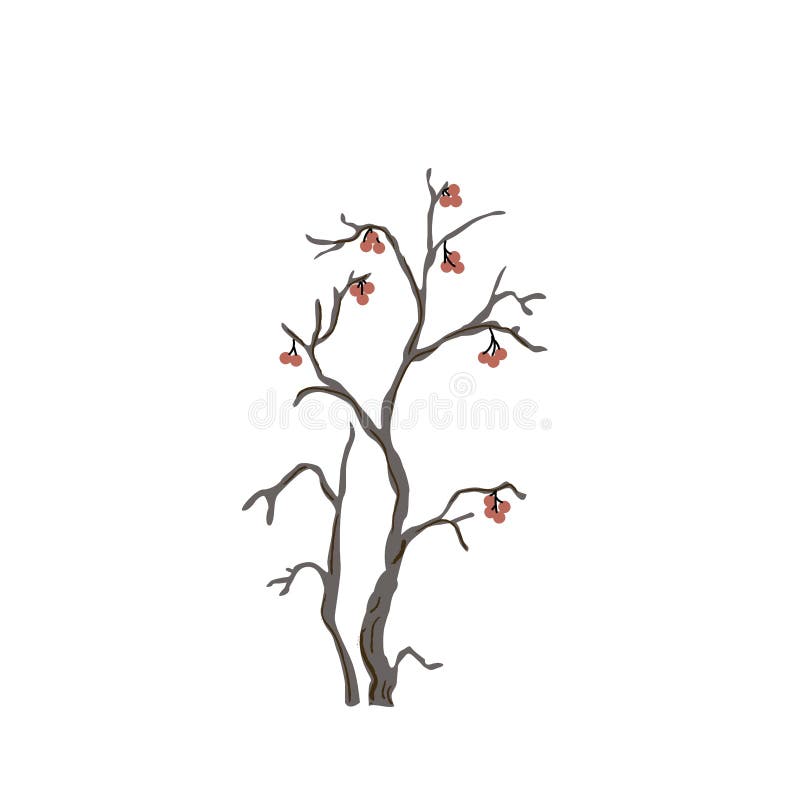Вдумчивое чтение: как это делается
Если Вам это действительно интересно, предлагаю познакомиться с тезисами лекции Ольги Громовой, которая проходила сегодня в Национальной библиотеке Чувашии. Ольга Громова – главный редактор журнала «Библиотека в школе», библиотекарь по призванию.
В течении часа гостья рассказывала об эффективных методиках работы по привлечению к чтению детей и подростков, среди которых – громкое чтение, чтение с остановками, музей проживания одной книги.
Периодически мы слышим о том, что современные дети не читают, но это не совсем так. Просто большинство родителей сравнивают себя со своими детьми и считают, что они не так читают, не то читают и не там читают. А ведь согласитесь, у родителей просто не было выбора, читали они то, что было – прочитать труды семнадцатого съезда КПСС, да пожалуйста. Выучить наизусть очередной трактат, не вопрос.
Большинство современных детей и подростков читают, но вместо бумажных книг они используют электронные гаджеты. Учеными доказано, что среди тех детей, которые читают только с экранов, в три раза меньше таких, кто получает от чтения большое удовольствие, и на треть меньше тех, кто смог назвать свою любимую книгу. При чтении с экрана «снимается» меньше информации, чем с бумаги. И нельзя считать такое чтение нормой.
Исследования в области когнитивной науки, психологии и нейробиологии показали, что внимательное, вдумчивое чтение – неспешное, с эффектом присутствия, позволяющее отмечать малейшие подробности и вызывающее множество тончайших ощущений, сложное по своему эмоциональному и нравственному воздействию – это особое, уникальное умение, которое совсем не похоже на обычную расшифровку слов. И хотя, строго говоря, для вдумчивого чтения обычная книга не требуется, заданные рамки печатной страницы необыкновенным образом способствуют именно такому внимательному вдумчивому чтению. Например, отсутствие в печатной книге гиперссылок избавляет читателя от необходимости принимать решение – нажимать на ссылку или нет, благодаря чему читатель может всецело погрузиться в содержание книги.
Вдумчивое чтение предполагает использование таких методик как громкое чтение, чтение с остановками, музей проживания одной книги.
Громкое чтение
Чтение вслух способствует созданию у детей образных представлений, воздействует на эмоциональную сферу восприятия. Оно помогает заинтересовать ребенка, может вызвать у него желание продолжить чтение самостоятельно. Более того, оно приучает к внимательному слушанию текста.
Чтение с остановками
Приём «чтение с остановками» учит умению выражать свои мысли, используется, чтобы заинтересовать ребенка книгой, привлечь его к осмысленному чтению. «Чтение с остановками» представляет собой своеобразный художественный календарь текста с обсуждением содержания каждого смыслового фрагмента и прогнозированием дальнейшего развития сюжета.
Музей проживания одной книги
Данная технология формирует активного читателя, развивает навыки понимания текста. Музей проживания одной книги – это музей-мастерская. Экспонатами могут быть как работы, выполненные в разных техниках, так и рецензии, критические статьи, письма, написанные читателями автору или герою прочитанной книги и т.д. Также в музейной экспозиции могут быть любые предметы, имеющие непосредственное отношение к тексту. Работы могут выполняться как коллективно, так и индивидуально.
Главная идея представленных технологий – уход от комментирования текста и мысли, что ответ только один и он верный. Важно уметь задавать вопросы, побуждающие аудиторию размышлять и чувствовать, давать свою оценку прочитанному, придумывать продолжение истории.
Вдумчивое чтение
«Мы не умеем читать».
Мы не умеем читать. Слово «читать» в этом тезисе значит нечто большее, чем умение складывать буквы в слова, а слова в предложения. Я говорю о чтении в самом высоком смысле — о чтении ради понимания и образования.
В учебных заведениях нам преподают литературу, родной язык, иностранные языки и ряд других гуманитарных дисциплин, способствующих совершенствованию навыков чтения.
Однако вдумчивому чтению хороших книг — в виде системы приемов работы с текстом — нас учат редко и фрагментарно.
Возможно, в последние столетия произошла деградация системы образования, которая в старые времена основывалась на изучении гуманитарных наук, активном чтении и обсуждении великих книг. Возможно, человеческое знание стало таким объемным и многообразным, что человек невольно сужает границы понимания мира. Возможно, человек ощутил себя настолько могучим и всесильным по сравнению с людьми прошлых веков, что потерял интерес к развитию
Каковы бы ни были причины, нам надо учиться читать — учиться самим и учить наших детей, потому что система образования в ее современном виде не способна сделать это за нас.
При всей кажущейся простоте нижеизложенных правил чтения процесс овладения ими будет трудным, долгим, практически бесконечным в рамках человеческой жизни. В книге «Как читать книги» философа Сергея Поварнина (1870-1952 гг.) приводятся известные слова Гете: «Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и все не могу сказать, чтобы вполне достиг цели.»
Этот труд не станет напрасным. Правильное чтение — дорога к уникальным знаниям, которые содержатся только в книгах и которые дают человеку возможности для улучшения жизни, личностного и профессионального самосовершенствования. Хорошие книги имеют и более возвышенное значение: знание и понимание лежат в основе свободы человека, видящего суть явлений и умеющего мыслить эффективно и критически; в основе защиты от различного рода манипуляций, столь распространенных в эпоху информационных войн; в основе умения находить общий язык с окружающими людьми.
Я изложу здесь вполне завершенную технологию чтения хороших книг, однако в будущем намерен расширить ее после прочтения нескольких книг по теме правильного чтения.
Выбор книг для чтения
В наследии человечества даже по-настоящему великих книг больше, чем человек способен прочесть за всю жизнь.
Грустно, что невозможно охватить их все, но в то же время приятно сознавать, что мы обеспечены богатым материалом для ума и души до конца наших дней. Когда глубоко проникаешься этой мыслью, то приходишь к выводу: надо читать только то, что действительно заслуживает внимания и способно принести пользу. Стоит читать только лучшие книги.
В категории лучших книг особо выделяются великие книги. Они живут вне времени, они были актуальны тысячи лет назад и остаются таковыми сегодня — они являются для нас даром свыше, как и для наших древних предков.
Важно иметь стратегию чтения: не читать все интересные книги вподряд, а соотносить план чтения с личными целями и текущими делами; не читать самые разные книги вперемежку, а изучать дополняющие друг друга или дискутирующие друг с другом книги (это расширенное чтение, более подробно я расскажу о нем ниже).
Чтение книги и работа над ней
Можно выделить три основных этапа чтения:
- Получение общего представления о книге и анализ ее структуры.
- Прочтение книги, поиск общего языка с автором, понимание книги.
- Формирование собственного критического мнения о книге.
1. Получение общего представления о книге и анализ ее структуры
Знакомство с книгой начинается с названия, обложки, аннотации, оглавления. Нужно внимательно прочесть предисловие к книге, так как в нем хорошие авторы дают ценную информацию для понимания проблем, затронутых в книге, ее структуры и целей. В большинстве случаев есть смысл еще до прочтения книги ознакомиться с заключением. Собранные в нем выводы способствуют лучшему пониманию произведения.
Необходимо определить основную тему книги, сформулировать ее для себя в кратком виде, в нескольких предложениях. Очень важно выразить главную тему именно своими словами, а не заимствовать готовые фразы из аннотации и предисловия.
Далее можно переходить к анализу структуры. Мы должны видеть анатомию книги — все ее составные части и их взаимосвязь — чтобы окончательно сформировать общее представление и понять логику и ритм произведения.
В хороших книгах отчетливо просматривается стройная, как в музыке, структура.
Выделив основные логические части книги, нужно проговорить, о чем говорится в каждой из них, установить, почему они расположены именно в таком порядке, как они связаны друг с другом, какие части находятся на первом уровне структуры, какие второстепенны.
Проделав эту начальную работу, мы выявим проблемы, которые автор собирается решить в книге. Необходимо знать перечень этих проблем, это пригодится нам как для понимания книги, так и для ее критической оценки на последнем этапе чтения.
2. Прочтение книги, поиск общего языка с автором, понимание книги
Часто мы считаем чтение пассивным занятием: казалось бы, мы только воспринимаем информацию, но не создаем ее сами. Однако в действительности вдумчивое чтение подразумевает активную работу мозга и активный диалог с автором. Как известно, условие успешного диалога двух людей — взаимопонимание и единство терминологии.
Следовательно мы должны найти общий язык с автором, понять, каким образом и в каком смысле он употребляет те или иные ключевые слова — слова, имеющие в книге большой вес. Например, ключевые слова этой статьи: «книга», «чтение», «автор» и т.д.
При знакомстве с книгой и анализе структуры мы уже могли обратить внимание на ключевые слова, теперь при подробном чтении книги за ними нужно внимательно следить, выделять их и правильно интерпретировать, исходя из контекста.
Одновременно в процессе чтения необходимо обнаруживать главные, наиболее важные для книги утверждения автора, подчеркивать их карандашом или выписывать в блокнот. Нужно видеть тезисы, их доказательства и выводы, нужно видеть утверждения, требующие аргументации, и утверждения, аргументирующие другие утверждения. Стоит сохранять в блокноте не только главные тезисы, но и кратко указывать своими словами, каким образом автор доказывает их.
Также можно выписывать наиболее яркие и сильные цитаты. Будет хорошо, если мы поделимся ими с другими людьми во время чтения через социальные сети или твиттер, а после чтения их можно оформить в виде отдельного поста в блоге.
Завершая чтение, мы вспоминаем, какие проблемы автор стремился решить в книге, и делаем вывод, насколько удачно он выполнил свою задачу. Мы определяем, какие проблемы не решены и знает ли автор об этом или упустил что-то важное. Таким образом, мы закладываем основу для следующего этапа чтения — критической оценки книги.
3. Формирование собственного критического мнения о книге
Перед началом этого этапа работы с книгой нужно убедиться, что мы добросовестно следовали всем правилам чтения, описанным выше. Мы только тогда имеем возможность и право соглашаться с автором или выносить ему обвинительный приговор, когда закончили внимательно изучать книгу и поняли ее.
Книги делают нас умнее и добрее | Мир | ИноСМИ
Недавно профессор философии Ноттингемского университета Грегори Карри (Gregory Currie) заявил в New York Times, что нам не следует утверждать о том, что литература делает нас лучше в человеческом плане. Он считает, что «нет убедительных доказательств того, что люди становятся лучше в нравственном или социальном отношении, если они читают Толстого» или другие хорошие книги.
На самом же деле, такие доказательства существуют. Канадские ученые – психолог из Йоркского университета Рэймонд Мар (Raymond Mar) и почетный профессор когнитивной психологии из университета города Торонто в своих работах, опубликованных в 2006 и 2009 годах, утверждают, что люди, активно читающие художественную литературу, способны лучше понимать других людей, сопереживать им и смотреть на мир с их позиций. Эта взаимосвязь подтвердилась даже после того, как ученые изучили вопрос с другой стороны, предположив, что чуткие и способные к сопереживанию люди предпочитают читать больше художественной литературы. В ходе исследования, проведенного в 2010 году, Мар получил аналогичные результаты у детей младшего возраста: чем больше книг им читали, тем более убедительными были результаты, подтверждающие их «теорию сознания» или модель психического состояния другого человека.
В отличие от беглого поверхностного чтения, которое мы используем в интернете, «внимательное, вдумчивое чтение» – это навык, который может скоро исчезнуть, и мы должны во что бы то ни стало сохранить этот метод чтения подобно тому, как мы храним ценное историческое здание или величайшее произведение искусства. Его исчезновение поставит под угрозу умственное и эмоциональное развитие поколений, растущих в интернете, а также приведет к исчезновению важнейшей части нашей культуры – романов, стихов и других видов литературы, оценить которые могут лишь читающие люди, мозг которых в буквальном смысле натренирован именно для их восприятия.
Недавние исследования в области когнитивной науки, психологии и нейробиологии показали, что внимательное, вдумчивое чтение – неспешное, с эффектом присутствия, позволяющее отмечать малейшие подробности и вызывающее множество тончайших ощущений, сложное по своему эмоциональному и нравственному воздействию – это особое, уникальное умение, которое совсем не похоже на обычную расшифровку слов. И хотя, строго говоря, для вдумчивого чтения обычная книга не требуется, заданные рамки печатной страницы необыкновенным образом способствуют именно такому внимательному вдумчивому чтению. Например, отсутствие в печатной книге гиперссылок избавляет читателя от необходимости принимать решение – нажимать на ссылку или нет, благодаря чему читатель может всецело погрузиться в содержание книги.
Такое погружение или эффект присутствия становится возможным благодаря механизмам, с помощью которых головной мозг воспринимает и обрабатывает язык повествования, богатый тончайшими деталями, иносказаниями и метафорами. Они формируют образное представление, которое воздействует на те же самые участки головного мозга, которые включались бы, если бы описываемое событие происходило в реальной жизни. Эмоциональные ситуации и нравственные сомнения, составляющие основу художественной литературы, также являются эффективным способом тренировки мозга – благодаря им мы как бы проникаем в головы и души вымышленных персонажей и приобщаемся к их мыслям и чувствам.
Более того, как утверждают ученые, эти процессы повышают наши способности к сопереживанию в реальной жизни.
Вряд ли что-либо подобное происходит, когда вы просто прокручиваете мышкой информацию на сайте TMZ (на котором публикуется светская хроника – прим. перев.). И хотя это действие мы тоже называем чтением, все-таки вдумчивое чтение книг и просмотр материалов в интернете с целью извлечения информации это совсем разные вещи. Они оказывают на человека совершенно разное воздействие, производят на него абсолютно иное впечатление и развивают совершенно разные навыки. Ученые получают все больше доказательств того, что онлайн чтение, по всей видимости, менее увлекательно и доставляет меньше удовольствия – даже так называемым «обитателям цифровых джунглей», которые только так и привыкли читать. Например, Британский национальный фонд грамотности (National Literacy Trust) в прошлом месяце опубликовал результаты исследования, проведенного среди 34910 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Ученые выяснили, что 39% детей и подростков читают каждый день, используя электронные устройства, и лишь 28% из них ежедневно читают с листа. Среди тех детей, которые читают только с экранов, в три раза меньше таких, кто получает от чтения большое удовольствие, и на треть меньше тех, кто смог назвать свою любимую книгу. Сравнив детей, которые читают только электронные материалы и тех, кто читает как печатные, так и электронные книги, ученые пришли к выводу, что в первой группе в два раза меньше детей, которые относят себя к любителям чтения, т.е. читают больше других.
Следует понимать, почему так важно следить не за тем, читают ли дети вообще, а за тем, как они читают, а для этого было бы неплохо выяснить, как развивались способности к чтению. «Человек не был рожден для чтения», — утверждает Мэриэнн Вулф (Maryanne Wolf), руководитель Центра по изучению навыков чтения и речи при Университете Тафтса (Tufts University) и автор книги «Пруст и кальмар: История и наука читающего мозга» (Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain).
В отличие от способности понимать и воспроизводить устную речь, которая в обычных условиях развивается в соответствии с заложенной генетической программой, способность к чтению необходимо настойчиво развивать в каждом человеке. «Механизмы или схемы чтения», которые мы при этом создаем, строятся на основе процессов в головном мозге, которые были созданы природой для других целей. И эти новые механизмы могут оказаться либо прочными, либо непрочными – в зависимости от того, как часто и как интенсивно мы их задействуем.
Человек, который читает текст внимательно, полностью погружаясь в содержание, защищен от отвлекающих факторов и настроен на стилистические оттенки языка. Психолог Виктор Нелл (Victor Nell) в своей статье о психологических основах удовольствия, получаемого от чтения, утверждает, что такой читатель входит в состояние, которое можно сравнить с гипнотическим трансом. Нелл обнаружил, что, когда читатель достигает максимального удовольствия от чтения, темп чтения замедляется. Чередование быстрого, беглого распознавания слов и медленного, неспешного погружения в содержание написанного, позволяет такому читателю растянуть удовольствие и обогатить впечатление от прочитанного своими размышлениями, дополнить его аналитическими рассуждениями, собственными воспоминаниями и мнениями. Такое чтение дает читателю время на то, чтобы сформировать тесную связь с автором книги, благодаря которой они как бы затевают долгую и эмоционально насыщенную беседу – как люди, между которыми зарождается любовь.
Но многие молодые люди приобщаются не к такому чтению. Их чтение прагматично и осуществляется с помощью гаджетов. Разницу между этими видами чтения литературный критик Фрэнк Кермоуд (Frank Kermode) определяет понятиями «физическое, материальное чтение» и «душевное, возвышенное чтение». И если мы позволим нашим детям считать такое физическое, материальное чтение нормой, если мы не откроем для них все прелести чтения душевного и возвышенного (настойчиво приучая их к такому регулярному чтению с самых ранних лет), то мы лишим их многих радостей.
Ярких впечатлений, бурных переживаний и восторгов, которых они никогда не смогут испытать другими способами. Мы лишим их возможностей облагородить свои души, обогатить свои знания и, тем самым, повысить свою человеческую значимость. Наблюдая зависимость детей от всякого рода цифровой техники, многие прогрессивные педагоги и лояльные родители говорят о необходимости «принимать детей такими, какие они есть» и организовывать процесс воспитания с учетом их «привязанности» к гаджетам. Это ошибочный подход. Нам следует показать им тот мир, в котором они еще не были – мир, в который можно попасть, только научившись внимательно и вдумчиво читать обычные книги.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
что это такое, обучение навыку аналитического чтения
Способы чтения
Складывать слоги и воспроизводить слова — что может быть проще? По силам даже трёхлетним детям! Но оказывается, если хочешь вынести из чтения новые знания и опыт, этого недостаточно.
В 1940 году американский педагог и философ Мортимер Адлер написал труд под названием «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений». Доктор Адлер провёл исследование и выявил четыре способа чтения:
- Элементарный. Этот навык мы получаем ещё в начальной школе: просто читаем слова, понимаем их смысл и следуем за основным сюжетом.
- Инспекционный. Чтение скользящим взглядом, когда смотришь в начало страницы, затем переходишь к её концу, попутно стараясь зацепить ключевые моменты и понять течение мысли автора. Так часто читают в интернете.
- Аналитический. Медленное внимательное чтение с погружением в текст и его анализом. Задача — полностью понять и усвоить изложенные идеи.
- Исследовательский. Предполагает чтение одновременно нескольких книг на одну тему в поисках подтверждения или опровержения какой-либо теории. В основном используется писателями и учёными.
Обучение аналитическому виду чтения
Источник: freepik.
com / @wayhomestudio
Давайте попробуем научиться аналитическому чтению, поскольку именно оно необходимо для успешной учёбы (инспекционный способ иногда тоже выручает, но это тема для отдельной статьи).
1. Создайте условия для аналитического чтения
Если беллетристику можно читать на «автопилоте», то для серьёзных текстов нужна концентрация. Наши рекомендации:
- найдите тихое место, где сможете читать без отвлечений;
- отключите гаджеты, которые могут помешать вам медленно и вдумчиво читать.
2. Подготовьтесь к аналитическому чтению
Прежде чем начать работу над книгой (а аналитическое чтение — это именно работа), узнайте немного об авторе. Кто он? Когда написал данное произведение, что его к этому подтолкнуло? Согласитесь, монография от доктора наук вызывает больше доверия, чем от историка-любителя.
Посвятите несколько минут инспекционному чтению:
- Изучите содержание. Попробуйте по нему понять, какие знания вы получите в процессе чтения.
- Ознакомьтесь с аннотацией и предисловием. Если при этом у вас появятся какие-нибудь вопросы, обязательно запишите их. Закончив аналитическое чтение, вы поймёте, дал ли автор ответы.
3. Заведите commonplace book
Источник: blog.tombowusa.com/
Commonplace book — это блокнот или ежедневник для заметок, цитат, любых выдержек из книг. Читая, выписывайте то, что приносит вам чувство озарения и вдохновения. Так вы глубже погрузитесь в тему и получите в финале квинтэссенцию смысла.
Предпочитаете электронные книги? Тем лучше! В современных «читалках» выделять текст ещё проще, чем на бумаге. Кроме того, ведение заметок при работе с электронными книгами помогает избежать ловушки инспекционного чтения.
Информацию на экране мы привыкли просматривать бегло. Взгляд порой автоматически перепрыгивает со строчки на строчку, пропуская целые абзацы. Установка на каждой странице находить и выделять главное приучает к более вдумчивому и размеренному аналитическому чтению цифровых текстов.
4. Пополняйте словарный запас
Читая книги на иностранном языке, мы то и дело сверяемся со словарём. Иначе теряется смысл — становится ничего не понятно. А вот читая на русском, мало кто обращается к Далю или Ожегову. Мы просто пропускаем незнакомые слова, стараясь уловить суть по контексту.
А зря! Если автор выбрал какое-то сложное слово, значит, именно оно наиболее точно передаёт суть.
Изучайте этимологию незнакомых слов, выписывайте и заучивайте их. Здесь вновь пригодится commonplace book. Формируя навык аналитического чтения, старайтесь понять, зачем то или иное слово используется в тексте.
5. Относитесь к тексту критически
Чтение — это в большей степени разговор, чем лекция. А аналитическое чтение предполагает ещё и непрерывный анализ.
Задавайте вопросы по содержанию, не бойтесь мысленно спорить с автором. Если встретите трудное место, прервите чтение. Загляните в энциклопедию или другой источник, чтобы всё прояснить, а затем возвращайтесь к книге. У вас не должно оставаться тёмных мест в изучаемом материале.
Превратите чтение из пассивного потребления в активный интеллектуальный процесс.
Взаимодействуйте с материалом, ведите внутренний диалог, тогда вы сможете запоминать намного больше.
6. Напишите короткое резюме по прочитанному
После завершения работы с книгой составьте краткий отчёт, отражающий ваши основные впечатления и полученные знания. Пункты могут быть такие:
- О чём эта книга? Несколько предложений про основной смысл произведения.
- Что произошло и почему? Составьте краткий план книги или нарисуйте схему сюжета.
- Каково ваше отношение к прочитанному? Согласны ли вы с мнением автора или считаете его ошибочным?
- Какие выводы вы сделали из прочитанного? Зафиксируйте всё, что смогли извлечь из данной книги для своего развития.
Такие саммари особенно хорошо делать, когда читаешь несколько книг по одной и той же теме. Это позволяет сравнивать концепции и улучшать критическое суждение.
Время от времени свои аннотации к книгам полезно перечитывать. Писатель Рамит Сети рекомендует интересную методику: каждые 4–6 недель он выделяет 40 минут, чтобы пересмотреть свои заметки по книгам и статьям. При этом выбирает те заметки, что подходят по теме к тому, над чем он сейчас работает.
Некоторые книги достаточно просто попробовать, другие хочется проглотить одним махом, а есть те, которые приходится долго разжёвывать и переваривать.
Фрэнсис Бэкон
Возможно, аналитический способ чтения покажется вам утомительным. Он действительно требует довольно много времени. Зато можете быть уверены, что получите максимум от каждой прочитанной книги.
Как полюбить читать и зачем это нужно
Школьникам и студентам приходится много читать, чтобы получать высокие баллы на контрольных и экзаменах. Но неверно думать, что после написания итогового сочинения и сдачи ЕГЭ причин читать не остаётся. Тело человека эволюционировало под влиянием физической нагрузки, а умственные способности развиваются благодаря чтению. Как получать удовольствие от чтения и начать читать регулярно — об этом наша статья.
Режиссёры каждый год выпускают экранизации увлекательных произведений. Чтобы узнать хорошую историю, не обязательно читать текст. Однако разница есть: при просмотре кино человек получает готовые образы, а когда читает книгу — представляет события и героев сам. Во время чтения работает воображение, которое необходимо для решения творческих нестандартных задач в учёбе и в жизни.
Нил Гейман (писатель, автор книги «Звёздная пыль» и сценария к сериалу «Доктор Кто») в 2007 году участвовал в конференции научной фантастики и фэнтези в Китае. Долгое время подобная литература в КНР была под запретом. Гейман спросил у чиновника, почему власти изменили отношение к фантастике. Оказалось, что китайцы долгое время прекрасно изготавливали вещи по чужому замыслу, но были неспособны изобретать что-то своё.
Правительство направило делегацию в Apple, Microsoft и Google, чтобы разгадать секрет креативности. Выяснилось, что все изобретатели в детстве увлекались чтением фантастики.
Словарный запас делят на активный и пассивный. Активным словарём человек пользуется в своей речи, пассивный — это все слова, которые он понимает. Благодаря синонимам в описаниях и контексту художественная литература расширяет список знакомых читателю понятий. Чтобы стать эрудитом, полезно также читать сноски, предисловия и примечания редакторов и переводчиков.
Художественная литература на родном языке знакомит читателя с культурой и историей своей страны. Переводы зарубежных авторов показывают мир глазами иностранцев, позволяют путешествовать по свету не выходя из дома, узнавать о жизни за границей то, что не заметно в туристической поездке.
Во время чтения приходится постоянно следить глазами за строчкой текста. Для людей, привыкших к яркому мельтешению на экране смартфона, делать это бывает непросто. При этом способность долгое время концентрировать внимание на одном деле крайне полезна: в отличие от многозадачности это помогает доводить дело до конца и экономит время.
Поскольку большинство людей опирается на зрительную память, регулярное чтение качественной литературы помогает запомнить, как пишутся слова. Правила орфографии забудутся, а зрительные образы останутся в памяти навсегда.
Пунктуацию при чтении усвоить сложнее, а вот развить чувство языка вполне возможно. Постоянно прочитывая, проговаривая удачные формулировки, согласования разных частей речи и витиеватых фраз, читатель учится различать языковые тонкости, чтобы затем использовать в собственной речи.
Если ученику предстоит давать развёрнутый ответ на ЕГЭ по гуманитарным предметам или решать задачи повышенной сложности на олимпиадах по математике и физике, чтение поможет «прокачать» необходимые навыки.
Не стоит читать, чтобы одолеть школьный список литературы. Чтение прекрасно вне школы и домашних заданий.
Если ни одна книга из учебного списка не вызывает интереса, можно немного схитрить. В крайнем случае книги по программе можно послушать в аудиоформате и посмотреть экранизацию. Это не заменит вдумчивого чтения, но поможет написать сочинение.
Лучше выбирать книгу на основе собственных увлечений. Юному учёному наверняка будет интересно прочесть автобиографию нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!». Любителям моды подойдут книги по истории костюма. Всем, кто хочет разобраться в себе и улучшить навыки общения, советуем обратить внимание на «Ты можешь больше, чем ты думаешь» Томаса Армстронга и другие книги этой серии.
Иногда стоит познакомиться с жизнеописанием автора, чтобы заинтересоваться его работой. Писатель Даниил Хармс, хоть и сочинял детские стихи, детей не любил. Ему нравились маленькие гладкошёрстные собачки, которым он выдумывал причудливые клички, например, «Бранденбургский концерт».
«Жаворонки», как правило, начинают с книги свой день, а «совы» обычно читают перед сном. Вдобавок к этому лучше брать книгу с собой и открывать её каждый раз, когда появляется минутка полистать мемы в интернете. Если читать в дороге и в минуты ожидания в течение дня, удастся быстрее втянуться в чтение.
Кто-то любит читать лёжа на кровати, а кто-то сидя в кресле с чашечкой какао. Телевизор и компьютер нужно выключить, а телефон поставить на беззвучный режим или вовсе убрать в другую комнату, чтобы точно не отвлекал.
Если тома художественной прозы пугают начинающего читателя, подойдут сборники мудрых изречений и стихов. Кстати, стихи — отличный способ пробудить образное мышление, ведь всего в несколько слов автор умудряется уместить идею целого произведения. Понравившиеся остроумные афоризмы отлично запоминаются, и их можно использовать в сочинениях и устных высказываниях на уроках.
Любопытно посмотреть экранизацию прочитанной книги: совпадут ли визуальные образы героев в воображении читателя с тем, что представил режиссёр? Какие сюжетные линии останутся в фильме, а какими сценаристы пренебрегут?
Перечень новинок кино может подсказать, какую книгу выбрать для прочтения, чтобы быть в тренде.
В разное время экранизации «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Хроники Нарнии» и «Алисы в стране чудес» вызывали всплеск интереса к одноимённым книгам. Когда читаешь модное произведение, всегда найдётся, с кем его обсудить.
Читательский дневник будет полезен при подготовке к письменным работам. В старших классах его можно вести в любом удобном формате, например, в виде ментальной карты.
Важно помимо названия произведения и автора выписывать значимые цитаты, свои собственные вопросы и оценки, догадки, заметки на тему истории и искусства. При подготовке к экзамену по литературе отдельно стоит выписывать тезисный план произведения.
Книги могут стать отличной темой для влога: при желании можно научиться интересно и ёмко давать рецензию или лаконично и остроумно пересказывать её содержание.
Даже школьник со скудным читательским опытом способен поддержать интересную беседу о литературе. Расспрашивать о книгах можно и членов семьи, и сверстников, и учителей, и случайных знакомых. Читает ли собеседник книги, почему да или почему нет? Какая произвела наибольшее впечатление и почему? Как он находит новые книги? Какую книгу обязательно советует прочитать каждому и зачем?
По мере прочтения книг можно обсуждать их в виртуальных и офлайн клубах, которые проходят в социальных сетях, на форумах в интернете и в библиотеках. Если в школе нет книжного клуба, его можно создать. Дискуссии о замысле автора, добре и зле, качестве переводов и экранизаций дарят интеллектуальное удовольствие, доступное только читающим.
Разберём основные проблемы и способы их решения.
Когда не удаётся читать бегло или непонятно, как ставить ударение в словах из прошлой эпохи, интерес к книге падает. В этом случае полезно следить глазами по строчкам и одновременно слушать аудиокнигу, прочитанную актёром. Этот метод применяют в изучении иностранных языков, но и произведения на русском так тоже можно читать. Слушать профессионального чтеца — отдельное удовольствие, при этом школьник учится использовать интонации, делать паузы в речи, замечать акценты, которые мог бы не уловить сам.
Бывает что книга интересная, лёгкая или с юмором, а всё равно хочется оторваться, взять в руки телефон, или съесть что-нибудь — проблема в концентрации внимания. Нужно её тренировать: например, завести таймер для начала на 1 минуту и читать безотрывно. Если получается, то постепенно увеличивать время, пока не удастся читать, не отвлекаясь, полчаса.
- Чтение развивает воображение и способность концентрировать внимание, расширяет кругозор и словарный запас.
- Важно начать с увлекательной книги или писателя, близкого по духу.
- Для книги нужно место и время: утро или вечер, рабочий стол или уютный плед и горячий чай.
- Если крупные литературные формы пугают, для начала подойдут стихи и собрания умных мыслей.
- Смотреть фильмы по книгам бывает полезно как для вдохновения, так и для сравнения постановки с версией из своего воображения.
- При чтении произведений из школьного списка полезно вести читательский дневник. Заметки в форме интеллектальных карт, таблиц или даже видеоблога будут опорой при подготовке к экзаменам по литературе.
- Любопытно обсуждать прочитанные книги и расспрашивать людей об их литературных предпочтениях. Так можно расширить своё понимание сюжета и узнать о стоящих произведениях и авторах.
- Если читать текст пока трудно, можно слушать аудиокнигу и одновременно следить глазами по строчкам. Следя за голосом диктора, слушатель запоминает произношение новых слов и лучше понимает характеры персонажей благодаря интонациям.
- Чтение — это навык, который требует тренировки. Нагрузки лучше увеличивать постепенно. Даже одна минута чтения в день лучше, чем ничего. Постепенно, неделя за неделей начинающие читатели доходят до одной книги в месяц, а затем и в неделю.
Сочинение рассуждение на тему какая польза от чтения книг 7 класс
- Сочинения
- На свободную тему
/
Что может быть полезнее и приятнее чтения? Большинство умных людей достигли своего высокого статуса именно благодаря чтению литературы (в зависимости от её жанров и поджанров).
Посредством чтения достигаются умопомрачительные результаты хотя бы потому, что на страницах книг происходит знакомство и общение с философами, писателями, биологами, физиками, общественными деятелями и прочими значимыми людьми, с которыми персональное, реальное общение невозможно по причине либо языковых и пространственных барьеров, либо по причине того, что они мертвы.
Таким образом, у человека есть потрясающая возможность проникнуться их переживаниями, мировоззрениями, идеями, концепциями и умозаключениями, и уже на основе собственного многофакторного анализа и размышления принимать или отвергать тот или иной компонент.
Рассматривая эту проблематику с чисто прагматической, т.е материальной точки зрения, то и здесь ощутимы результаты усердного и вдумчивого чтения. Так, например, читающие и интеллектуально подкованные люди чаще добиваются желаемого успеха, легче приспособляются к изменениям, но оставаясь оппозиционно настроенными к нововведениям. Их сложнее поставить в неловкую ситуацию, ими тяжело манипулировать с целью подавления их строптивости. Они, в большинстве случаев, сами определяют чем, когда и как им заниматься. К государству относятся с опасениями, желая внести свою лепту в построение великого будущего.
Чтение так же погружает читателя в мир фантазий и грёз, которые так необходимы в сложной удушливой обстановке, когда проблемы напирают и давят своим грузом всякие проблески счастья.
Польза от чтения неоценима, колоссальна по своим масштабам. Игнорируя такую возможность познаний принципов и закономерностей человека и его окружения, мироздания, мы обречены на доминирование в нашей системе координат стадных животных инстинктов, которые должны нами усердно подавляться в любых проявлениях. Метод к этому подавлению – чтение, анализ происходящих событий, рациональное и критическое мышление.
Сочинение 2
Испокон веков через книги человечество передает будущим поколениям свои знания и опыт. Такое изобретение цивилизации, как книга невозможно переоценить.
При чтении у человека активно работают определенные мозговые отделы, улучшается память, расширяется кругозор, обильно пополняется словарный запас и развивается речь, всё это только вершина огромного айсберга пользы книги.
Много читающий человек интересен в общении, с ним всегда есть о чём поговорить и можно многому у него научиться. Такие люди довольно часто являются творческими натурами, ведь у них активно работает воображение. Даже читая любимый приключенческий роман, или интригующий детектив, человек не только увлекательно проводит своё время, но и всесторонне развивается как личность. Индивид, не прочитавший за всю жизнь ни одной книги, является личностью не далёкой, с которой банально не о чем говорить.
К тому же книга может быть хорошим развлечением, ничуть не хуже, а возможно даже и лучше любого фильма. Человек может найти своих единомышленников, обсуждать и анализировать фрагменты из любимых произведений. В книге возможен любой, какой только возможно себе представить сюжет и каждый всегда сможет найти то, что ему по душе.
Начиная читать новую книгу, человек отправляется в путешествие и с головой погружается в мир созданный автором. Он может побывать на других континентах, планетах и даже мирах. Узнать о культуре других народов и многое другое.
Благодаря книге нам предоставляется возможность понять, как мыслил тот или иной автор абсолютно любой эпохи. Можно даже сказать, что книга является своеобразной машиной времени.
В наше время источники массовой информации продвигают однообразие, книга же способна развить собственное мнение и индивидуальность. Вспомнить только каким искусственным был без книг мир, в описанной антиутопии Рея Брэдбери “451 градус по Фаренгейту”. По моему мнению, данное произведение отлично демонстрирует какое будущее, ждёт всё человечество, если оно потеряет дар книги.
В итоге, становиться понятно, что книги имеют неоценимое значение для человека. Они не только облегчают жизнь, делясь своим опытом, но и наполняют её касками, делая эмоционально насыщенной.
К тому же чтение всесторонне развивает любую личность, делая её интересной и что немало важно образованной. Необходимо не забывать про книги и пользоваться знанием, что они в себе таят.
- Автор: Свободная тема
- Произведение: Сочинение на тему «Польза чтения»
- Это сочинение списано 147 369 раз
Сейчас чтение – самый используемый способ передачи информации, а книга — её носитель. Впрочем, так было всегда, во все времена. Поэтому чтением важно и даже нужно увлекаться, ведь недаром говорят: «Владеешь информацией – обладаешь ситуацией». Но в чем же польза чтения, и есть ли она вообще?
Во-первых, постоянное чтение тренирует мозг. Когда ты читаешь, способ восприятия мира изменяется: ты начинаешь фантазировать, создаешь определённые «книжные» образы (мест, людей, событий). Кроме того, книги улучшают память, расширяют кругозор, изменяют правописание. Да-да, все верно: когда читаешь, работает зрительная память, которая не даст в будущем сделать ошибку в текстах. А еще, частое чтение учит концентрироваться на книге, и чем-либо вообще, повышает усидчивость, настроение.
Во – вторых, с чтением книг увеличивается твой словарный запас, появляется особый образ мышления, за счет чего мысли ясно выражаются и легко формулируются. В этом можно убедиться самому: достаточно просто прочитать какое-либо классическое произведение. После этого любой (даже тот, кто раньше и «двух слов связать не мог») заметит, насколько проще стало с помощью слов выражать собственные мысли. Заметит, как стало проще изъясняться, подбирать слова. Заметит, что из его лексикона уходят разные слова-паразиты.
В-третьих, чтение — просто интересное занятие. Именно благодаря ему можно найти себе новых собеседников, друзей, единомышленников или темы для разговора с ними. А еще книголюбы очень дружелюбны, с ними всегда легко общаться. Можно приятно провести свое свободное время, при этом повышая настроение и вдохновляясь. На крайний случай – просто наслаждаться беседой с автором или его историей, рассказом.
Чтение не надоедает, не становится пресным: книг-то очень много, и каждая из них по-своему уникальна.
И, наконец, четвертое: каждый процесс чтения, по сути – маленькое путешествие, во времени или расстоянии. Книга просто разрывает различные временные рамки, ограничения. Только с её помощью можно почувствовать, понять мысли тысяч писателей из разных эпох и времен. Разве это не поражает? Одно лишь чтение даст понять, как мыслил Дефо, какой кругозор был у Уэллса, и что озадачивало Янссон. Одно лишь чтение позволит нам почувствовать, понять, ощутить писателя, даже если он уже мертв. Именно по этой причине любая, даже не совсем старая книга – настоящая «машина времени», пользование которой может изменить всю жизнь.
Вообще чтение – неотъемлемый процесс на стадиях формирования взрослой личности. Процесс, начинающийся с младенчества, когда ребенку читают вслух его родители, родственники. И заканчивающийся зрелым возрастом, во время переживания личностных проблем и духовного роста, когда литература спасает от депрессий, задает нравственность и идеалы. Книги и чтение оказывают на всех нас огромное влияние, формируют нас. Они делают нас людьми. В этом – вся их польза!
Посмотрите эти сочинения
- Сочинение на тему «О чем шептались осенние листья» Было туманное осеннее утро. Я шел по лесу, погруженный в раздумья. Я шел медленно, не спеша, а ветер развевал мой шарф и свисающие с высоких ветвей листья. Они колыхались на ветру и будто бы о чем-то мирно говорили. О чем шептались эти листья? Быть может, они шептались об ушедшем лете и жарких лучах солнца, без которых теперь они стали такими желтыми и сухими. Быть может, они пытались позвать прохладные ручьи, которые смогли бы напоить их и вернуть к жизни. Быть может, они шептались обо мне. Но только шепот […]
- Сочинение про Байкал (на русском языке) Озеро Байкал известно на весь мир. Известно оно тем, что является самым большим и глубоким озером. Вода в озере пригодна для питья, поэтому оно очень ценно. Вода в Байкале не только питьевая, но еще и лечебная. Она насыщена минералами и кислородом, поэтому ее употребление положительно влияет на здоровье человека. Байкал находится в глубокой впадине и со всех сторон окружен горными хребтами. Местность возле озера очень красивая и имеет богатую флору и фауну. Еще, в озере проживает много видов рыб – почти 50 […]
- Сочинение на тему «Моя родина — Беларусь» Я живу в зеленой и красивой стране. Она называется Беларусь. Ее необычное имя говорит о чистоте этих мест и о необычных пейзажах. От них веет спокойствием, простором и добротой. И от этого хочется что-то делать, наслаждаться жизнью и любоваться природой. В моей стране очень много рек и озер. Они нежно плещутся летом. Весной раздается их звонкое журчание. Зимой зеркальная гладь манит к себе любителей катания на коньках. Осенью по воде скользят желтые листья. Они говорят о скором похолодании и предстоящей спячке. […]
- Сочинение про рябину Осенняя красавица в ярком наряде. Летом рябина незаметна. Она сливается с другими деревьями. Зато осенью, когда деревья одеваются в жёлтые наряды, её можно заметить издалека. Яркие красные ягоды привлекают внимание людей и птиц. Люди любуются деревом. Птицы лакомятся его дарами. Даже зимой, когда повсюду белеет снег, рябина радует своими сочными кистями. Её изображения можно встретить на многих новогодних открытках. Художники любят рябину, потому что она делает зиму веселее и красочней. Любят дерево и поэты. Её […]
- Почему я выбрала профессию повара? (сочинение) Есть множество замечательных профессий, и каждая из них, несомненно, является необходимой нашему миру. Кто-то строит здания, кто-то добывает полезные стране ресурсы, кто-то помогает людям стильно одеваться. Любая профессия, как и любой человек — совершенно разные, однако все они непременно должны кушать. Именно поэтому появилась такая профессия, как повар. С первого взгляда может показаться, что кухня — область несложная. Что трудного в том, чтобы приготовить поесть? Но на самом деле искусство готовки — одно их […]
- Сочинение на тему «Я горжусь своей Родиной» С самого детства родители говорили мне, что наша страна — самая большая и сильная в мире. В школе на уроках мы с учителем читаем много стихотворений, посвященных России. И я считаю, что каждый россиянин должен, обязан гордиться своей Родиной. Гордость вызывают наши бабушки и дедушки. Они воевали с фашистами для того, чтобы мы сегодня смогли жить в тихом и спокойном мире, чтобы нас, их детей и внуков, не затронула стрела войны. Моя Родина не проиграла ни одной войны, а если дела были плохи — Россия все равно […]
- Сочинение по пословице «Язык мой – друг мой» Язык… Сколько значения несет в себе одно слово из пяти букв. С помощью языка человек с раннего детства получает возможность познавать мир, передавать эмоции, сообщать о своих потребностях, общаться. Возник язык в далеком доисторическом периоде, когда появилась потребность у наших предков, во время совместного труда, передать свои мысли, чувства, желания своим сородичам. С его помощью мы теперь можем изучать любые предметы, явления, окружающий мир, а со временем усовершенствовать свои знания. У нас появилась […]
- Сочинение-рассуждение на тему: «Ученье свет, а неученье – тьма» С детства мы ходим в школу и изучаем разные предметы. Некоторые считают, что это ненужное дело и только забирает свободное время, которое можно потратить на компьютерные игры и что-то еще. Я думаю по-другому. Есть такая русская пословица: «Ученье свет, а неученье – тьма». Это значит, что для тех, кто узнает много нового и стремится к этому, впереди открывается светлая дорога в будущее. А те, кто ленится и не учится в школе, останутся всю свою жизнь во тьме глупости и невежества. Люди, которые стремятся к […]
- Сочинение про интернет на русском языке Сегодня, интернет есть почти в каждом доме. В интернете можно найти много очень полезной информации для учебы или для чего-нибудь другого. Многие люди смотрят в интернете фильмы и играют в игры. Также, в интернете можно найти работу или даже новых друзей. Интернет помогает не терять связь с родственниками и друзьями, которые живут далеко. Благодаря интернету с ними можно связаться в любую минуту. Мама очень часто готовит вкусные блюда, которые нашла в интернете. Еще, интернет поможет и тем, кто любит читать, но […]
- Сочинение на тему «Имя существительное» Наша речь состоит из множества слов, благодаря которым можно передать любую мысль. Для удобства использования все слова поделены на группы (части речи). Каждая из них имеет свое название. Имя существительное. Это очень важная часть речи. Оно обозначает: предмет, явление, вещество, свойство, действие и процесс, имя и название. Например, дождь – это явление природы, ручка – предмет, бег – действие, Наталья – женское имя, сахар – вещество, а температура – это свойство. Можно привести много других примеров. Названия […]
- Сочинение на тему «Что такое мир?» Что такое мир? Жить в мире — это самое важное, что может быть на Земле. Ни одна война не сделает людей счастливыми, и даже увеличивая собственные территории, ценой войны, они не становятся богаче морально. Ведь ни одна война не обходится без смертей. И те семьи, где теряет своих сыновей, мужей и отцов, пусть даже зная, что они герои, все равно никогда не насладятся победой, получив потерю близкого. Только миром можно достичь счастья. Только мирными переговорами должны общаться правители разных стран с народом и […]
- Сочинение «Про бабушку» Мою бабушку зовут Ирина Александровна. Она живет в Крыму, в поселке Кореиз. Каждое лето мы с родителями ездим к ней в гости. Мне очень нравится жить у бабушки, ходить по узким улицам и зеленым аллеям Мисхора и Кореиза, загорать на пляже и купаться в Черном море. Сейчас моя бабушка на пенсии, а раньше она работала медсестрой в санатории для детей. Иногда она брала меня к себе на работу. Когда бабушка надевала белый халат, то становилась строгой и чуточку чужой. Я помогала ей измерять детям температуру — разносить […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Зачем нам нужен речевой этикет?» Вся наша жизнь регулируется определенными сводами правил, отсутствие которых может спровоцировать анархию. Только представьте, если отменят правила дорожного движения, конституцию и уголовный кодекс, правила поведения в общественных местах, начнется хаос. То же касается и речевого этикета. На сегодня многие не придают большого значения культуре речи, к примеру, в социальных сетях все больше можно встретить неграмотно пишущих молодых людей, на улице – неграмотно и грубо общающихся. Я считаю, что это проблема, […]
- Сочинение на тему «Зачем человеку нужен язык?» С давних пор язык помогал людям понимать друг друга. Человек неоднократно задумывался над тем, зачем он нужен, кто его придумал и когда? И почему он отличается от языка животных и других народов. В отличие от сигнального крика животных, с помощью языка человек может передать целую гамму эмоций, свое настроение, информацию. В зависимости от национальности, у каждого человека свой язык. Мы живем в России, поэтому наш родной язык – русский. На русском говорят наши родители, друзья, а также великие писатели – […]
- Сочинение на тему «ВОВ 1941-1945» Был прекрасный день — 22 июня 1941 года. Люди занимались своими обычными делами, когда прозвучала страшная весть — началась война. В этот день фашистская Германия, которая завоевывала до этого момента Европу, напала и на Россию. Никто не сомневался в том, что наша Родина сможет победить врага. Благодаря патриотизму и героизму наш народ и смог пережить это страшное время. В период с 41 по 45 годы прошлого века страна потеряла миллионы человек. Они пали жертвами безжалостных сражений за территорию и власть. Ни […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Моя Россия» Родная и самая лучшая в мире, моя Россия. Этим летом я с родителями и сестрой ездил отдыхать на море в город Сочи. Там, где мы жили, было ещё несколько семей. Молодая пара (они недавно поженились) приехали из Татарстана, рассказывали, что познакомились, когда работали на строительстве спортивных объектов к Универсиаде. В соседней с нами комнате жила семья с четырьмя маленькими детками из Кузбасса, папа у них шахтёр, добывает уголь (он называл его «чёрное золото»). Ещё одна семья приехала из Воронежской области, […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба?» Дружба – это взаимное, яркое чувство, ни в чем не уступающее любви. Дружить не только нужно, дружить просто необходимо. Ведь ни один человек в мире не может прожить всю жизнь в одиночестве, человеку, как для личностного роста, так и для духовного просто необходимо общение. Без дружбы мы начинаем замыкаться в себе, страдаем от непонимания и недосказанности. Для меня близкий друг приравнивается к брату, сестре. Таким отношениям не страшны никакие проблемы, жизненные тяготы. Каждый по-своему понимает понятие […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Мой дом – моя крепость» Мой дом – моя крепость. Это правда! Он не имеет толстых стен и башен. Но в нем живет моя маленькая и дружная семья. Мой дом – это простая квартира с окнами. От того, что моя мама всегда шутит, а папа ей подыгрывает, стены нашей квартиры всегда наполняются светом и теплом. У меня есть старшая сестра. Мы не всегда с ней ладим, но я все равно скучаю по смеху сестры. После школы мне хочется бежать домой по ступенькам подъезда. Я знаю, что открою дверь и почувствую запах мамы и папиного крема для туфель. Перешагну […]
- Поэзия 60-х годов 20 века (сочинение) Поэтический бум шестидесятых годов 20 века Шестидесятые годы 20 века — это время подъема российской поэзии. Наконец наступила оттепель, были сняты многие запреты и авторы смогли открыто, не боясь репрессий и изгнаний, выражать свое мнение. Сборники стихов стали выходить настолько часто, что, пожалуй, такого «издательского бума» в области поэзии не было никогда ни до, ни после. «Визитные карточки» этого времени — Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Н.Рубцов, и, конечно же, бард-бунтарь […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Чтение – вот лучшее учение!» Взрослые любят повторять слова русского поэта А.С. Пушкина «Чтение — вот лучшее умение». Меня научили читать в 4 года. И я очень люблю читать разные книжки. Особенно настоящие, которые напечатаны на бумаге. Мне нравится сначала рассмотреть картинки в книжке и представлять, о чем в ней рассказывается. Потом я начинаю читать. Сюжет книги меня захватывает полностью. Из книг можно узнать много интересного. Есть книги-энциклопедии. В них рассказывают обо всем что есть в мире. Из них самые занимательные о разных […]
Сочинение о пользе чтения книг
Каждый человек с самого детства стремится к достижению тех или иных целей. По мере взросления его потребности возрастают. Для того, чтобы препятствия на пути не становились помехой в приближении к желаемой цели, необходимы знания. Даже само формирование цели у каждого человека индивидуально и связано с тем, каков багаж знаний накоплен. Оно зависит от уровня начитанности и образованности каждого из нас. С этого момента начинает раскрываться значение чтения.
Книга – тот источник, из которого можно почерпнуть любую информацию. Поэтому процесс чтения имеет несколько функций.
— прежде всего, человек, имеющий доступ и желание читать книги, обладает необходимыми сведениями для того, чтобы расставить приоритеты в жизни верно;
— начитанность дает преимущества в любой сфере: образовании, трудоустройстве и т.д., так как дает дорогу к увеличению потенциала;
— чтение занимает много времени, в эти моменты мыслительная деятельность человека в движении. Это помогает в развитии памяти, внимательности, образного мышления, быть сосредоточенным;
— правильно выбранный текст может помочь справится с унынием, поднять настроение;
— на любом этапе жизни чтение способствует пониманию, более легкому контакту людей друг с другом. Это важнейшая роль чтения книг, так отношения в обществе строятся на взаимодействии людей, умении подать себя с позиции эрудированного человека;
— чтение дает нравственную поддержку людям, в них можно найти ответ на любой интересующий вопрос;
— времяпровождение с книгой дарит приятные мгновения, помогая окунуться в вымышленный мир героев. В жизни людей, предпочитающих проводить время за чтением, нет места скуки;
— кроме того, через книгу мы познаем себя, можем проанализировать свое поведение и изменить ненужные привычки.
В настоящее время существует немалое количеств пословиц и поговорок, которые посвящены пользе чтения, например, «Чтение – вот лучшее учение». Они являются доказательством того, что книга меняет человека в лучшую сторону. Поэтому лучшей привычкой считается периодическое обращение к книге, которая делает нас воспитанными, доброжелательными.
Таким образом, сколько бы в современном мире не появлялось вещей, которые открывают нам доступ к информации, кропотливая работа с книгой не сможет заменить способ познания. Чтение предполагает самостоятельное повышение интеллекта, уровня культуры, что требует современное общество.
7 класс. 8 класс
Другие темы: ← Бедные и богатые люди↑ На свободную темуЖизненный путь — это постоянный выбор →
`
Вариант 2
В нынешнем мире чтение очень недооценено. Люди с большим наслаждением предпочитают посмотреть какой-нибудь сериал или просто ничего не делать, чем читать книги.
В чем же заключается польза чтения?
Необходимо помнить и не забывать о том, что все, что человек читает, откладывается у него в подсознании.
Чем больше он читает, тем более широкий у него взгляд на мир и тем он меньше привязан к окружающему мнению людей. Ему проще смотреть на ситуацию со стороны, легче принять правильное решение и найти выход с любой ситуации, решить любой вопрос. Важно знать о том, что, даже потеряв абсолютно все, знания всегда останутся, а это большая ценность.
Человек, читающий много разной литературы, имеет большой запас слов, что позволяет ему расширить свою зону комфорта, а также дает возможность общаться с людьми на разные темы и обмениваться с ними различными идеями и мыслями в разных направлениях.
Словарный запас делает речь красивой и помогает правильно и четко выражать свои мысли.
Чем больше человек начитан, тем легче он может запоминать имена, хорошо слышать собеседника, у него есть способность понять и быть более внимательным ко всему окружающему. У него достаточно хорошая память.
Человек, который много читает, легко концентрируется одновременно на разных вопросах.
Чтение книг способствует развитию человека и соответственно позволяет формировать в нем аналитические способности.
К ним можно отнести: способность мыслить, умение убеждать людей и относиться с критикой на разные вещи и делать правильные выводы.
Чтение требует от человека сосредоточенности, внимательности и, конечно же, концентрации. Это заставляет человеческий организм задействовать необходимые части мозга, которые отвечают за них.
Чем больше человек читает, тем более внимательным он становиться к окружающим его вещам. Доказано, что такой человек всегда умеет заметить то, чего не замечают другие. Он способен предопределить наперед исход происходящих событий.
Начитанный человек, никогда не пропустит важную информацию, так как его кругозор способен направлять свое внимание на все, что находиться вокруг него.
Благодаря чтению, человек развивается в разных направлениях. Он становиться более умным и внимательным. У него улучшается память, и он более объективно смотрит на мир.
А еще чтение книг, помогает нашему мозгу генерировать новые идеи. Может случиться так, что в дальнейшем поможет написать свое произведение или гениальное изобретение. В любом случае свежие мысли, и яркие идеи помогут изменить жизнь в лучшую сторону.
Для 7 класса и 8
Популярные сочинения
- Сочинение-описание по картине Вести с фронта Ватолиной 8 класс
Задумка картины Н. Ватолиной «Вести с фронта» достаточно проста, однако художница прекрасно передает ту атмосферу, эмоции и чувства, что испытывали семьи людей, отдающих долг Родине и защищающих нашу страну в Великой отечественной войне - Сочинение Ахматова — Мой любимый поэт серебряного века
Анна Андреевна Ахматова – представитель поэзии серебряного века. Она была очень талантливым человеком. Духовная родина Ахматовой – Царское Село, где прошло ее детство - Анализ произведения Смерть чиновника Чехова
Чехов А. П. мастер юмористических рассказов. По объему они не большие, но очень интересные и поучительные. Он высмеивает бюрократизм и людей, которые являются жертвами системы.
Сочинение про Любовь к чтению книг
Да будет известно, что в последнее время в нашей странице практически утеряна любовь к художественной литературе. И если старшее поколение ее увлекается чтением, то дети практически читать не любят, проводя все свободное время за компьютером или просмотром телевизионных передач. Конечно же, вряд ли из этих источников можно узнать полезную информацию.
Не понимая того, а по какой причине у ребят идет отторжение от книг, не подозреваем даже, что ответственность за эту нелюбовь несем мы, взрослые. Порой от некоторых слышно высказывание о том, что чтение-это ненужное и пустое занятие, так как все, что нам нужно, можно узнать из Интернета. А под отдыхом подразумеваются совсем другие развлечения.
Однако, нынешнее поколение часто всего сталкивается с такой проблемой, как безработица. Ведь работодатели, прежде всего, берут на работу грамотных, хорошо владеющих речью людей. Увы, такими способностями, обладает лишь человек, начитанный. И опять возникает вопрос, как же сделать так, чтобы ребенок полюбил чтение? Конечно же, надо показать пример. Можно прочитать пару книг перед сном или же днем и разобрать, в чем же суть этого произведения. И еще, книги не должны стоять в шкафу лишь для красоты, они должны использоваться для самосовершенствования и узнавания полезной информации.
В нашей семье любят читать. Когда мне было 3 года, мама ежедневно перечитывала русские народные сказки, и поэтому самым любимым героем был Иванушка, который был не только добрым и справедливым, но и смекалистым. Вот так постепенно появилась моя любовь к чтению. Как только я выучил весь алфавит, то стразу же стал читать, вначале по слогам, а потом и быстрее, сказки зарубежных писателей, а затем и детские рассказы. Когда я пошел в школу, мне было намного легче понимать тексты и задания.
Да и дополнительную информацию я узнавал из детской энциклопедии. Даже диктанты я писал без ошибок. Конечно же, я так же, как и остальные мои ровесники, смотрю телевизор и сижу в Интернете, но больше всего, особенно по вечерам я люблю просиживать за интересной книгой. И я думаю, что каждому человеку понравится такое занятие, только для этого нужно собственное желание.
Другие сочинения: ← Целеустремленность↑ 9 класс и ОГЭЧто такое Ответственность →
Как читать правильно: полное руководство | GeekBrains
О методах скорочтения, проблемах освоения материала и новом способе читать книги.
https://d2xzmw6cctk25h.cloudfront.net/post/1665/og_cover_image/9d8ae1fae2be39275494daa458754a2d
Адаптированный перевод статьи Мелиссы Чу о том, как улучшить качество чтения.
Природа книги эволюционировала. Общество и технологии стали другими. Под воздействием нового образа жизни подход к чтению поменялся. К лучшему или худшему?
Сегодня одна и та же информация может быть представлена в самых разных форматах. Когда речь заходит о том, как именно мы должны читать, мнения расходятся.
Эффективность скорочтения
С 1950-х годов скорочтение рекламировалось как эффективный способ быстрого освоения материала. Ученые, психологи и учителя придумали методы повышения скорости чтения с помощью ручных инструментов или движения глаз.
На чемпионате мира по скорочтению лучшие участники достигают скорости 1000–2000 слов в минуту. Шестикратная чемпионка Энн Джонс читает за 60 секунд 4200 слов. Эти результаты кажутся феноменальными по сравнению со средними возможностями взрослого человека, который продвигается по тексту на 300 слов в минуту.
Популярные методы в скорочтении:
- Скимминг — быстрое пробегание по тексту глазами, чтобы вычленить основные моменты. Вы не прочитываете тщательно каждое слово, а наскоро просматриваете первый и последний абзацы, заголовки и выделенные фрагменты, чтобы найти ключевые идеи. Сканирование — аналогичный метод — предусматривает беглый просмотр текста, чтобы найти определенные слова и фразы.
- Мета-ориентирование (meta-guiding) использует указатель: палец или ручку, — чтобы направлять глаза вдоль строчек. Это помогает глазам двигаться горизонтально, фокусируясь на слове, которое вы читаете.
- Метод зрительного интервала (visual span) использует диапазон зрения, чтобы читать слова блоками. Человек фокусируется на одном центральном слове, а чтобы увидеть соседние, привлекает периферийное зрение. Считается, что оно помогает читать по пять слов единовременно.
- Быстрое последовательное визуальное представление (RSVP) — современный метод. Он использует программу для чтения, которая показывает слова по одному. Вы можете выбрать скорость, с которой они будут отображаться на экране.
Хотя многие читатели придерживаются этих методов, их эффективность вызывает споры. При скимминге теряются детали. С другой стороны, скимминг и сканирование помогают быстро изучить тему, а нужные разделы затем можно прочитать подробнее.
Автор книги “Psychology of Reading” («Психология чтения»), Кейт Райнер, отклоняет методы скорочтения. Он объясняет, что мы ограничены анатомией глаз и способностью мозга обрабатывать информацию. Для экономии времени часть методов основана на субвокализации — прекращении мысленного озвучивания слов. Райнер утверждает, что при скорочтении уровень запоминания и понимания прочитанного значительно уменьшается.
Участники чемпионатов мира демонстрируют уровень понимания прочитанного около 50%. У Энн Джонс этот показатель составляет 67%.
Независимо от используемого метода скорочтения понимание всегда приносится в жертву скорости.
Это не всегда плохо — зависит от того, что именно вы читаете. Если просматриваете сухую документацию, чтобы понять ключевые моменты, есть смысл использовать скимминг. Метод RSVP работает, когда знакомишься с коротким и легким для понимания разделом книги.
Автор предпочитает читать с пером, используя его в качестве указателя для глаз.
Но бессмысленно использовать методы скорочтения, если перед вами сложный материал или книга, над которой хочется размышлять и смаковать каждую главу.
Выбор формата
Раньше был доступен только один вариант — бумажные издания. Сегодня мы можем читать, смотреть или слушать книги. Выбор рождает вопросы о том, как нам следует изучать материалы и чем одни форматы лучше других.
Бумажные книги. Согласно исследованиям, они обладают рядом преимуществ перед другими форматами. Когда физически перелистываешь страницы, отчетливее чувствуешь прогресс в чтении. Тактильные ощущения также способствуют лучшему запоминанию материала. Бумажные книги помогают заснуть, потому что — в отличие от электронных устройств — не излучают синий свет.
Многие предпочитают традиционные книги. Людям нравится чувствовать бумагу. Мягкий запах, вес книги и возможность листать страницы делают чтение еще приятнее. Однако бумажные издания бывают тяжелыми и неудобными для перевозки.
Электронные книги (ридеры). Их основное преимущество — удобство. Нет разницы, сколько вы несете книг: одну или сто. Это помогает в путешествиях, особенно если хотите почитать побольше. Электронные книги понятны для пользователей, потому что мы привыкли к гаджетам, таким как смартфоны и планшеты.
Однако эффект синего света — большая проблема для читателей. Исследователи обнаружили, что люди, которые предпочитают электронные книги, дольше засыпают. У тех, кто читает на планшетах, ноутбуках, смартфонах и ридерах, снижается уровень мелатонина — гормона, который увеличивается по вечерам, вызывая сонливость. В результате они плохо спят и просыпаются уставшими.
Хорошо, что есть исключения — Amazon Kindle. Эти устройства придают свечение самому экрану для лучшей видимости текста, а не слепят читателя. Такое освещение напоминает лампу, направленную на бумажную книгу.
Аудиокниги. Некоторые относятся к ним скептически, считая, что прослушивание книг не дает такого же погружения, как чтение.
Однако в исследовании отмечается, что люди воспринимают информацию на слух так же, как визуально. (Отдельная тема для обсуждения — являются ли прослушивание и чтение полностью эквивалентными.) В некоторых случаях тон рассказчика даже помогает лучше понять смысл.
Однако проблема в том, что люди склонны к многозадачности. Если одновременно слушать книгу и писать e-mail или готовить, смысл может потеряться. Лично автору нравится слушать аудиокниги, когда ее меньше всего отвлекают: в очереди или во время прогулки.
В последнее время аудиокниги стали популярными. Некоторые слушают их на скорости в два-три раза быстрее, чем в оригинальной записи. Хотя они утверждают, что информация не теряется, стоит задуматься, следовать ли их примеру при изучении материала.
Книга — это не просто коробка, которую мы открываем, чтобы проверить содержимое. Ее изучение — это опыт: информацию надо впитывать, размышлять над ней и давать выход в виде новых знаний. Мы получаем идеи из книг во время пауз при чтении — так же, как креативные мысли рождаются в спокойные периоды.
Чтение сегодня
По мере того как информация «оцифровывается», книги становятся доступнее. У нас под рукой бесчисленные варианты досуга. Стали ли книги в таких условиях более привлекательными?
Согласно опросу в Японии, чем больше времени люди тратят на смартфоны, тем меньше — на чтение: 53% респондентов не познакомились ни с одной новой книгой за последний месяц. Такая ситуация прослеживается в течение пяти лет.
Другое исследование показало, что объем чтения увеличивается с 17 до 21% после праздников, потому что людям часто дарят планшеты и ридеры. В прошлом году примерно 43% взрослых американцев предпочитали так называемый «длинный контент»: книги, журналы или лонгриды. В среднем пользователи ридеров прочли за год 24 книги. Любители бумажных страниц — 15 произведений.
Изменились условия и обстоятельства чтения. Люди открывают книги, когда у них есть свободная минута: в дороге или между задачами.
Все чаще чтению отводится время во время просмотра телевизора или интернет-серфинга.
Мы зачастую знакомимся с текстами урывками, поэтому выгоды от «глубокого чтения» теряются. Длительное и вдумчивое уединение с книгой доставляет удовольствие, потому что вводит в состояние, подобное гипнотическому трансу. Интересно, что скорость освоения текста фактически замедляется. Но при «глубоком чтении» человек быстрее расшифровывает слова, у него обостряется понимание написанного, устанавливается связь с автором.
4 совета для эффективного чтения
В идеале мы читали бы непрерывно в течение нескольких часов при мягком освещении и без отвлекающих факторов. К сожалению, у большинства из нас нет такой ежедневной роскоши.
Вот четыре решения для максимально эффективного чтения:
Выберите подходящие форматы материалов для чтения в разных ситуациях
Классифицируйте их под время и место. Откладывайте статьи и заметки, чтобы прочитать их в короткие свободные периоды. Книги, требующие меньше внимания, слушайте в аудиоформате. Сложный для чтения материал откладывайте, пока у вас не появится достаточно времени для вдумчивого изучения.
Сделайте чтение повседневной привычкой
Когда автор стала постоянно читать, смогла:
- повысить уровень творчества;
- применить полученные знания в работе;
- открыть новые темы и интересы;
- рассмотреть идеи с другой точки зрения;
- развить эмпатию, понимание людей и ситуаций;
- испытать приятное ожидание чтения;
- создать ежедневное ощущение стабильности;
- научиться снимать стресс и расслабляться, повысить качества сна.
Оптимальное время для чтения — раннее утро или вечер перед сном. Конечно, вы можете выбрать другие варианты, но для автора эти два идеальны.
Легкий способ сделать чтение привычкой — положить книгу на прикроватный столик, чтобы она стала одной из первых вещей, которую вы видите сразу после пробуждения и перед сном.
Если вас утомляет чтение, выбирайте легкий материал.
Поделитесь прочитанным
Если вы только что прочитали книгу, поделитесь ею с теми, кому она тоже может понравиться (вот список любимых произведений автора). И если кто-то с похожими предпочтениями порекомендует книгу, почему бы вам ее не прочесть?
Чтение одних книг сближает, как если бы вы путешествовали или смотрели фильм вместе. Коллективное обсуждение помогает лучше понять и оценить прочитанное.
Подумайте о чтении
Автору не нравится просто сканировать книгу и переходить к следующей. Когда она читает подобным образом, обнаруживает, что результаты чтения теряются. Поэтому она использует другие методы, чтобы запомнить прочитанное:
- набросать заметку: если в книге есть интересные факты, автор рассказывает о них, пишет аннотацию или копирует значимые абзацы;
- написать статью: иногда автор готовит статью, описывающую события из книги, добавляет размышления и основные выжимки;
- посмотреть экранизацию: по популярным романам часто снимают фильмы. Автору нравится смотреть экранизации: сравнивать собственную интерпретацию книги с другим видением, переживать ключевые события и наслаждаться произведением в другом формате.
Традиционные книги уступают место новым форматам. Вместе с формой меняется и подход к чтению. Мы сокращаем деятельность до небольших задач, чтобы успевать больше. Адаптируйте чтение в таком же ключе — ведь мы не властны над временем, но можем изменить подход к его использованию.
Определение и примеры глубокого чтения
Глубокое чтение — это активный процесс вдумчивого и осознанного чтения, выполняемый для улучшения понимания текста и получения удовольствия от него. Сравните с беглым взглядом или поверхностным чтением. Также называется медленным чтением.
Термин «глубокое чтение» был введен Свеном Биркертсом в «Гутенбергских элегиях» (1994): «Чтение, поскольку мы контролируем его, адаптируется к нашим потребностям и ритмам.
Мы можем потакать нашему субъективному ассоциативному импульсу; я называю это термином. глубокое чтение: медленное и медитативное владение книгой.Мы не просто читаем слова, мы мечтаем о нашей жизни в их окрестностях ».
Навыки глубокого чтения
«Под глубоким чтением мы подразумеваем набор сложных процессов, которые способствуют пониманию и которые включают в себя умозаключения и дедуктивные рассуждения, аналогичные навыки, критический анализ, рефлексию и понимание. Опытному читателю нужны миллисекунды, чтобы выполнить эти процессы; молодому мозгу нужны годы, чтобы Оба этих основных измерения времени потенциально находятся под угрозой из-за повсеместного акцента цифровой культуры на непосредственность, загрузку информации и когнитивный набор, управляемый медиа, который поддерживает скорость и может препятствовать размышлениям как при чтении, так и в нашем мышлении.
(Марианн Вольф и Мирит Барзиллай, «Важность глубокого чтения». Бросая вызов всему ребенку: размышления о передовых методах обучения, преподавания и лидерства, под редакцией Мардж Шерер. ASCD, 2009)
«[Глубокое чтение] требует, чтобы люди призывали и развивали навыки внимания, были вдумчивыми и полностью осознающими … В отличие от просмотра телевизора или участия в других иллюзиях развлечений и псевдособытий, глубокое чтение — это не выход, но открытие. Глубокое чтение дает возможность обнаружить, как все мы связаны с миром и с нашими собственными развивающимися историями.Глубоко читая, мы обнаруживаем, что наши собственные сюжеты и истории разворачиваются через язык и голос других ».
(Роберт П. Вакслер и Морин П. Холл, Трансформация грамотности: изменение жизни посредством чтения и письма. Emerald Group, 2011)
Письмо и глубокое чтение
«Почему разметка книги необходима для чтения? Во-первых, это не дает вам заснуть (и я не имею в виду просто сознание; я имею в виду бодрствование). Во-вторых, чтение, если оно активно, означает размышление и мышление.
имеет тенденцию выражаться словами, устно или письменно.Отмеченная книга — это обычно продуманная книга. Наконец, письмо помогает вам вспомнить мысли, которые у вас были, или мысли, высказанные автором ».
(Мортимер Дж. Адлер и Чарльз Ван Дорен, Как читать книгу. Rpt. By Touchstone, 2014)
Стратегии глубокого чтения
«[Джудит] Робертс и [Кейт] Робертс [2008] правильно определяют желание студентов избегать процесса глубокого чтения, который требует значительного времени на выполнение задания. Когда эксперты читают трудные тексты, они читают медленно и часто перечитывают.Они борются с текстом, чтобы сделать его понятным. Они мысленно задерживают запутанные отрывки, веря, что более поздние части текста могут прояснить более ранние части. Они «кратко» отрывки по мере их продвижения, часто записывая суть утверждения на полях. Они читают трудный текст второй и третий раз, считая первые чтения приблизительными или черновыми. Они взаимодействуют с текстом, задавая вопросы, выражая несогласие, связывая текст с другими вариантами чтения или с личным опытом.
«Но сопротивление глубокому чтению может включать больше, чем нежелание тратить время. Студенты могут на самом деле неправильно понимать процесс чтения. Они могут полагать, что эксперты являются быстрыми читателями, которым не нужно бороться. Поэтому студенты предполагают, что их собственные трудности с чтением должно происходить из-за отсутствия у них опыта, что делает текст «слишком сложным для них». Следовательно, они не выделяют время на изучение, необходимое для глубокого чтения текста ».
(Джон С. Бин, «Увлекательные идеи: руководство профессора по интеграции письма, критического мышления и активного обучения в классе», 2-е изд.Джосси-Басс, 2011
Глубокое чтение и мозг
«В одном интересном исследовании, проведенном в Лаборатории динамического познания Вашингтонского университета и опубликованном в журнале Psychological Science в 2009 году, исследователи использовали сканирование мозга, чтобы изучить, что происходит в головах людей, когда они читают художественную литературу.
в повествовании.Детали о действиях и ощущениях взяты из текста и объединены с личными знаниями из прошлого опыта.«Часто активируемые области мозга» отражают те, которые задействованы, когда люди выполняют, представляют или наблюдают аналогичные действия в реальном мире ». По словам ведущего исследователя Николь Спир, глубокое чтение «ни в коем случае не является пассивным упражнением». Читатель становится книгой ».
(Николас Карр, Отмель: что Интернет делает с нашим мозгом. У. В. Нортон, 2010 г.
«[Николас] Карр обвиняет [в статье» Google делает нас глупыми? «The Atlantic, июль 2008 г.], что поверхностность просачивается в другие виды деятельности, такие как глубокое чтение и анализ, является серьезным для ученых, которые почти полностью состоят из такая деятельность.С этой точки зрения взаимодействие с технологиями — это не просто отвлечение или другое давление на перегруженного академика, но и определенно опасно. Он становится чем-то вроде вируса, заражая ключевые критически важные навыки взаимодействия, необходимые для функционирования стипендии. . . .
«Что … не ясно, так это то, что люди занимаются новыми видами деятельности, которые заменяют функцию глубокого чтения».
(Мартин Веллер, Цифровой ученый: как технологии меняют научную практику. Bloomsbury Academic, 2011)
Как научиться лучше читать
У нас есть возможность читать больше, чем когда-либо прежде, и это легче сделать.Вы можете просмотреть заголовки сегодняшних газет, ожидающие очереди в продуктовом магазине. Вы можете выбрать из десятков статей о политической драме дня. Отставание вашего врача от графика означает, что вы можете прочитать некоторые электронные информационные бюллетени в своем почтовом ящике, до которого не дошли.
Но читаете ли вы что-нибудь, о чем действительно говорите в разговоре за званым ужином?
«Скорее всего, нет», — говорит Дэвид Микикс, заслуженный профессор Мура факультета английского языка и с отличием колледжа Хьюстонского университета и автор книги «Медленное чтение в эпоху спешки».
Многое из того, что мы читаем, обычно приходит из Интернета через наши сотовые телефоны или другие электронные устройства, которые мы читаем на ходу или в процессе выполнения ряда других задач. И ничто из этого не способствует глубокому чтению, говорит Микич.
Наши сотовые телефоны созданы для того, чтобы соревноваться за наше внимание с помощью звонков, гудков и уведомлений, говорит Микикс. «И Интернет, в том виде, в котором мы в основном его используем сейчас, является своего рода прославленным прядильщиком непосед».
В результате мы уделяем гораздо больше внимания заголовкам и быстрому чтению, что оставляет все меньше и меньше времени для более глубокого и вдумчивого чтения, а это означает, что мы упускаем из виду, говорит Микич.Он сравнивает это с просмотром превью фильма на телефоне с просмотром фильма целиком в кинотеатре. «Настоящее чтение — это медленное чтение», — говорит он, — «погружение в то, что вы читаете».
… Интернет, в том виде, в котором мы в основном его используем сейчас, является своего рода прославленным прядильщиком непосед.
«Замедление чтения» — это термин, который Микич использует в своей книге для описания глубокого, вдумчивого чтения. Он говорит, что это такое чтение, которое позволяет вам больше узнать об окружающем мире и познакомиться с новыми вещами — и вы действительно чему-то научитесь.
Многозадачность во время чтения не очень хороша для обучения
На самом деле это два разных процесса, когда дело доходит до того, что происходит в вашем мозгу, — объясняет Джессика Черч-Лэнг, доктор философии, главный исследователь в Лаборатории когнитивной неврологии развития. в Техасском университете в Остине, где ее исследования сосредоточены на управляющих функциях и развитии чтения в позднем детстве и подростковом возрасте. Она говорит о глубоком чтении по сравнению с беглым просмотром.
«Обычно, когда вы уделяете больше внимания чему-то и более активно занимаетесь чем-то, задействуется больше частей вашего мозга — сети памяти, управления и сети, связанные с вниманием — и вы более непосредственно обращаете внимание на одну вещь», она говорит.
И этот вид деятельности, как правило, означает, что у вас будет больше шансов сохранить то единственное, чем вы занимаетесь.
Тип информации, который, как правило, не сохраняется позже, — это та, с которой вы сталкиваетесь, когда вы переключаетесь между задачами и легко отвлекаетесь на то, что происходит вокруг вас, — добавляет Черч-Ланг, который также является доцентом кафедры психологии в Институте нейробиологии в Университете Техаса.
Конечно, есть время и место для обоих типов чтения, — добавляет Микич.Вам не нужно читать каждый телефонный номер в книге, чтобы найти тот, который вы ищете, или каждый рецепт в Интернете, чтобы найти что-нибудь для ужина. С другой стороны, попробуйте просмотреть Джейн Остин, и удачи вам в содержательном разговоре об этом.
По теме
Глубокое медленное чтение требует терпения, практики и намерения
Ключ к глубокому чтению чего-либо, чтобы оно действительно прилипло, — это осознание не только того, что вы читаете, но и того, как вы это читаете, как Mikics, так и Черч-Ланг согласен.Вот что они предлагают:
1. Примите осознанное, преднамеренное решение прочитать что-нибудь глубоко.
Первый шаг — установить намерение посвятить свой ум и внимание всему, что вы читаете (в течение любого времени, которое вы выберете). — говорит Микич. По его словам, на самом деле вам не нужно много времени, чтобы читать увлеченно, но вы должны сознательно принять это решение.
Это означает, что выключите телефон или уберите его, отключите другие отвлекающие факторы и просто сосредоточьтесь на своей книге или на том, что вы читаете.
2. Разработайте стратегию
Когда я буду читать? Перед сном? В перерыв на обед? Едешь на работу? Сколько я хочу читать — сколько минут или часов в день? «Выберите время, которое, по вашему мнению, вы действительно будете читать, и внесите его в свой календарь», — говорит Дариус Фору, основатель программы повышения производительности Procrastinate Zero.
И проводите время только за чтением книг, которые вы действительно хотите прочитать и имеют отношение к вашей жизни, добавляет он. Просмотрите статьи, краткие обзоры или обзоры книг заранее и решите, на что стоит потратить свое время.«У нас мало времени», — говорит Фору, который также ведет блог о производительности, принятии решений и привычках. «Стратегия чтения помогает».
3. Читайте с целью
Если вы знаете, почему вы что-то читаете, это помогает вам критически относиться к этому, говорит Черч-Ланг. Она предлагает заранее записать (или хотя бы подумать в уме) вопросы о том, что вы читаете.
Чтение вслух, выделение или подчеркивание определенных предложений или отрывков может помочь вам проверить собственное понимание того, что вы читаете, и продолжить критически мыслить, добавляет она.
4. Притормозите
Когда вы все-таки взяли на себя обязательство что-то прочитать — будь то статья в газете или книга — вам нужно будет замедлиться и действительно обратить внимание, когда вы это читаете, — говорит Микич. Глубокое вдумчивое чтение займет больше времени, чем беглый просмотр.
5. Перечитайте
Предложение или отрывок застали вас врасплох? Прочтите еще раз. Думаю об этом. Точно так же, когда вы дочитаете книгу или статью, не отбрасывайте ее просто так. Вернитесь к разделу, который нашел отклик у вас или в самом начале, и перечитайте его.
«Это не только поможет вам запомнить, но и поможет вам вспомнить, что вам в нем понравилось, и вы увидите это немного по-другому», — говорит Микич. «Это помогает вам обдумать, что из того, что вы читаете, было для вас по-настоящему интересным». (И в этом вся суть чтения и почему вы это делаете — вспоминать, думает, что вам интересно, — говорит Микикс.)
6. Подумайте о стиле
Чем эта книга или статья отличаются от других, которые вы читали? Как бы вы это охарактеризовали? «Стиль — это автор, показывающий себя читателю», — говорит Микич.Он говорит, что так вы, как читатель, узнаете автора.
«Это также способ ближе познакомиться с книгой или текстом, который вы читаете».
7. Не читайте в бункере
Когда дети учатся читать, это очень интерактивный процесс, говорит Черч-Ланг. «Вы спрашиваете, что они думают: что это значит? О чем думает этот персонаж? »
Тот же процесс помогает взрослым с чтением, но мы, как правило, делаем это меньше. Она предлагает вступить в книжный клуб или дискуссионную группу. «Это действительно может помочь вам запомнить, что вы читаете, и прочитать более внимательно, если вы знаете, что собираетесь обсудить это с кем-то, и кто-то другой делает то же самое», — говорит Черч-Ланг.
«Различные точки зрения на одну и ту же статью могут помочь вам понять ее и закрепить, потому что вы работали с ней на нескольких уровнях», — говорит она.
8. Практика
Глубокое чтение — это ремесло, говорит Микич. Это требует практики.
«Вы можете попытаться оптимизировать идеальную ситуацию или среду, которая позволит вам сосредоточиться на том, что вы читаете», — добавляет Черч-Ланг. «Но в конечном итоге это проще всего сделать на практике».
БОЛЬШЕ ИЗ ЛУЧШЕ
Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни.Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.
Задавать вдумчивые вопросы
Задавать вдумчивые вопросы
# Задавать вдумчивые вопросы
CS 5430 Весна 2017
Профессор Кларксон
Классическое руководство по заданию технических вопросов написано [Raymond and
Моэн] [умный]. Настоятельно рекомендуется (хотя, возможно, и едко) читать!
Здесь я резюмирую некоторые из его основных положений и интерпретирую их в свете
этого курса.
* Благодарность: почти вся проза в этом документе является выдержками.
от Раймонда и Моэна.Они заслуживают всяческих похвал; Кларксон заслуживает любого
обвинять.*
[умный]: http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html
## Прежде чем спрашивать
** Попробуйте найти ответ.
** Выполните поиск на площади Piazza, в Интернете или
руководство. Google и функция поиска (возможно, Ctrl-F) в вашем браузере
твой союзник. Прочтите примечания к курсу, слайды, раздаточные материалы и учебники.
Поэкспериментируйте с любым программным обеспечением, которое вы используете. Прочтите любое
доступный, соответствующий исходный код.
Не торопитесь. Не ждите, что сможете решить сложную проблему
с помощью нескольких секунд поиска в Google.Прочтите, сядьте, расслабьтесь и дайте
проблема некоторая мысль перед размещением на площади. Поверьте, инструкторы
(и многие из ваших коллег) смогут сказать по вашим вопросам
сколько вы читали и думали, и с большей готовностью поможете
если вы придете подготовленными. Не запускайте сразу весь свой арсенал
вопросы только потому, что ваш первый поиск не дал ответов (или тоже
много).
Когда вы нарушаете этот совет, чтобы легко найти информацию,
вы, скорее всего, получите ответ в виде нечеткого указателя: »
ответ на этот вопрос находится в примечаниях к курсу »или« См. описание задания ».Часто у человека, рассказывающего вам об этом, есть веб-страница с информацией
вам нужно открыть, и смотрите на него, когда они набирают. Эти ответы означают
что респондент думает, что вы узнаете больше, если будете искать
информации, чем если бы вы ее кормили с ложечки. Ты не должен быть
обиделся на такой ответ; это помогает тебе стать лучше
вопрос задающий.
## Когда спрашиваешь
** Подготовьте свой вопрос. ** Обдумайте его. Наспех спросил
вопросы, как правило, получают поспешно или вообще не получают ответов. Чем больше
вы делаете это, чтобы продемонстрировать, что вы вложили свои мысли и усилия в решение
ваша проблема, прежде чем обратиться за помощью, тем больше вероятность, что вы на самом деле
получить помощь.Покажите, что вы сделали домашнее задание, пытаясь найти
ответ первый, согласно обсуждению этого выше; это поможет
убедитесь, что вы не теряете время зря
ваших сокурсников или преподавателей. А еще лучше показать, что
вы узнали, делая эти вещи.
Инструкторам нравится отвечать на вопросы
для людей, которые продемонстрировали, что могут учиться на ответах. Выравнивать
говоря «Я искал в Google следующую фразу, но ничего не нашел
выглядело многообещающе «- это хорошо, если обратиться за помощью, если только
потому что он записывает, какие поиски не помогут.** Тщательно подведите итоги. ** Тщательно обдумайте то, что Пьяцца называет
«Резюме» вашего вопроса или то, что в электронном письме можно назвать
«Тема.» Резюме — ваша прекрасная возможность привлечь внимание
примерно 50 символов или меньше. (Хотя Piazza позволяет до 100,
чем короче, тем лучше.) Не тратьте свое место на ерунду вроде «Пожалуйста, помогите
я »(не говоря уже о« ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ МНЕ !!!! »; сообщения с такими резюме
игнорируются рефлексом). Не пытайтесь произвести впечатление на других глубиной
ваша тоска; используйте место для краткого описания проблемы
вместо.Одно хорошее соглашение для резюме, используемое многими техподдержкой
организации, есть «объект — отклонение». Часть «объект» указывает, что
вещь или группа вещей имеют проблему, а часть «отклонение»
описывает отклонение от ожидаемого поведения. Процесс написания
описание «объект — отклонение» поможет вам организовать свое мышление
о проблеме поподробнее.
* ** Плохо: ** ПОМОГИТЕ! Вопросы A1
* ** Хорошо: ** A1 — спецификация нарушена
* ** Великолепно: ** Метод кода выпуска A1 Foo.Bar () — несовместим со спецификацией
о предварительном условии
Представьте, что вы смотрите на левую часть площади Пьяцца, где есть только сводки.
показ.Сделайте так, чтобы ваше резюме отражало ваш вопрос достаточно хорошо, чтобы
следующий ученик, который будет искать похожий на ваш вопрос, мгновенно
распознают, что ваше сообщение связано с их вопросом, чтобы они
не нужно будет снова публиковать вопрос.
** Сосредоточьтесь на своем вопросе. ** Открытые вопросы обычно воспринимаются как
неограниченное время тонет. У вас больше шансов получить полезный ответ, если вы
четко указывайте, что вы хотите, чтобы респонденты делали.
Это будет сосредоточено
их усилия. Думайте об опыте как об изобильном ресурсе, а время — как о
дефицитный.Чем меньше времени вы неявно просите, тем
более вероятно, что вы получите ответ от кого-то действительно хорошего и действительно
занят, будь то однокурсник, ТА или профессор. Так что, это
полезно сформулировать вопрос, чтобы свести к минимуму затраты времени
для эксперта, чтобы его полить.
* ** Плохо: ** Не могли бы вы еще раз объяснить прикол?
* ** Хорошо: ** Не могли бы вы указать мне хорошее место для начала чтения?
насчет снарков?
* ** Великолепно: ** Я поискал в Google снарки, прочитал о них статью в Википедии [url],
а также статью, процитированную там как [5], которая, по-видимому, является основным источником
статья.Но я не понимаю, что значит «смешивать», и бумага
он ссылается на то, что [url] находится за платным доступом. Вы можете указать мне место
где я могу подробнее прочитать о «смешивании»?
** Пишите ясным, грамматическим языком с правильным написанием. ** Проведите
дополнительные усилия, чтобы отполировать свой язык. Он не должен быть жестким или жестким.
формальный. На самом деле, мне нравится неформальная, жаргонная и юмористическая лексика.
с точностью.
Правильно произносите слова, знаки препинания и заглавные буквы. НЕ Вводите ВСЕ ЗАГЛАВНЫМИ буквами;
это читается как крик и считается грубым.Не использовать
ярлыки и сокращения для обмена мгновенными сообщениями, такие как «u» или «lol», если только они не
с расчетливой иронией.
Никогда, никогда не помечайте свой вопрос как «Срочный» и тем более как «СРОЧНЫЙ».
При этом существует риск того, что вас сочтут эгоистичной попыткой
вызвать немедленное и особое внимание. Хорошо написанный вопрос
с большей вероятностью получит такое внимание, чем так называемое «срочное»
вопрос.
Вежливость никогда не повредит, а иногда помогает. Используйте «Пожалуйста» и «Спасибо».
Дайте понять, что вы цените время, которое люди тратят на бесплатную помощь вам.
(если они однокурсники) или вне установленного рабочего времени
(если они инструкторы).
Если честно, это не так важно, как
грамматический, ясный и точный. Но если у вас есть остальная часть вашего
уток подряд, вежливость действительно увеличивает ваши шансы получить
быстрый и полезный ответ.
Этот совет особенно относится к главному вопросу. Иногда
последующая цепочка будет продолжаться случайно, и это может быть нормально.
Но если ваше последующее наблюдение все еще пытается продолжить поиски
знания, относящиеся к исходному вопросу, сохраняйте его лингвистически блестящим.
** По возможности используйте простой текст.**
Piazza предлагает множество вариантов форматирования, которые можно использовать для лучшего или
к худшему. Полужирный шрифт, маркеры и заголовки могут быть полезны для
передача структуры в более длинных вопросах. К сожалению, форматированный текст
редактор в последнее время был довольно глючен в отношении предварительно отформатированного текста
и кодовые блоки. Если вы потратите время на использование этих функций, также возьмите
время перечитать ваш пост, чтобы убедиться, что они отображаются в
так, как вы намеревались.
Скриншоты — полезные дополнения к сообщению, но никогда не должны быть
первичный контент.Их содержимое недоступно для поиска и может быть
трудно читать на устройстве зрителя. Обязательно четко подготовьте
сначала укажите свой вопрос в описательном тексте, а затем предоставьте снимок экрана
чисто как увеличение.
** Для технической поддержки вообще пропустите Piazza. **
Удаленная техподдержка — всегда плохая замена индивидуальным встречам.
решение проблем. Вместо этого приходите в рабочее время.
** Не спешите заявлять, что вы обнаружили ошибку. ** Когда вы
возникли проблемы с заданием, не утверждайте, что вы обнаружили ошибку
в нем, если вы не уверены в своей основе.Это особенно недипломатично
кричать «ошибка» в итоговой строке вашего сообщения. Помните, есть
многие другие студенты, которые не сталкиваются с вашей проблемой, иначе
Вы бы узнали об этом во время поиска на площади Пьяцца.
Поэтому, задавая свой вопрос, лучше всего писать так, как будто вы предполагаете, что
делаете что-то не так, даже если в частном порядке уверены, что
правы.
Если действительно есть ошибка, вы услышите о
это в ответ. Играйте так, чтобы инструкторы хотели извиниться перед
вы, если ошибка реальна, а не должны приносить извинения
если ты напортачил.Также лучше всего строить свой вопрос на том, что, по вашему мнению, является исправлением.
к ошибке есть, или, по крайней мере, кандидат на то исправление. Например,
если вы считаете, что предложение в задании ошибочно, вы должны указать
исходное предложение и то, что вы считаете исправленной версией.
Вышеупомянутое обсуждение также применимо к слайдам и заметкам, но я открыто признаю
что вероятность ошибок в этих материалах намного выше, чем
вероятность ошибок в заданиях, которые проверяются достаточно внимательно.Я определенно хочу исправить любые ошибки в слайдах и примечаниях, поэтому, пожалуйста, сделайте
не стесняйтесь писать сообщения, предлагающие исправления. Когда речь идет о
мелкие опечатки, если они технического характера, я обязательно исправлю их,
но простите меня, если в спешке семестра я забываю исправить мелкую
орфографические ошибки.
* ** Плохо: ** ОШИБКА в A1 ?! Этот `41` не может быть правильным, лол.
* ** Хорошо: ** В задаче 2 A1 я считаю, что «41» неверно.
* ** Великолепно: ** В задаче 2 A1 я попытался решить задачу с помощью
`41`, который используется в качестве образца ввода, но я получил ответ, который
бессмысленно (и это я не буду публиковать здесь из-за проблем с ИИ).Ты можешь
предложите, где я могу прочитать больше об этой проблеме,
чтобы я мог понять, что я делаю не так?
* ** Потрясающе: ** В задаче 2 из A1 он дает пробный прогон
`answer (жизнь, вселенная, все)` и говорит, что вывод должен быть `41`.
Я заметил, что это несовместимо с работами Дугласа Адамса, которые
мы учились на этой неделе. В примечаниях к курсу [url] вместо этого написано «42».
Мне просто было интересно, было ли это несоответствие преднамеренным или нет.
Спасибо!
## После запроса
** Как ответить на непонятный ответ.** Если вы этого не сделаете
понять ответ, не сразу возвращать спрос на
разъяснение.
Используйте те же инструменты, которые вы использовали, чтобы попытаться ответить на ваш
исходный вопрос (Piazza, Интернет, руководство, Google, примечания к курсу,
слайды, раздаточные материалы, учебники и т. д.), чтобы понять ответ. Тогда, если
вам все равно нужно попросить разъяснений, продемонстрировать то, что вы узнали.
Например, предположим, что вы получили ответ: «Похоже, вы застряли
zentry; вам нужно очистить его «.
* ** Плохое продолжение: ** Что такое zentry?
* ** Хорошее продолжение: ** Спасибо! Я прочитал справочную страницу, и zentries
упоминается только в параметрах -z и -p.Ни один из них не говорит
что-нибудь об очистке zentries. Это один из них или мне не хватает
что-то здесь?
** Что делать, если ваш вопрос остается без ответа в течение нескольких дней? **
Не принимайте это на свой счет. Отсутствие ответа — это не то же самое, что игнорирование,
хотя, правда, трудно заметить разницу извне. Просто
повторная публикация исходного вопроса — плохая идея. Есть какая-то причина
на ваш вопрос нет ответа.
Так что вернитесь к совету выше. Узнайте, как улучшить свой
вопрос, а затем отредактируйте или отозвите оригинал.Задайте вдумчивый вопрос
вместо. Или сходите в рабочее время, чтобы спросить там; после этого сделайте всем
одолжите и превратите вопрос в заметку с улучшенной версией
вопрос (при необходимости) и краткое изложение ответа.
** Как интерпретировать, казалось бы, краткие ответы. **
Иногда ученики находят ответы либо у других учеников, либо у
инструкторы, на площади Пьяцца должны быть краткими, грубоватыми или солеными. Лежащий в основе
проблема, скорее всего, во времени, а не в намерении. Ваши сокурсники и ваши
у инструкторов редко есть время написать хлесткие, эмоциональные
бурный ответ.Эффективность требует лаконичного письма. Итак, в качестве ответа
Искатель, пожалуйста, не путайте краткость с враждебностью. И как ответ
дающий, не скрывайте враждебность краткостью: будьте уважительны и давайте
ваши сверстники пользуется сомнением.
Как выбирать тексты для увлекательного и вдумчивого совместного чтения
Общие книги для чтения
Хорошо продуманные большие книги для совместного чтения — это мощный и многоуровневый учебный инструмент. Но выбор правильной книги для совместного чтения означает больше, чем просто выбор «большой» книги.”
Часто первое, о чем мы думаем, когда дело доходит до выбора книг, — это уровень. Однако уровень имеет значение только при выборе текстов для управляемого чтения, а не при выборе текстов для чтения вслух, совместного чтения или самостоятельного чтения.
Вот четыре вопроса, которые следует задать себе при выборе текста для совместного чтения, каждый из которых имеет отношение к преднамеренным элементам дизайна и составлению рассказов, которые создадут возможности для обучения.
Как сделать совместное чтение интересным
Good Shared Reading Книги должны быть интересны учащимся.Актуальные темы, которые интересуют детей, очень важны. Темы, которые нравятся учащимся, включают семьи, игры, школу, домашних животных и природу. Связи с такими темами привлекают молодых читателей и создают контекст для обсуждения и развития языка.
Книги для чтения для детского сада
Например, «В лесу сказок» — восхитительная книга, в которой известные персонажи сборников рассказов прячутся в лесу. На каждом двухстраничном развороте изображен лес, в котором «спрятаны персонажи и предметы из истории».Текст внизу страницы спрашивает детей: «Сможете ли вы найти…?» и показывает крупным планом иллюстрации персонажей или сюжетов, таких как Золушка и ее стеклянная туфелька. Дети используют язык, например позиционные слова, чтобы описать, где эти предметы расположены на иллюстрации: Золушка находится в траве на вершине холма.
Какие большие идеи представлены?
Наряду с интересными темами хорошие книги для совместного чтения должны предлагать множество важных идей для обсуждения. Эти идеи можно найти в словах, иллюстрациях или фотографиях.Даже книга с простым и повторяющимся текстом будет иметь несколько слоев для размышлений и обсуждений. Например, в такой книге, как «В палатке» — история, написанная с рифмой и ритмом о двух детях, разбивающих лагерь на заднем дворе, — содержит несколько идей: почему кто-то захочет разбить лагерь, необходимое оборудование для лагеря, члены семьи, присоединяющиеся к опыту одно- один за другим, и когда еще одного туриста оказывается слишком много. Множество интересных идей означают, что дети хотят перечитывать книгу снова и снова, чтобы больше обдумывать идеи.
Какая поддержка предоставляется в тексте?
Должно быть много средств поддержки, предназначенных для начинающих и ранних читателей, что даст множество возможностей и поддержку для повторного чтения. Книги «Хорошее общее чтение» предназначены для многократного использования в течение учебного года. Иллюстративная и печатная поддержка предлагают студентам возможность научиться использовать все три системы подсказок (семантическую, синтаксическую и графофоническую) интегрированным образом. Рифмующий, ритмичный и повторяющийся язык заставляет учащихся читать тексты самостоятельно после того, как книга будет использована несколько раз на целых групповых уроках.
Еще один уровень поддержки в качественной большой книге для совместного чтения находится в самой печати, которой можно управлять несколькими способами. Используемый шрифт большой и использует более толстые линии на каждой букве, поэтому отпечаток можно прочитать на расстоянии. Для начинающих и начинающих читателей размещение отпечатка на странице помогает учащимся разработать несколько концепций печати: различать принт и иллюстрацию, понимание, с чего начать чтение, и слева направо, сверху вниз на двухстраничных разворотах, чтобы назвать несколько.В качественных больших книгах шрифты для начинающих и начинающих читателей — без засечек. Никаких волнистых букв «а» или «г»; в книгах используются буквы a и g. Другими словами, шрифты похожи на то, что дети научатся формировать и писать для себя. Большой интервал между словами и между строками текста — еще один элемент печати, поддерживающий концепции развития печати. Большие пространства помогают детям развить чувство границ слов и границ строк в печатном тексте.
Еще одним ключевым фактором качества больших книг для начинающих и начинающих читателей является перенос строки.Так же, как в книгах для начинающего и раннего ориентированного чтения, фразы хранятся вместе в строке, чтобы стимулировать беглое перечитывание фраз и поддержать смысл. Например, в книге «Пицца для медведя» одна строчка гласит: «У него текут слюни»; следующая строка гласит: «с большими каплями». Хотя было место для слова «с» в той же строке, что и «у него текут слюни», слово «с» помещено в ту же строку с «большие, большие капли», потому что оно включено во фразу «с очень большими каплями». капает ». Эти фразы хранятся вместе в строке, чтобы помочь учащимся правильно перечитать оттиск.Это поддерживает их способность точно отслеживать печать для себя, когда они самостоятельно перечитывают тексты.
Какие возможности для обучения предлагаются?
Тексты для совместного чтения предлагают множество возможностей для обучения навыкам и стратегиям. Поскольку хорошие большие книги написаны для многократного использования в течение учебного года, существует множество возможностей для демонстрации.
Например, в «Любимых вещах бабушки» — истории о дедушке и внучке, делающих покупки для бабушкиных любимых вещей — в тексте используются подробные иллюстрации и слова разной сложности.
На каждом двухстраничном развороте присутствуют сильные аллитерационные элементы: в каждом магазине рассмотренные и в конечном итоге купленные товары начинаются с одной и той же первой буквы, что подтверждает фонологическую осведомленность и понимание звуков. На некоторых страницах элементы используют смесь, а не одну согласную. На некоторых страницах есть составные слова и слова с различными вариантами написания.
Кроме того, на каждом двухстраничном развороте не все элементы на иллюстрации, которые начинаются с указанной согласной, названы в напечатанных словах.Например, на странице, где все элементы начинаются с буквы p, на иллюстрации есть груши и ананасы, которые не были идентифицированы в напечатанных словах.
Хотя книга предназначена для начинающих и начинающих читателей, авторам не следует экономить на богатой лексике. В своей книге «Пицца для медведя» Нэнси О’Коннор использует богатый словарный запас на протяжении всей книги. Такие слова, как чавканье, фырканье, блеск и слюни. Дон Холдэуэй сказал: «Если дети несколько раз читают любимые книги, которые им понравились, они могут справиться с удивительно богатым словарным запасом.”
Каждое из этих слов и иллюстраций намеренно объединено в хорошие большие книги, чтобы предложить учителям и учащимся множество причин вернуться к книге, в зависимости от потребностей учащихся в классе. Эти смысловые слои также позволяют детям замечать вещи самостоятельно при перечитывании.
Наконец, учителя дошкольных и старших классов часто спрашивают, почему книги для совместного чтения содержат несколько строк текста, а не одну. Соответствие один к одному и обратная развертка легче разработать из-за таких факторов, как размещение печати и разрывы строк, а не из-за того, что есть только одна строка текста.А поскольку в тексте больше шрифтов, он имеет больше возможностей для обучения, чем текст, ограниченный одной строкой на странице. Поскольку совместное чтение является широко поддерживаемым учебным подходом, учащиеся могут справиться с большим количеством текста на странице, чем они могли бы в противном случае.
При рассмотрении большой книги подумайте над этими четырьмя вопросами, а не на уровне мышления, чтобы выбрать лучшие книги для совместного чтения.
Для получения дополнительной информации о любом из названий, упомянутых в этой статье, посетите Myokapi’s Lift to Literacy.
7 Эффективная деятельность по пополнению словарного запаса | Вдумчивое обучение K-12
«Мне нравится вкус слов. У них есть вкус, вес, цвет, звук и форма ».
—Филип Пуллман
В статье 2008 года в Washington Post показано, как «Студенты глубоко копают в поисках истоков слов». В статье отмечалось, что Фил Розенталь был одним из немногих преподавателей средней школы в США, преподававших курс этимологии. По словам Розенталя, студенты посещают занятия, потому что они хотят освежить свой словарный запас перед сдачей ACT или SAT, и / или потому, что они искренне интересуются историей слов.(Также сообщалось, что несколько студентов записываются на курс, думая, что они будут изучать насекомых.)
Эта статья напомнила о моей неудачной попытке познакомить учеников средней школы с изучением слов. Я слишком много владел единицей. Если бы я подошел к изучению слов как к процессу совместного исследования, мои ученики и я получили бы гораздо более значимый опыт.
Вот что мы знаем о развитии словарного запаса: существует тесная связь между словарным запасом учащегося и его способностями к чтению.То же самое и со способностью ученика слушать, говорить и писать. Фактически, теперь мы понимаем, что у каждого человека есть четыре словаря, по одному для чтения, аудирования, разговорной речи и письма (перечислены здесь в порядке убывания). Очевидно, что есть много совпадений, но учащиеся всегда смогут распознать больше слов, чем они могут воспроизвести.
Кроме того, предоставление студентам длинных списков словарных слов с небольшим контекстом или без него не является эффективным способом обучения лексике; студенты должны активно участвовать в изучении слова, чтобы оно что-то значило для них.Проще говоря, если учащиеся не будут использовать изучаемые слова, эти слова не станут частью «производственного» словарного запаса учащихся. Чтобы разработать эффективную программу лексики, рассмотрите следующие типы мероприятий, удобных для учащихся:
Деятельность по пополнению словарного запаса
Предварительный просмотр в контексте
- Выберите 5–6 слов из главы или набора, которые студенты собираются прочитать.
- Попросите учащихся перейти к странице, на которой находится каждое слово.Попросите студентов прочитать слово в контексте и попытаться выяснить его значение.
- Попросите учащихся записать, что, по их мнению, означает каждое слово.
- Обсудите возможные значения и дайте определение в этом контексте.
Самостоятельная коллекция
- Попросите учащихся собрать интересные слова из разных источников, желательно не из школьных источников.
- Попросите учащихся определить каждое слово и контекст, в котором оно используется.
- Затем попросите их проанализировать слово, используя его контекст, части слова и определения словаря.
Языковые семьи
- Разделите класс на восемь групп и попросите каждую группу исследовать одну из индоевропейских языковых групп (албанскую, армянскую, балто-славянскую и т. Д.).
- После этого попросите каждую группу представить свои выводы классу. (Пусть группы выбирают, как они хотят представить свои выводы.)
См. Minilesson для «Обнаружения происхождения слова (этимология)».«
Префикс
, суффикс, исследование корня
- Назначьте учащимся 3-4 части слова (приставки, суффиксы, корни) каждую неделю.
- Дайте учащимся стратегии для изучения этих частей слова.
- Ежедневно давайте студентам одну часть слова. Во время опроса попросите учащихся написать часть слова, определение, образец слова и предложение с использованием этого слова.
- Затем предложите им поискать знакомые слова, которые помогут им запомнить значение каждой части слова.
- Попросите их объединить части слов, которые они выучили, в как можно больше слов (возможно, через 5 минут или в качестве задания на следующий день). Для этого можно использовать специальные карты.
- Также предложите им создать «новые» слова, используя части слова, которые они выучили. Для уточнения новое слово должно иметь смысл и может действительно использоваться.
- Попросите студентов поделиться своими новыми словами; партнеры должны попытаться угадать, что каждый из них имеет в виду.
- Попросите учащихся зарезервировать часть своих записных книжек для частей слов, которые они встречаются в газетах, журналах и других классах.
Special Note: Письменные справочники Thoughtful Learning содержат обширные списки префиксов, суффиксов и корней.
Word Sleuthing I
- Регулярно предлагайте студентам список из пяти или шести наиболее знакомых слов, содержащих один и тот же корень, префикс или суффикс. (Сделайте последние одно или два более сложными, чем другие слова.)
- Прочтите список слов вслух два или три раза. Затем попросите учащихся определить часть слова, которая является общей для всех слов. Спросите их, как они определили значение. Затем, используя часть известного слова, попросите учащихся определить ключевые слова. Опять же, спросите их, как они определили значение.
Примечание. Для получения дополнительных кредитов предложите студентам предоставить некоторые из этих списков слов.
Word Sleuthing II
- Предложите учащимся, самостоятельно или в парах, найти ответы на вопросы в Интернете.Им следует попытаться найти как можно больше о слове, начиная с его этимологии. Попросите их найти информацию о слове как минимум из _________ источников (количество определяете вы) в дополнение к онлайн-словарям.
- После исследования попросите учащихся представить классу свои выводы. (Пусть учащиеся выбирают, как они хотят представить свои выводы.)
Word Contest
- В конце недели попросите учащихся самостоятельно или в парах подготовить ручку и бумагу.Затем дайте им 3-5 минут, чтобы перечислить как можно больше слов, содержащих определенный префикс или корень. (Суффиксы также могут не работать.)
- Победителем становится человек или команда, указавшие наибольшее количество слов. (Но убедитесь, что каждое слово настоящее.)
Чтение, несомненно, является основным способом развития словарного запаса учащихся, поэтому поощряйте их читать всевозможные печатные и онлайн-материалы. Наряду с этим, используйте различные виды деятельности (например, приведенные выше), чтобы помочь студентам оценить богатство языка.Комбинация должна дать положительные результаты.
Хотите больше занятий по пополнению словарного запаса?
Типичное прочтение вдумчивой статьи здравомыслящего человека в Интернете
Трезвое введение в текущее событие, за которым следует разумное замечание о его тревожных сложностях. Несколько предложений об абсурдно влиятельных людях, которые не признают разумную точку зрения автора. Некоторые изощренные описания катастрофических последствий непризнания разумной точки зрения автора.
Удивительное объяснение того, почему люди не признают вменяемости автора. Некоторые ссылки на вещи. Перечень соответствующих эмпирических данных, которые кажутся точными, но, вероятно, это просто дерьмо, которое автор нашел в Википедии.
[ОБЪЯВЛЕНИЕ КЛАССНОЙ ВЕЩИ, КОТОРУЮ ВЫ ИЩАЛИ НА AMAZON ДЕСЯТЬ МИНУТ НАЗАД, КОТОРАЯ БОРЬБА С НАЖМИТЕ НАЖАТЬ И ПРОВЕРИТЬ СНОВА.]
Две или три строчки о важности извлечения уроков из прошлого. Смутно релевантный урок истории, включающий незабываемые даты, иностранно звучащие имена и места.Выражение искренней озабоченности тем, что ничего не случится и что невинные люди пострадают, а возможно, и все человечество.
Вдохновляющий вывод, побуждающий читателей к действию.
— — —
КОММЕНТАРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ
Возмутительно грубое заявление, оскорбительное для благонамеренного человека.
— Пятнадцатилетний
Еще более возмутительно подлый и оскорбительный ответ.
— Добросовестный взрослый
Удивительно остроумный ответ пятнадцатилетнего подростка, который, вероятно, рассмешил вас, хотя вам и не следует этого делать.
— Пятнадцатилетний
? ? ? ? ? ? ?
— Мама
Ханжеский комментарий о том, что Интернет полон ужасных комментариев явно развращенных, поверхностных, самовлюбленных людей.
— Тринадцатилетний
Восторженное согласие немного успокоившегося взрослого человека.
— Тот же добросовестный взрослый
Необъяснимо дерьмовый комментарий, обвиняющий благонамеренного человека в использовании английского языка политически некорректным образом. Содержит вопиющие грамматические и / или орфографические ошибки.
— Студент колледжа
Разумный комментарий, указывающий на то, что благонамеренный человек делает хорошее замечание.
— Автор продуманной статьи из лучших побуждений
В высшей степени циничный комментарий, искажающий вдохновляющее заключение человека из лучших побуждений.
— Мужчина безработный в дачном подвале
На самом деле очень забавный GIF или мем-картинка, не имеющая никакого отношения к статье.
— Абсурдно могущественный человек
Глубоко информированный комментарий, указывающий на то, что данные автора из Википедии некорректны.Ссылка на научную статью, подтверждающую это. Академическая работа находится за платным доступом.
— Адъюнкт-лектор по академическому рынку труда четвертый год подряд
Комментарий, указывающий на то, что мы все равно умрем.
— Девятилетний
Что значит быть в безопасности?: Вдумчивая дискуссия для читателей любого возраста о проведении здоровых границ и принятии безопасных решений: Amazon.de: ДиОрио, Рана, Лю, Жен: Fremdsprachige Bücher
«Эту книгу следует обязательно прочитать. Это послание не только отлично подходит для детей, но и является мощным напоминанием о том, как заботливые взрослые могут помочь детям почувствовать себя в большей безопасности.»- Ланна Дэвис, директор детских программ, Futures Without Violence
» Эта мудрая история о слове «безопасный» рассказана очаровательными рисунками и убедительными словами. «- Ирен ван дер Занде, основатель и исполнительный директор Kidpower International
» Было время, когда никто не должен был беспокоиться о том, чтобы не брать конфеты у незнакомцев и «стоп, брось и катись». В современном мире безопасность значит гораздо больше. Книги Раны ДиОрио должны быть в каждом классе и домашней библиотеке, а главное — в руках каждого ребенка.
»- Ван Овертон, исполнительный директор #SpreadLoveABQ
« Что значит быть в безопасности? ставит все на воодушевляющую основу. Речь идет не о том, чтобы оставаться в безопасности, а о том, чтобы обезопасить себя и других … Разнообразие персонажей, красивые иллюстрации и использование экологически чистых технологий для производства превосходного продукта также являются плюсами. «- Мэриан Аллен, автор
» В книге Раны ДиОрио рассматриваются все эти проблемы безопасности, с которыми сталкиваются дети, растущие в пригороде. Она делает это спокойно и мягко, поднимая правильные вопросы, но не пугая.Мне нравится, как она прислушивается к твоему внутреннему голосу и противостоит хулиганам. Это такая книга, которая усиливает послания, которые дают нам родители. Это позволяет вести диалог, если возникает проблема, но также может быть мягким напоминанием о том, как оставаться в безопасности. И это именно то послание, которое я хочу передать своим детям ». — Pragmatic Mom
« Что значит быть в безопасности »- это прекрасное исследование того, как распознать и оценить, что значит поддерживать здоровые и гибкие ограничения в зависимости от контекста и время.Важно побудить молодых людей сформулировать, что им удобно, а что безопасно. Будь то новый вызов, открытость к пониманию индивидуальных различий или навигация по сложным и иногда запутанным социальным взаимодействиям или отношениям, ощущение безопасности исходит из доверия к себе и другим, даже если что-то поначалу не всегда имеет смысл . Эта книга служит способом начать эти разговоры, которые могут помочь молодым людям осознать, что происходит с ними в разное время, а также быть открытыми для доверия к другим и их окружению.»- Алексис Рид, консультант по вопросам образования и директор по методам обучения, основанным на обучении, Бостонский детский учебный центр.
Рана ДиОрио — бесстрашная сила для расширения возможностей и позитивных изменений. Ее цель — помочь людям максимально раскрыть свой потенциал, и она продолжает излагать и расширять эту миссию в своей разнообразной и весьма успешной карьере.
Как поверенный по корпоративным вопросам и ценным бумагам, инвестиционный банкир в технологическом секторе, инвестор и член консультативного совета, Рана на протяжении почти трех десятилетий являлась катализатором финансового, операционного и культурного роста организаций.Как отмеченный наградами автор и предприниматель в области детских СМИ, она вызвала у детей содержательные разговоры и их заботливые взрослые и сосредоточена на воспитании доброты в следующем поколении, помогая творческим людям, которые делают это возможным, реализовать весь потенциал своей работы через свою компанию.
Текст
(1)Давно замечено, что полная неграмотность нравственно выше полуграмотности. (2)Это касается и интеллигенции. (З)Полуграмотная интеллигенция искажает и уродует язык.
(4)Я задумался об этом в связи с наступающим хамством. (б)Небольшой пример. (б)Насколько я помню из литературы, в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века слово «дерзость» имело отрицательный смысл. (7)Говорили: «Повар надерзил. Пришлось отправить его на конюшню». 250
(8)Уже у Даля, конечно, в связи с развитием живого языка, это слово имеет два практически противоположных смысла: (9)«Дерзость — необычайная смелость. (Ю)Дерзость — необычайная наглость и грубость».
(11)С начала двадцатого века положительный смысл этого слова в сущности становится единственным. (12)Чем больше хамство побеждало в жизни, тем более красивым это слово выглядело в литературе. (13)И уже невозможно ему вернуть первоначальный смысл. (14)Иногда люди, не замечая комического эффекта, противопоставляют это слово первоначальному смыслу. (15)«Наглец, но какой дерзкий», — говорится иногда не без восхищения.
(16)Таким образом, слово «дерзость» — небольшая филологическая победа большого хамства…
(17)Я скажу такую вещь: существует жалкий предрассудок, что, садясь писать, надо писать честно. (18)Если мы садимся писать с мыслью писать честно, мы поздно задумались о честности: поезд уже ушел.
(19)Я думаю, что для писателя, как, видимо, для всякого художника, первым главнейшим актом творчества является сама его жизнь. (20)Таким образом, писатель, садясь писать, только дописывает уже написанное его жизнью. (21)Написанное его личной жизнью уже определило сюжет и героя в первом акте его творчества. (22)Далыпе можно только дописывать.
(23)Писатель не только, как и всякий человек, создает в своей голове образ своего миропонимания, но неизменно воспроизводит его на бумаге. (24)Ничего другого он воспроизвести не может. (25)Все другое — ходули или чужая чернильница. (26)Это сразу видно, и мы говорим — это не художник.
(27)Поэтому настоящий художник интуитивно, а потом и сознательно строит свое миропонимание как волю к добру, как бесконечный процесс самоочищения и очищения окружающей среды. (28)И это есть наращивание этического пафоса, заработанное собственной жизнью. И другого источника энергии у писателя просто нет.
(29)Виктор Шкловский где-то писал, что обыкновенный человек просто физически не смог бы за всю свою жизнь столько раз переписать «Войну и мир». (ЗО)Конечно, не смог бы, потому что у обыкновенного человека не было такого первого грандиозного акта творчества, как жизнь Толстого, породившая эту энергию.
(31)Живому человеку свойственно ошибаться, спотыкаться. (32)Естественно, это же свойственно и писателю. (ЗЗ)Может ли жизнь писателя, которая в первом акте самой жизни прошла, как ошибка и заблуждение, стать предметом изображения во втором акте творчества на бумаге?
(34)Может, но только в том случае, если второй акт есть покаянное описание этого заблуждения. (Зб)Искренность покаяния и порождает энергию вдохновения.
(По Ф. Искандеру)
Сочинение
Отражается ли в произведении искусства личность творца? Что является главнейшим актом творчества для художника? Над этими вопросами меня заставил задуматься текст известного российского писателя Ф. Искандера.
Автор обращается к вечной проблеме миропонимания в искусстве. Актуальность поставленного вопроса не вызывает сомнений, поскольку с древнейших времен человек в искусстве отражает свое мировоззрение и миропонимание.
Писатель говорит о том, что «для всякого художника первым главнейшим актом творчества является сама жизнь». Действительно, в отрыве от жизни невозможно создать по-настоящему талантливое произведение. Писатель только отражает на бумаге то, что жизнь уже сама давно осмыслила и «написала».
Ф. Искандер убежден, что писатель отражает в творчестве свое понимание мира, следовательно, он отражает свою личность, свое отношение ко всем серьезнейшим вопросам бытия. Что же, по мнению, писателя, представляет собой правильное творческое миропонимание? Это, бесспорно, стремление и воля к добру, «бесконечный процесс самоочищения и очищения окружающей среды». Следовательно, только если писатель нацелен, настроен на созидающее добро, будет обогащаться его творчество, «наращиваться» пафос произведений. Ф. Искандер подчеркивает, что другого источника вдохновения, кроме созидания добра и внутренней духовной работы, у писателя просто нет.
Главная мысль текста состоит в том, что творчество вовсе не является результатом фантазии и воображения писателя. Оно — закономерный итог познания творцом сложностей и противоречий жизни. В основе его — желание созидать, а не разрушать, непрекращающаяся внутренняя работа творца по очищению собственной души от всего разрушительного: лжи, невежества, коварства, желания славы.
Невозможно не согласиться с позицией автора: настоящим художником можно назвать лишь того, чьи произведения взывают к добру как к основе миропорядка; того, кто постоянно совершенствует самого себя и в произведениях отражает результаты глубинной внутренней работы души.
Можно привести ряд примеров из литературы, свидетельствующих о том, что художник всегда занят серьезнейшей внутренней работой по познанию мира и самого себя в нем. Так, в одной из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» великий композитор кажется Сальери «гулякой праздным». Действительно, на первый взгляд кажется, что Моцарт совсем не усерден в творчестве в отличие от Сальери. Но как заблуждался Сальери: Моцарт не гулял, не проводил праздно жизнь, он изучал ее, накапливал яркие и самобытные впечатления в непосредственном общении с людьми, в то время как Сальери в тиши уединения старался многочасовыми занятиями постичь то, что можно постичь исключительно в водовороте жизни.
Образ великого Моцарта привлекал не только А. С. Пушкина. Понять личность этого выдающегося композитора пытались и после А. С. Пушкина еще не раз. Так, К. Г. Паустовский в рассказе «Старый повар» говорит о том, что Моцарт видит источник своего творчества исключительно в жизни, в ярких впечатлениях ее. Свое видение жизни композитор передает тем, кто слушает его творения. Моцарт, приступая к игре на клавесине, говорит слепому повару: «Слушайте и смотрите». Прочитав рассказ, невольно задумываешься, представил ли старик себе сад, небо, рассвет или на самом деле прозрел под влиянием музыки? Хочется верить, что миропонимание композитора несомненно могло повлиять на яркость и точность картин, которые представил себе незрячий человек. Моцарт был счастлив, потому что отдал свой талант людям, принося им радость и созидая добро.
Итак, понимание искусства как целенаправленного добра и творческого созидания, огромная внутренняя работа художника над собой — вот источник творчества любого великого творца. Другой энергии, кроме энергии самой жизни со всеми ее радостями, бедами, тревогами и печалями, у художника нет и никогда не будет.
Проблема творческих прозрений
Ф. М. Достоевского
Текст
(1)Чуть не век Достоевского корили за то, что герои у него говорят одинаково, но в конце концов, приняв этот «недостаток» или «порок» за аксиому, ему — простили.
(2)Смирились.
(3)Да, говорят! (4)Да, одинаково или почти одинаково. (5)(Стоило бы только добавить: одинаковая и небывалая до сих пор сила, невероятное напряжение слов.)
(6)Но что это? (7) «Недостаток»? (8) «Недосмотр»? (9) «Порок»?
(Ю)Когда человека пропороли ножом, когда он вдруг страшно обжегся, когда рушится, горит его дом, когда то же самое случается с другим, третьим, четвертым, то не будут ли все они чувствовать, думать, кричать одинаково? (11)А у Достоевского почти каждый герой смертельно болен духовной болью за весь мир, за себя, за другого, за всех, а потому так часто кричат все они и одинаково — почти одинаково — говорят, кричат, стонут, шепчут, молчат, одним одержимы, одним живут, во имя одного умирают. (12)Последние вопросы решают, на «последнем аршине пространства», в последний час, когда есть еще последний выбор.
(13)Любой внимательный читатель наберет десятки таких совпадений, любой исследователь Достоевского знает их сотни. (14)Это — язык смертельной боли, язык последних вопросов, язык решающего выбора между всегубительным преступлением и всеспасительным подвигом, язык главных слов, язык смерти и жизни — буквально, не переносно, не метафорически!
(15)Ведь и у каждого человека случаются моменты, когда «свои собственные», казалось бы, абсолютно неповторимые «главные слова» (правды, лжи, надежды, страдания, самообмана) он слышит вдруг из уст других людей, и — вздрагивает, и — узнает их то в ужасе, то в стыде, то в счастье.
(16)Но XX век принес — приносит — решающее доказательство, страшное и обнадеживающее доказательство истинности открытия Достоевского: сама реальность заговорила вдруг на его языке. (17)А. Адамович и Д. Гранин, авторы «Блокадной книги», беседуя с уцелевшими ленинградскими блокадниками, были потрясены: (18)«Жизнь словно начиталась Достоевского!» (19)И самое потрясающее в том, что большинство этих людей заговорили языком Достоевского, не подозревая об этом, «цитировали» его, не зная, не читая, не помня, не «подслушивая»! (20)А ведь даже блокада, даже вся минувшая война, даже худшие из концлагерей, даже Хиросима и Нагасаки — все это лишь слабые, бледные наброски той картины всемирной гибели, которая и грозит стать ре-
Альностью. (21)Но эта угроза и заставляет простых смертных заговорить вдруг языком гениального пророка-гуманиста.
(22)Сколько написано о решающей проверке теории Эйнштейна, когда в 1919 году две астрономические экспедиции (в Бразилии и Западной Африке) сфотографировали Солнце во время его полного затмения и обнаружили предсказанное отклонение лучей света в поле тяготения Солнца. (23)Триумф! (24)Но предчувствия, предсказания, открытия Достоевского прошли ничуть не менее серьезную проверку. (25)И не надо быть гением, чтобы увидеть это, не надо никаких экспедиций и даже — никаких телескопов: все «затмения», все «отклонения» стали видны вооруженным глазом. (26)А ведь реальное значение открытий Достоевского несравненно важнее открытий, скажем, Эйнштейна, который сам это и признавал, сам на этом настаивал.
(27)«Всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху — c… Прежде всего!»
(28)Теперь уж буквально — всем, буквально — воздуху, буквально — не хватает. (29)Не хватает именно потому, что еще раньше (как это предвидел, предчувствовал Достоевский), и давно уже, перестало хватать воздуху правды, воздуху нравственного.
(30)И все больше людей ощущают это, все больше думают, кричат об этом, хотя и на разные голоса.
(По Ю. Карякину )
Сочинение
Творчество Федора Михайловича Достоевского — одно из вершинных достижений русской классической литературы — справедливо уподобляют космосу. Созданный писателем художественный мир столь грандиозен по масштабам мысли и чувства, глубине духовных проникновений и прозрений, что представляет собой своего рода вселенную. К осознанию этой истины стремится Ю. Карякин, современный публицист и исследователь творчества Ф. М. Достоевского.
В предлагаемом для анализа тексте Ю. Карякин обращается к сложнейшей философской проблеме осмысления творческих прозрений Ф. М. Достоевского. Актуальность названной проблемы бесспорна, поскольку и сегодня, в XXI веке, творчество этого величайшего русского мыслителя до сих пор осознано не в полной мере, и, вероятно, человечеству потребуется еще очень много времени, чтобы понять, оценить всю философскую глубину пророчеств писателя-гуманиста.
Ю. Карякин, рассуждая о глубине пророческих открытий автора «Преступления и наказания», говорит о том, что «у Достоевского почти каждый герой смертельно болен духовной болью за весь мир». Вероятно, этим, по мнению автора текста, объясняется душевная неуспокоенность героев, их невероятное по силе желание найти ответы на «проклятые» вопросы жизни.
Говоря о том, что все открытия и предсказания должны пройти обязательную проверку временем, Ю. Карякин справедливо утверждает, что «предчувствия, предсказания, открытия Достоевского прошли ничуть не менее серьезную проверку временем», чем, скажем, открытия Эйнштейна. По мнению автора, значение творческих пророчеств великого мыслителя для человечества имеют несравнимо большую ценность, чем труды великого математика. Чем это объяснимо? Безусловно, тем, что открытия и пророчества Ф. М. Достоевского находятся в нравственной плоскости человеческого бытия. А без нравственности, без «нравственного воздуху», без «воздуху правды» люди жить не могут.
Ю. Карякин приходит к выводу: величие и значимость творческих пророческих открытий Ф. М. Достоевского постоянно доказывается самой жизнью, самой реальностью тех нравственных угроз, о которых говорят, кричат, плачут, мучительно размышляют герои великого русского писателя.
Невозможно не согласиться с мнением автора текста: Ф. М. Достоевский пророчески осмыслил многие сложнейшие вопросы человечества. Именно поэтому в сложнейшие периоды жизни нации кажется, что самые обычные, реальные люди говорят словами героев писателя.
Можно привести ряд примеров из художественных произведений Ф. М. Достоевского, подтверждающих глубину творческих прозрений писателя. Так, в романе «Братья Карамазовы» в уста своего героя Алеши Карамазова автор вложил пророческие слова о том, куда приведет человечество тяга к бесконечному накопительству: «Мир говорит: «Имеешь потребности, а потому насыщай их… И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных — зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумывал? В вечном одиночестве он. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше». Нравы многих моих современников, их душевную и духовную опустошенность подтверждают эти слова писателя.
Не менее значимы для человечества и прозрения писателя о счастье как о единственном состоянии духа, которое продлит жизнь на Земле. «Люди могут быть прекрасны и счастливы, если не потеряют способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей», — говорит Ф. М. Достоевский в одном из писем. Бесспорно, пророческие слова: для того чтобы сохранить жизнь, не погрязнуть в нравственном ничтожестве, не привести общество к полному распаду, люди должны научиться строить свою жизнь на основах духовности, нравственности, уважения достоинства личности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Ф. М. Достоевский в своих трудах предвидит и предчувствует ответы, которые составляют цель глубинных, философских исканий всего человечества. Ответы на многие «вечные» вопросы, над которыми издревле бьется человеческое сознание, выдающийся художник и мыслитель оставил в своих произведениях, которые сегодня воспринимаются как пророчество, как дар и задание непрестанного совершенствования человека.
Рисунок дерево рябины осенью — Строительный проект
Лист рябины: форма, описание, строение и фото. Как смотрится лист рябины летом и осенью?
Восхищаясь кудрявой кроной красавицы-рябины, многие и не знают, что в природе есть 84 вида этого растения, дополненных большим количеством гибридных форм. Рябина обосновалась по Северному полушарию, освоив его спокойный пояс. На российских просторах произрастает 34 вида, часть которых окультурили и применяют в качестве декоративного кустарника.
Виды значительно друг от друга отличаются. Покраска ягод и коры, лист рябины и другие признаки у любой разновидности собственные. Реальных рябин в лесных массивах очень мало, они редки. По большей части уникальной красотой человека радует рябиновый подрост — очень маленькие листопадные деревья высотой 3-6 метров. Самым популярным и знаменитым видом дерев-кустарников признана рябина обычная.
Рябиновые листы какие: непростые или обыкновенные?
Форма листьев у рябин многообразна. Когда рассматриваешь листья с различных деревьев, инстинктивно задаёшь вопросы себя: «Лист рябины сложный или простой?» По мнению биологов, есть и непростые, непарноперистые, и обыкновенные рябиновые листики. Собственно, строением листьев и обуславливается дробление кустарника на 2 ключевых подрода.
К реальным рябинам причислены деревья с перистыми листами, формирующими кружевные кроны. Деревья второго подрода, благодаря простым цельным, зубчато-лопастным и лопастным листам, выделяются достаточно плотными кронами.
Ценность реальных рябин выше. На большинстве из них вызревают съедобные целебные горьковато-сладкие ягоды. независимо от того, как смотрится лист рябины, все разновидности деревьев активно применяются в дизайне ландшафта при обустраивании различных садово-парковых участков. Кусты прекрасны в качестве солитеров, они прекрасно выглядят в групповых аранжировках и постоянных аллеях.
Потому что в декоративности деревце удачно состязается с соперниками (коих, к слову, чуть-чуть), отнимая пальму первенства у отдельных растений.
Биологическое описание рябинового листа
По весне, когда рябиновые почки только-только вознамерились распускаться, тяжело с ходу сказать, какой перед нами кустарник. Отлично узнаваемо то дерево, у которого листы полностью развернулись. Ведь каждому знаком необычный лист рябины. Фото ли его, рисунок ли, но видели все. Любовались им не один раз в парке, лесу или саду.
Общий черешок облеплен большим количеством больших перистых маленьких листиков. Схема построения каждого элементарна. Он собран из нескольких пар маленьких листочков. Его вершинка оформлена непарным индивидуальным листиком. Разные источники приводят и более точное описание листа рябины обыденной — растения из семейства Розоцветные.
Длина непарноперистосложных листьев может достигать 10-20 сантиметров.
Рябиновая листва весною и в летнюю пору
Весною на листах четко виден насыщенный пушок. Они опушены волосками и сверху, и снизу. К лету волоски опадут, нежный пушок пропадет, обнажив поверхность, точно также, как это происходит у прочих деревьев, например, у осины. Пушок из волосков мешает быстрому испарению жидкости, насыщающей молодые еще слабые листовые пластинки.
У летних, в большинстве случаев матовых, кожистых и шершавых листьев, окрашенных сверху в тускло-зеленые тона, войлочный седой низ отсвечивает бледными голубоватыми оттенками, практически приближеными к бело-серебристому цвету.
Рябиновые листы осенью
Зеленые летом, листья рябины осенью проходят три стадии покрытия краской. Жёлтые сначала, они медленно приобретают оттенки оранжевого (от легкого до интенсивного).
Листва, отжившая собственное, начинает опадать. Но рябина не теряет цельные листы (в отличии от большинства иных кустарников и деревьев). С перистого листа поодиночке осыпаются важные части. Он, теряя очень маленькие листья друг за другом, будто бы разваливается на некоторые части.
Черешок очень большого листа понемногу оголяется. И только обнажившись полностью, главная кирпично-красная прожилка расстается с растением, отлетая от него на завершальной стадии.
Листва оригинальных рябин
Когда говорят об изяществе деревца, красоты его гроздей и об особенном ажуре крон, в большинстве случаев имеют в виду рябину обычную. Впрочем мир просто кишит и остальными шикарными видами рябин, хотя они и встречаются очень редко.
Виды цельнолистных рябин обладают уникальными биологическими характерностями, делающими их декоративность очень симпатичной.
Рябина Ария
Оригинальное цельнолистное деревце испещрило западноевропейские редкостойные леса. Оно, возносясь ввысь на 10-12 м, раскидывает собственную шикарную крону вширь на 6-8 м.
Формой лист рябины Ария похож на те, что обсыпают ветки ольхи. Он целостный, округло-эллиптический, кожистый, с острой или тупой вершинкой, по краешкам остро-двоякопильчатый, может достигать величины 14 х 9 см. Его верх среди лета сочно-зеленый, а низ бело-войлочный, седоватый, будто бы припудрен мукой.
Благодаря этому по-русски ее именуют мучнистой рябиной. Дерево, поблескивая серебристой листвой, переливающейся от дуновения ветерка, великолепно контрастирует на пестром фоне, сформированном окружающими растениями.
Интересно тогда, какого цвета листы рябины осенью бывают? У Арии осенняя листва красится по-особенному. Ее необъятная крона осенью сияет роскошными бронзовыми оттенками.
Рябина переходная
Такой вид, часто именуемый шведской рябиной, предоставлен одиночными стройными деревами высотой 10-15 метров, дикорастущими в среднеевропейских, прибалтийских и скандинавских лесных массивах.
Поверху летом он темно-зеленый, понизу же опушен серыми волосками, осенью красноватых цветов. Форма неглубоколопастных, в среднем двенадцатисантиметровых цельных листьев продолговато-яйцевидная. Декоративная серебристая листва сформировывает необычную овальную крону вокруг гладкого сероватого ствола.
Рябина бузинолистная
Рассредоточенные по подлеску кустарники и самостоятельные заросли рябины бузинолистной обосновались на просторах Хабаровского края, Камчатки и Сахалина. Они захватили Охотское прибрежье, Курилы и проникли в Японию. Кустарниковые деревца выделяются сравнительно небольшой высотой (до 2-ух с половиной метров), прямыми обнаженными темновато-бурыми с сизоватым налетом отпрысками, округло-яйцевидной разряженной кроной.
На серых ветвях с четко отмеченными чечевичками сконцентрировались непарноперистые 18-сантиметровые листы. Черешки терракотовой гаммы унизаны овально-ланцетными остропильчатыми листиками, фактически нагими, глянцевитыми темно-зелеными.
Рябина Кёне и Вильморена
Эти необычные прямоствольные деревца — представители китайской флоры. Для проживания они присмотрели леса, покрывающие умеренные и тёплые зоны в Центральном Китае. Вильморена разнится от Кёне большей высотой (первая до шести метров, вторая — до трех метров) и декоративностью кроны.
Кроны растений обсыпаны непарноперистыми листьями. На 20-сантиметровых черешках умещается 12-25 листиков, края которых остропильчатые от вершинки до основания. Сезонная ритмика данных растений очень близка. Осенний лист рябины покрашен в пурпурные, красно-фиолетовые цвета.
Листва рябины Глоговина
Береку целительную (второе наименование растения) встретишь на Кавказе и на Крымском побережье. Она захватила часть украинских земель, тех, что тянутся по юго-западу страны. Ее природный регион распростерся по Западной Европе и Малой Азии. На единичные деревья и небольшие группы то и дело наталкиваешься в подлесках и кустарниковых зарослях, в другом ярусе массивов леса и на солнечных склонах.
Стройные 25-метровые рябины укрыты округлыми кронами. Отпрыски переливаются оливковыми оттенками. Реликтовые деревья темно-серые, изборожденные трещинками. Обладающий длинной (до 17 сантиметров) пластинкой, рябиновый лист простой, широкояйцевидный.
Пластинка в основании округло-сердцевидная, а кончик ее заострен. Она с мелкозубчатыми краешками, снабжена 3-5 острыми лопастями. Ее верх глянцевитый, темно-зеленой гаммы, а низ — волосисто-опушенный. Осенняя палитра листовых пластинок может меняться от жёлтой до оранжевой.
Есть две разновидности Глоговины: перисторассеченная и с опушенной листвой. Из той и другой создают замечательные сольные, групповые и аллейные посадки.
Рябина ольхолистная
Приморье, Японию, Корею и КНР побеспокоили разрозненные и сбитые в группы деревья с узкопирамидальными кронами рябины ольхолистной. Они рассеялись по широколиственным и кедровым массивам леса. Прямые лоснящиеся темно-коричневые стволы, устремленные в небо, могут достигать в высоту 18 метров.
Характерные черты листочков заключаются в обычных, широкоовальных, острозазубренных формах, четко выраженном жилковании, в длине плотной листовой пластинки, не превышающей 10 см. Их черты сходственны ольховым листикам. Отсюда и пошло название дерева.
Весенний светло-зеленый лист рябины отливает слегка бронзовым налетом. У летнего листа нижняя поверхность желтоватая, а верхняя — активная темно-зеленая. Осенний блещет сочными ярко-оранжевыми оттенками. Неимоверно красиво дерево в момент весеннего цветения и осеннего листопада.
Как изобразить рябину с помощью карандаша
Рисование — процесс длинный и очень часто слишком тяжелый. Ведь нужно не только передать внешний вид предмета и его контуры, но и соблюсти правильные пропорции и отобразить объем. А если предусмотреть тот момент, что привлекательный рисунок в первую очередь предполагает наличие теней, то приниматься за карандаш или кисточки вообще становится чуть-чуть страшно.
Не многие из нас считается реальным художником.
Как изобразить ветку рябины: начало
Наметьте основное пространство для работы. Собственно в нем и будут прорисовываться некоторые детали грозди. Нарисуйте самую обычную окружность чуть-чуть сложной формы. Она может быть слегка вытянутой по длине. Все может зависеть от того, какую форму станет иметь нужная вам кисть рябины. Кроме окружности изобразите три линии. Они должны буквально торчать из окружности. Дальше эти наброски превратятся в ветки и листы.
Как изобразить рябину: ягоды
В большой окружности очерчиваем с десяток подобных, однако уже небольших по размерам. Это будут ягоды. Они тоже могут быть не очень правильной формы, ведь природа не любит видимых линий и строгих контуров.
Как изобразить рябину: окончательные штрихи
К каждой ягодке нужно приделать отдельную короткую веточку. Ведь плоды рябины не могут висеть в воздухе без опоры. Ягоды собираются в единую кисть, которая фиксируется к основе — более толстой ветке. Листы будут находиться по обоим бокам.
Они имеют овальную форму и маленький размер. Гроздья рябины изобразить не очень тяжело. Главное — все делать бережно и не торопиться. Линии не обязаны быть чрезмерно идеальными. Ветки абсолютно могут выгибаться. Чем больше изъянов, тем намного лучше. Рисунок выйдет более настоящим. Дорисуйте листикам зубчатые края и прожилины. Не забывайте, что ягоды рябины имеют чуть-чуть вмятые верхушки. Можно не рисовать такой невидимый момент на каждом плоде. Достаточно обойтись несколькими штуками, ведь ягоды как правило расположены под различными углами обзора.
Если Вы вдруг не вкурсе, как изобразить рябину карандашиком, то с помощью советов, данных выше, это сделать довольно легко. Прибавьте изображению цвет или объем. Для этого заштрихуйте намного темные места, и также детали, которые будут пребывать в тени. Если вы рисуете простым карандашиком, то контур и наброски лучше делать с помощью модели с маркировкой «Т» или «2Т». Подобный тип не даст возможность эскизу размазаться и запачкать бумажный лист. Штриховка, в основном, делается очень мягким карандашиком. Подобные модели маркируются знаком «М», и также «2М». Это наиболее идеальные варианты чтобы придать объема рисунку и выполнения теней. В случае с цветными карандашами можно просто менять силу нажима на грифель.
Почему рябина созревает осенью
Осень богата на урожаи. На полях зреют злаковые культуры, в лесной глуши появляются грибы, поспевает урожай в садах, не исключение и рябина. Очень часто это дерево применяется для озеленения, очень хорошо оно бывает весною — в пору цветения, и осенью, когда осыпано красными гроздьями и цветными листьями.
Характерности выращивания рябины сосоят в том, что вегетативным способом размножается она с трудом, из-за этой причины лучше культивируется из семян. Для начала семенам рябины нужно обеспечить период глубокого покоя, другими словами посеять их под зиму или сохранять при температуре от 0 до +3 градусов. Посев под зиму выполняется как отдельными семенами, так и целыми ягодами. Учтите, что всхожесть семян не большая — сейте их с запасом. Сеянцы растут по-разному, в зависимости от плодородности почвы и места произрастания. Рябина — светолюбивое растение, любит влагу. Вспомните биологию — растения получают питание при помощи зеленого пигмента, а процесс именуется фотосинтезом. Хлорофилл помогает растениям получать важные питательные детали. Зеленое вещество перерабатывает не весь солнце, а исключительно красный и фиолетовый спектры. В холодный период года лучей ультрафиолета меньше, их недостаточно для правильного развития растения. Чтобы вырасти, рябине требуется много тепла и света, которое даёт летнее солнышко.
Как изобразить рябину карандашиком постепенно?
Как прекрасно изобразить гроздь рябины?
Я рисовал рябину просто отметив ветвь, листочек и саму гроздь рябины. Потом прорисовал отдельно каждый листик и ягоду. Вытер лишнее и разукрасил зелеными оттенками и красного. Вышло просто, легко и похоже:
Изобразить гроздь рябины сравнительно легко, для начала нужно разделить области под листы и ягоды. Сами ягодки небольшие «нанизанные» на ветки (рисуются как виноград, но исключительно по размеру меньше), а уже от веток рисуем листья.
Вот как воочию:
Лолочка611
Чтобы быстрее и проще изобразить рябину карандашами вам нужно в интернете отыскать не непростую картинку и в виде наглядного примера пользоваться ею для вашего шедевра. в первую очередь рабочими линиями прорисовуем веточку, потом листики, и лишь потом дорисовываем гроздь рябины. Потом, вам остается лишь вытереть все лишние штрихи и разрисовать красками или карандашами.
Рисовать ягоды рябины — одно удовольствие! Они остаются яркими даже в зимнее время года, уже не говоря про то, что и осенью собственно рябина внимание привлекает собственной яркостью.
Для того, что бы изобразить гроздь ягод, нужно всего-то держаться следующих не непростых правил:
ЗВЕЗДОЧКА На НЕБЕ
Рябина — прекрасное и, самое основное, полезное деревце. Ведь оно практически всю зиму кормит птиц собственными ярко — красными ягодами. Любой ребенок это обязан знать!
. Как должен хоть раз в жизни попробовать изобразить это деревце сам.
Тем более абсолютно ничего сложного в этом очень и нет. Рисуем ветку, листву, плоды рябины. Наносим штриховку и теневые краски чтобы придать рисунку эффекта объема.
Предлагаю специалист — класс для просмотра. После можно будет не сложно повторить то, как красил и рисовал рябину специалист!
Гроздья рябины состоят из большинства ягодок, которые можно повстречать на деревах даже поздней осенью.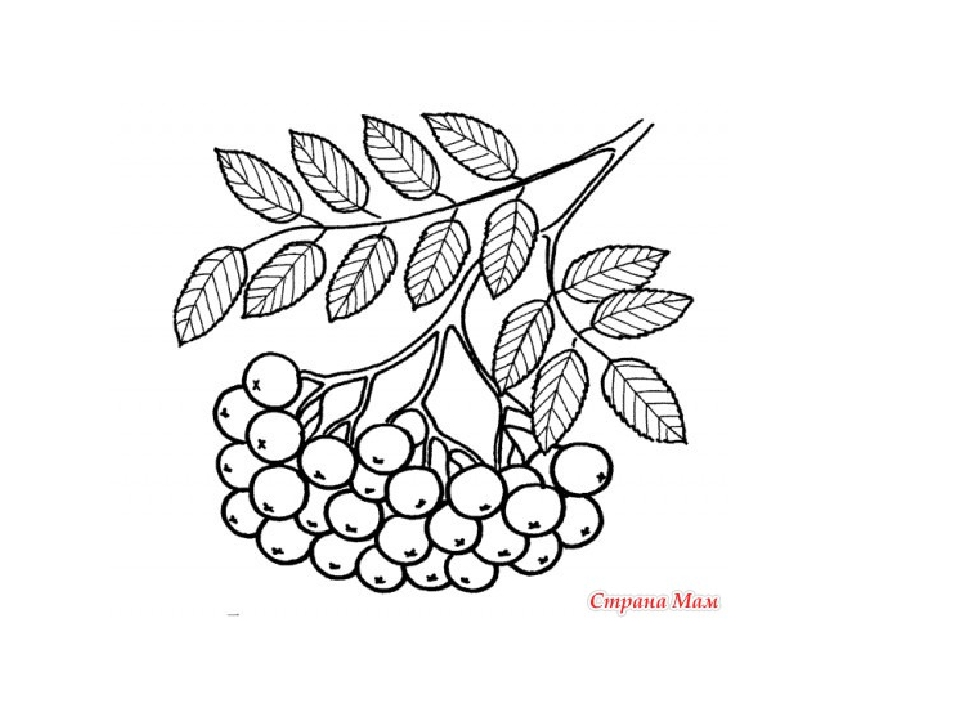
Рисовать рябину можно начать с веточек, на которых растут ягодки.
Registrator
Рябина созревает осенью и радует нас собственными оранжевыми или красными гроздьями на фоне жёлтой листвы.
Чтобы изобразить рябину взглянем на её фото:
Можно изобразить такую, ветку рябины.
Вот, предлагаю для вас несколько картинок, смотря на которые, наверное, каждый желающий сможет изобразить прекрасную рябину. Итак, смотрим на картинки и учимся рисовать прекрасную рябину карандашиком постепенно:
Tagged : гроздь рябины / дерево / лист рябины / нарисовать рябину / осень / рябина
Как нарисовать рябину карандашом поэтапно. Урок рисования рябины в старшей группе поэтапно с фото Фотографии рябины зимой
Если вы решили нарисовать к Новому году 2019 плакат либо картинку для подарка близким, тема изображения должна быть зимняя и новогодняя. Если это будет зимний пейзаж, то на переднем плане уместно поместить веточки рябины.
Пример №1
Начинать работу нужно с разметки карандашом. Для этого чертятся линии веточек, листьев и гроздей. Если эта основа будет составлена правильно, то остальное уже можно будет сделать очень легко. После этого нужно нарисовать листья и собранные в щиток ягоды. Жилки листьев не стоит сильно прорисовывать, достаточно будет небольшого надавливания карандаша. Ветка должна получиться естественной, и поэтому ее черты следует делать настоящими. Ягоды нужны небольшие и круглые. Оформить рисунок на Новый Год 2019 нужно красками зеленых и красных цветов.
Пример №2
Рябину можно сделать и немного по-другому. Сначала на листе бумаге рисуется веточка в наклоне. После чего к ней пририсовываются гроздья ягод и листочки. Чтобы все получилось аккуратнее, нужно сначала прочертить силуэт, а уже затем приступать к обозначению всех контуров.
Пример №3
С помощью этого варианта можно нарисовать ветку рябины в вазе. Такая картина будет смотреться не менее привлекательно, и она может стать частью интерьера комнаты. Сначала требуется изобразить вазу, желательно сделать ее среднего размера. Затем следует нарисовать ветки рябины, которые поставлены туда в качестве цветов. Из вазы следует начертить линии для изображения гроздей и листов. Ягоды должны близко прилегать друг к другу, а листочки потребуются непарноперистые. Все детали нужно нарисовать в таком количестве, чтобы картина к Новому Году 2019 смотрелась гармонично. Когда все готово, можно раскрашивать, а для этого нужны будут такие яркие цвета, как красный и зеленый.
Пример №4
Зимой в новогодние праздники обычно украшают помещение. И чтобы там были оригинальные вещицы, можно самостоятельно нарисовать красивую веточку. Она будет без вазы и других элементов, но только ее достаточно, чтобы картина была гармоничной. В центре листа следует нарисовать гроздь рябины. Ее ягоды должны быть все вместе. От этой детали должны исходить листочки, желательно изобразить их несколько. Все линии следует сделать плавными и аккуратными. Картина лучше будет смотреться, если оформить ее красками. Также нужно не забывать о создании приятного для глаз фона изображения. После завершения покраски картина готова к году Огненного Петушка.
Вот еще интересный видео мастер-класс по рисованию веточки рябины
Красиво смотрится не только веточка, но и само дерево. Обычно на таких картинах к Новому Году 2019 оно немного покрыто снегом и на нее расположились снегири. Внимание изображение притягивают ярко-красные грозди. Ягоды дерева нужно рисовать небольшими, а на конце их должны быть небольшие хвостики.
Как нарисовать рябину – запрос популярный – 110 человек в месяц задают этот вопрос Яндексу.
При этом людей интересует: как рисовать рябину, как нарисовать рябину поэтапно, как нарисовать рябину карандашом, как нарисовать ветку рябины, рисунок рябина… и ещё много чего.
Поэтому постараюсь написать поподробнее.
Тем более, что скоро будем проходить темы , и будем склеивать. Так по-честному надо хорошенько изучить рябину, не полагаться на «по-воображению».
Рисую так: кладу ветку перед собой и стараюсь передать сходство.
То есть цель — нарисовать с натуры похоже. Передавать настроение или внести некий подтекст… это потом, когда композиции рисовать будем. А сейчас чисто учебная работа – правильно вписать в формат, соблюсти пропорции и форму, передать цвет. И это очень серьёзная работа.
Как нарисовать рябину поэтапно
Начинаю с разметки карандашом. Обозначаю направление веточек, величину листьев и размер грозди. Это быстрый, но самый ответственный этап. Дальше уже детали.
Рисую лист (непарно-перистый) и ягоды – собраны в щиток. Очень-очень в детали вдаваться не надо. Это я к тому, что по опыту знаю: дети, рисуя рябину, стараются изобразить пильчатый край листочков позубчатее, вообще как пилу, жилки все прорисовывают… И вот, гонясь за этими деталями сто раз успевают и пропорции нарушить и всё вообще. Учитесь видеть всю натуру, детали хороши только к месту, а не сами по себе.
Теперь — цвет. Я буду красить фломастерами. Недавно купила очередной набор и протестирую.
Набор китайский, за то и ценю — цвета вообще какие попало! В нём аж три разных оттенка серо-зелёного!!! Не только режущие глаз спектральные цвета, а какие-то переходные, даже болотисто-жухлый есть.
Вобщем, раскрашиваю сначала листья(пришлось разбелить белой гелевой ручкой).
Теперь пора взяться за ягоды:
Ну тут в несколько слоёв – от бледно-оранжевого, далее- красный и наконец, бордово-коричневые тени.
БЛИКИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! А для этого – на натуру смотрите, а не в свою голову. А то у нас частенько создаётся впечатление, что мы уже сто раз поняли, как там этот листик или веточка выглядит. И мы знай разукрашиваем не обращая внимания на то…на что? – что натуру мы забыли и придумываем уже что попало. Знакомо?
Но мы не таковские! Рисуем с натуры внимательно! Всё подмечаем. Если у ягодки на носике звёздочка — рисуем, если не видно, значит- не видно. Если ягодки заслоняют одна другую, значит как есть – рисуем с заслонением.
Всё по правде.
Легенды и мифы о рябине.
В одной из старинных английских легенд есть рассказ о том, как некий юный герой, ушедший в дальнее плавание, долго не может вернуться в родной замок, захваченный колдуньей, ибо та злой волшбой каждый раз учиняет бури на пути его корабля. И лишь тогда удается юноше пробиться сквозь магические препоны и освободить замок, когда мудрый человек подсказывает ему заменить киль корабля с дубового на рябиновый, ибо злое колдовство рассеивается там, где появляется древесина этого любимого многими народами дерева…
Согласно другой легенде, в рябину обратилась жена, у ног которой погиб ее любимый супруг. Злые люди хотели их разлучить, но не смогли добиться этого ни с помощью золота, ни с помощью власти и оружия, ни даже с помощью смерти. Прекрасной была их жизнь, прекрасной стала и смерть. Поцеловав в последней раз мужа, воззвала верная жена к Господу, чтобы защитил он ее от власти убийц, и в тот же миг стала рябиной на его могиле. Плоды ее стали красными как кровь, пролитая во имя любви.
Существует ирландское сказание о Фраорте, в котором ягоды волшебной рябины, которые стережет дракон, могли заменить девять трапез, а кроме того были прекрасным средством для исцеления раненных и прибавляли лишний год к жизни человека. Если же обратиться к сказанию о Диармойде и Грайне, то там и того больше, сказано, что ягоды рябины, так же как и яблоки, и орехи, считались пищей богов.
Рассказывают легенду про богиню Фрейу (богиня любви и красоты у жителей Асгарда), у которой было ожерелье, сделанное из плодов рябины, которое защищало ее от различных сглазов и порч.
Северяне обсаживали свои жилища и храмы рябиной, защищая таким образом постройки от удара молнией. И почти везде само дерево посвящали местному богу-громовержцу. У славян она была деревом Перуна, скандинав Тор тоже не гнушался рябинкой. У тех же скандинавов рябина защищала не только от молнии, но и от враждебной магии. Карело-финское божество Тара, такой же громовержец, как и созвучный ему Тор, также получил в посвящение рябину.
У кельтов рябина считалась аналогом греческой амброзии. Ее красные ягоды, сторожимые зеленым драконом, называли пищей богов.
Есть праздник рябины — это день Святого Креста, или «Рябиновый день». Празднуется 3 мая или 13 мая. В этот день в дом вносили ветви рябины, чтобы защитить дом от всяких невзгод. Так же в некоторых областях праздновались Рябиновые именины. Эти праздники происходили четыре раза в год: весной, когда праздновали окончание пахоты и раскрытие рябинового листа; летом, когда заканчивалась посевная и цвела рябина; осенью, когда завершали сбор урожая и праздновали наступление нового года, тогда же и созревала рябина; и зимой, когда готовились к новому сезону. Все эти праздники сопровождались особым колокольным звоном, который в народе назывался – “Рябиновый звон”.
Зоя Григорьевна, Ваш мастер-класс по рисованию ветки рябины подробно и доступно излагает все этапы работы. Подобран интересный материал об этом растении. Используете в своей работе разные техники, которые для деток легки в повторении.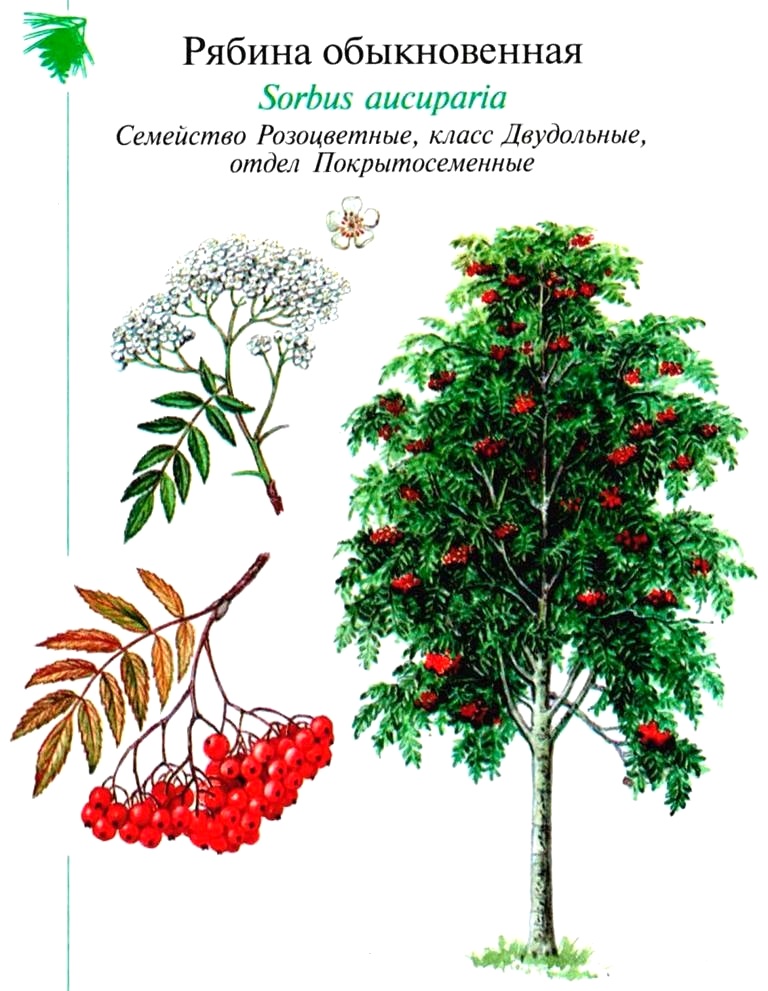
Статья предлагает вам советы и шаблоны по изображению зимних пейзажей, рисунков и персонажей.
Девушка-зима часто присутствует в детских рисунках, как добрая волшебница, которая приносит сказку в повседневную жизнь. Чаще всего девушку-зиму ассоциируют со сказочным персонажем по имени Снегурочка. Тем не менее, особых правил и требований по ее рисованию нет, главное – передать тонкость поры.
Особенности девушки-зимы:
- Холодные краски.
Они должны присутствовать во всем: основные черты девушки, ее цвет волос и глаз, ее одежда. - Теплая одежда.
Тут важно изобразить меха, длинные шубы, большие шапки, рукавицы, шарфы и другую одежду, которая ассоциируется только с зимой. - Волшебство.
Так как персонаж сказочный, то он вполне может обладать необычными способностями: пускать снег, замораживать, покрывать льдом землю, куда ступает.
Рисование поэтапно:
Рисование эскиза и придание формы силуэту
Добавьте мелких деталей рисунку
Дополните рисунок красками
Как нарисовать елку зимой карандашом и красками?
Символ зимы и новогодних праздников – зеленая елочка и она неизменно присутствует в любом рисунке с зимним пейзажем. Елка может маленькой или большой, зеленой или укрытой снегом. Чтобы елочка была на рисунке красивой, необходимо воспользоваться советами по ее рисованию.
Поэтапное рисование:
Пошаговое изображение
Простое изображение елки
Как нарисовать березу зимой карандашом и красками?
Русская зима неизменно ассоциируется с красотами русской природы, а главный символ русской природы – березка. С помощью поэтапных советов вы сможете нарисовать красивую березу на фоне зимнего пейзажа.
Пошаговое рисование березы
Готовый рисунок: береза в зимнем пейзаже
Как нарисовать дерево зимой карандашом и красками?
Кроме березы, нарисовать можно абсолютно любое дерево. Главное в изображении деревьев – пышная красивая крона с множеством веток.
Поэтапное рисование дерева
Готовый рисунок: зимнее дерево
Как нарисовать рябину зимой карандашом и красками?
Рябина в зимнее время года привлекает глаз яркими красными ягодами, массивно свисающими вниз с тонких веток. Нарисовав рябину, вы дополните любой зимний пейзаж, сделаете его контрастным, интересным и необычным. Рябина может расти в лесу или городе, возле дома или у ручья.
Молодая рябина: зимний пейзаж
Зимняя рябина: готовый рисунок
Как нарисовать ветви рябины?
Снегири на рябине: рисунок
Как нарисовать снегиря на ветке поэтапно зимой?
На ветках рябины очень часто можно встретить снегирей, питающихся ее ягодами. Эти яркие красногрудые птички являются неизменными символами зимы. Нарисовав снегиря, вы украсите любой рисунок с зимним пейзажем.
Простое поэтапное рисование снегиря
Красногрудый снегирь: рисование пошаговое
Поэтапное рисование снегиря для детей
Идеи рисунков с девушкой-зимой для срисовки: фото
Если у вас нет художественных навыков, вы всегда сможете что-то изобразить на бумаге путем срисовывания. Выбирайте подходящий шаблон, накладывайте лист бумаги и проводите простым карандашом по контуру рисунка. Готовый эскиз наведите карандашом вручную и раскрасьте.
Красивое дерево рябина растет в наших российских парках, садах, лесах. Это не очень высокое развесистое деревце принадлежит к семейству Розоцветных. У нее довольно крупные непарноперистые листья, белые цветочки, собранные в соцветия, обладающие очень ярким специфическим ароматом. Всем известны плоды, которые остаются после цветения рябины. Это красивейшие грозди, состоящие из мелких оранжевых или красных шариков с семенами. В этих плодах много полезных веществ: витаминов, микроэлементов, а также сахаров. Эти плоды рябины идут на производство лекарств, для нужд косметической промышленности, для различных витаминных добавок. Из плодов рябины можно варить варенье и отжимать сок. Созревают ягоды рябины обычно осенью, ближе к холодам. Очень часто можно увидеть яркие рябиновые грозди, припорошенные первым снегом. Рябина — великолепный декоративный элемент наших садов и парков. Хотим научить вас, как правильно нарисовать ветку рябиновых ягод с веточкой здесь поэтапно при помощи карандаша.
Этап 1. Сперва нарисуем здесь набросок ветки рябины. Проведем одну серединную линию, по бокам от нее еще две линии, расходящиеся в разные стороны. Пользуясь этим наброском, очерчиваем уже контуры самой веточки рябины. Показываем толщину веток и ответвления, идущие от основных веток по бокам.
Этап 2. Теперь на концах мелких веточек приступаем к рисованию самих ягодок рябины. Рисуем первый ряд небольших кружков, расположенные не по одной прямой, а так, чтобы одни ягодки были чуть выше, другие чуть ниже. Также еще рисуем несколько ягодок, выглядывающих из-за ягод первого ряда.
Этап 3. Ниже нарисуем еще пару рядов рябиновых «бусинок». Делаем кружки.Располагаем их довольно густо, так как они и находятся на живой рябинке.
Этап 4. Тут в нижней части каждой рябиновой ягодки делаем так называемый «крестик». Это маленькое углубление на кончике ягодки, оставшееся от цветка, который потом дал плод — вот эту самую ягоду.
Этап 5. Теперь на веточках рябинки нарисуем линии, расходящиеся в разные стороны и находящиеся примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.Это будут главные жилки будущих листьев.
Этап 6. А вот сейчас надо вокруг каждой такой жилки сделать контуры листочков. Листочки вытянутой овальной формы, с зазубренными краями. И от главной жилки не забудьте показать идущие мелкие жилки. Листочки сидят на небольших черешочках. Точно также делаем главные жилки и на другой веточке.
Этап 7. Также рисуем листочки и на второй веточке.
Этап 9. А теперь осталось просто раскрасить рисунок поярче. Гроздь ягод делаем оранжевым или красным цветом. Ветки зелеными и листья тоже, но выбирайте разные оттенки. Контуры рисунка можно обвести черным цветом. Вот такая нарядная рябинка!
Конспект интегрированной непосредственно образовательной деятельности в средней логопедической группе на тему: «Красавица — рябина»
Цель: систематизировать знания детей о деревьях и их сезонных изменениях в природе.
Задачи.
Образовательные задачи:
1) Расширить и уточнить знания детей о рябине, её красоте и пользе для человека и птиц.
2) Закрепить названия деревьев, умение различать их по строению и внешним признакам.
Развивающие задачи:
1) Развивать любознательность, интерес к природе.
2) Развивать умение рисовать пальчиками.
Воспитательные задачи:
1) Воспитывать умение видеть красоту природы.
2) Воспитывать художественный вкус, самостоятельность.
Интеграция областей: познание, здоровье, социализация, коммуникация, безопасность, чтение художественной литературы.
Материал: мультимедийное оборудование, презентация «Деревья», альбомные листы бумаги, краски.
Предварительная работа: наблюдения в природе за характерными признаками осени. Рассматривание дерева рябины и ягод рябины, чтение стихов о рябине, загадывание загадок, рассматривание иллюстративного материала; дидактические игры: «Листья и плоды», «Детки к ветке» и др.
Образовательные технологии:
1) здоровьесберегающая: физкультминутка;
2) игровая: дидактическая игра «С какой ветки детки?»
3) технология решения проблемных ситуаций: как рисовать без кисточек?
4) информационно-коммуникативная: презентация «Деревья»;
5) технология триз: почему дерево относится к живой природе?
Ход проведения:
Ребята, отгадайте загадку:
«Ягодки на ветках
Как солнышки горят.
Птичкам-невеличкам
Съесть себя велят.»
Правильно, эта загадка про рябину. Сегодня мы познакомимся поближе с этим удивительным и необычайно красивым деревом. Вот оно. (Показ.)
Слайд №1
Можете объяснить, за что считают рябину красавицей? Что, по-вашему, красиво в этом дереве?
(Ответы детей.)
Со всеми рябина дружит, всех накормить старается, а если заболеет кто, так и подлечит. И хотя плоды рябины на вкус горьки, а все равно хороши.
О рябине сложено множество песен и стихов. Вот послушайте одно из них — «Рябина» Е. Алекимовой:
«Тонкая рябина под окном стоит.
В ягодах рубинах солнышко горит
Ветви, словно руки, бледны и желты.
— Отчего, подруга, загрустила ты?
— Оттого, что осень к нам прокралась в сад,
Листьями заносит тропки листопад».
Рябина стройное, изящное, нарядное дерево. Рябиновые листья — сложные, ажурные, осенью расцвечиваются разными красками. Да и само дерево стоит нарядное — на ветках висят грозди красных ягод. Рябина кормит прилетевших зимующих птиц: снегирей и свиристелей. Одни съедают сочную мякоть, другие выбирают питательные семена. Так что, к середине зимы ягод уже не остаётся.
На что похожи ягоды рябины? Послушайте загадку про ягоды рябинки: висят на ветке подружки, прижавшись тесно, друг к дружке.
А теперь давайте немножко отдохнем:
Физкультминутка:
Выросли деревья в поле.
Хорошо расти на воле! (Потягивания — руки в стороны.)
Каждое старается,
К небу, к солнцу тянется. (Потягивания — руки вверх.)
Вот подул весёлый ветер,
Закачались тут же ветки, (Дети машут руками.)
Даже толстые стволы
Наклонились до земли. (Наклоны вперёд.)
Вправо-влево, взад-вперёд —
Так деревья ветер гнёт. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.)
Он их вертит, он их крутит.
Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем.)
Давайте поиграем в игру: «С какой ветки детки?»
Я показываю «детку», а дети называют дерево. Если дети называют правильно, то открывается слайд с изображением этого дерева.
Слайды №2 — №6
Молодцы, вы справились с этим заданием и правильно определили “родителей” у всех “деток”.
Скажите, пожалуйста, деревья относятся к живой или неживой природе?
Дети: к живой природе.
Почему?
Дети: дерево питается, дышит, растет на протяжении всей жизни.
А как вы думаете, как появляются новые, молодые деревья? (Рассуждения детей.)
Много деревьев растёт в наших парках и лесах, но не все так полезны как рябина. Из ягод рябины готовят варенья, компоты, начинки для кондитерских изделий, а из цветов — чай. Из рябиновой древесины делают мебель, музыкальные духовые инструменты. С давних времен заметили люди целебную силу рябины и стали использовать ее для лечения болезней.
Ребята, у вас на столах листочки, на которых нарисована веточка рябины, я предлагаю вам нарисовать на ней ягодки. Но посмотрите внимательно, на столах нет кисточек, чем — же мы будем рисовать? Кто догадался?
Дети: Мы будем рисовать пальчиками. (Дети рисуют).
Кто закончил рисовать, вытрите пальчики салфеткой. Посмотрите, к вам на ваши веточки прилетели птички, чтобы поклевать ягодки. Приклейте птичку на свою веточку. (Дети приклеивают.)
(Предлагаю принести работы на общий стол.)
Какие красивые ягодки получились у вас. Молодцы! Сейчас я угощу вас протёртой рябиной с сахаром (даю попробовать по ложечке рябины детям). Понравилось угощение? С каким красивым деревом мы с вами сегодня познакомились? Правильно, с рябиной.
«Рябинушка кудрявая
Стоит в лесу густом,
Красивая и стройная
В уборе золотом.
Рябинушка-красавица
Ты очень хороша.
Украсила
Осенняя пора».
Литература:
1) Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день. Уроки здоровья для детей 5-8 лет».
2) В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников». 3) А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду».
4) http://900igr.net/kartinki/
5) http://zelengarden.ru/
Узнаем как правильно нарисовать рябину при помощи карандаша
Рисование – процесс долгий и зачастую очень сложный. Ведь необходимо не только передать внешний вид предмета и его контуры, но и соблюсти правильные пропорции и отобразить объем. А если учесть тот факт, что красивый рисунок обязательно подразумевает наличие теней, то браться за карандаш или кисточки вообще становится немного страшно.Мало кто из нас является настоящим художником. Но при должной сноровке, а также руководствуясь пошаговыми инструкциями, любой шедевр по силам. Если вы не знаете, как нарисовать рябину, а такая необходимость присутствует, то возьмите на вооружение следующий метод. Он поможет быстро и без особых усилий отобразить на бумаге желаемое.
Как нарисовать ветку рябины: начало
Наметьте основное рабочее пространство. Именно в нем и будут прорисовываться отдельные детали грозди. Нарисуйте самую обыкновенную окружность немного неправильной формы. Она может быть слегка вытянутой в длину. Все зависит от того, какую форму будет иметь необходимая вам кисть рябины. Помимо окружности изобразите три линии. Они должны буквально торчать из окружности. Далее эти наброски превратятся в веточки и листья.
Как нарисовать рябину: ягоды
В большой окружности очерчиваем с десяток аналогичных, но уже маленьких по размеру. Это будут ягоды. Они также могут быть не совсем правильной формы, ведь природа не терпит четких линий и строгих контуров. Три линии прорисовываем до веточек. Основная должная быть потолще. На ней крепится непосредственно вся гроздь с ягодами. Две другие можно сделать более тонкими. На них будут располагаться листья.
Как нарисовать рябину: финальные штрихи
К каждой ягодке необходимо приделать отдельную короткую веточку. Ведь плоды рябины не могут висеть в воздухе без опоры. Ягоды собираются в единую кисть, которая крепится к основанию – более толстой ветке. Листья будут располагаться по бокам.Они имеют овальную форму и небольшой размер. Гроздья рябины нарисовать не так уж и сложно. Главное – все делать аккуратно и не спешить. Линии не должны быть слишком ровными. Веточки вполне могут изгибаться. Чем больше изъянов, тем даже лучше. Рисунок получится более естественным. Дорисуйте листикам зубчатые края и прожилки. Помните, что ягоды рябины имеют немного вмятые верхушки. Можно не рисовать такой нюанс на каждом плоде. Достаточно ограничиться несколькими штуками, ведь ягоды могут располагаться под разными углами обзора.
Если вы не знаете, как нарисовать рябину карандашом, то при помощи рекомендаций, данных выше, это сделать очень просто. Добавьте изображению цвет или объем. Для этого заштрихуйте более темные места, а также детали, которые будут находиться в тени. Если вы рисуете простым карандашом, то контур и наброски лучше делать при помощи модели с маркировкой «Т» или «2Т». Такой тип не позволит эскизу размазаться и испачкать лист бумаги. Штриховка, как правило, выполняется более мягким карандашом. Такие модели маркируются знаком «М», а также «2М». Это наиболее оптимальные варианты для придания объема рисунку и выполнения теней. В случае с цветными карандашами можно просто менять силу нажима на грифель.
Ветка рябины
Конспект НОД по рисованию для детей старшего дошкольного возраста
Ветка рябины
Виноградова Светлана Константиновна,
воспитатель
Структура НОД
Цель: Выполнение ветки рябины в технике гуашь.
Корректирование умений и навыков в работе с гуашью.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить детей рисовать ветку рябины, выделять её особенности: гроздья ягод и сложное строение листьев.
2. Активизировать познавательный интерес к природе.
3. Формировать умение самостоятельно находить решение художественных задач.
Развивающие:
1. Развивать зрительно-моторную координацию.
2. Узнавать и называть дерево рябину, рассказывать о её ягодах и листьях.
3. Развивать умение оценивать свою деятельность и работу товарища.
4. Развивать умения, связанные с передачей формы, размером.
5. Познакомить детей с приемом рисования прорисовывание «тычком» и «примакивание» .
Воспитательные:
1. Воспитывать умение видеть красоту родной природы.
2. Продолжать прививать интерес к рисованию.
Интеграция
Форма работы: фронтальная
Метод: репродуктивно-творческий
К концу НОД необходимо сформировать представление:
1. Об особенностях изображения ветки рябины приемом «примакивания» и «тычком»
2.О работе в технике гуашь.
Уметь:
1.Выполнять фон для рисунка.
2.Соблюдать последовательность выполнения рисунка.
Оборудование НОД для воспитателя:
Художественная литература : Е. Благинина «Рябина»
Лист бумаги круглой формы, гуашь, кисти, ватный тампон, вода.
Оборудование НОД для детей:
1. Листы бумаги круглой формы .
2. Дополнительный лист бумаги.
3. Гуашь, кисти с узким концом, ватный тампон.
4. Вода, салфетки.
5. Иллюстрация «Ветка рябины».
Ход НОД
1. Организационный момент.
Беседа воспитателя с детьми об осени.
— Наступила поздняя осень. Часто идут дожди. На улице стало холодно, ночью случаются заморозки. Последние перелётные птицы покинули наши края. Ветер сдувает с деревьев жёлтые и красные листья, практически все они опали. Лес же не радует нас своим разноцветным нарядом. Но не всё так печально, как кажется. Если вглядеться внимательно, то можно увидеть красные ягоды на некоторых деревьях.
Загадка: «Осень в сад к нам пришла, красный факел зажгла.
Свиристели здесь снуют и, свистя, его клюют».
— О каких ягодах я загадала вам, ребята загадку?
— Да это ягоды рябины. Осенью ягоды рябины украшают собой лес. После заморозков они становятся вкусными и поэтому их очень любят клевать птицы.
2. Основная часть: Сообщение темы занятия.
Сегодня мы будем рисовать веточку рябины осенью. Давайте рассмотрим иллюстрацию «Ветка рябины ».
— Что можно сказать про ягоды рябины?
Ягоды у рябины красного цвета, одинакового размера, круглой формы, собраны в гроздь. По своей форме гроздь напоминают овал, внутри которого ягоды-кружочки.
— Что можно сказать про листья рябины?
Листья у рябины сложные, на одном черешке несколько маленьких листочков расположены парами, а один на конце пары не имеет. Листья рябины разных оттенков, цвет переходит из одного в другой: коричневый, жёлтый, красный.
Выполнение работы:
Рисование фона работы.
Рисование листьев рябины, ягод рябины .
Чтобы нарисовать листья, используем способ «примакивания». Нужно взять широкую кисть с узким концом. Набрать немного коричневой краски и нарисовать черешок. Затем набираем зелёной краски на всю кисть, лишнюю убираем о край баночки и осторожно прикладываем кисть к листу бумаги и убираем. Прикладываем кисть с каждой стороны черешка. Промываем кисть в воде, набираем красной краски, добавляем её по маленьким листочкам. Если промыть кисть ещё раз, то можно добавить жёлтой краски.
— Ягоды удобно рисовать методом тычка. Для этого можно взять палочку с кусочком поролона на конце. Густую краску наливаем в плоскую ванночку. Обмакиваем поролон в красную краску и прикладываем к бумаге. Получаются красивые красные, круглые, одного размера ягоды. Все вместе они образуют гроздь.
Заключение:
Итоги НОД:
— Итак, давайте посмотрим на наши рисунки.
— Что мы сегодня рисовали?
— Понравилось вам, ребята, рисовать веточку рябины?
— Выскажите своё мнение об этой работе.
— Вы, ребята, молодцы! Хорошо справились с работой! Кажется, сама осень побывала у нас в гостях и оставила нам свои подарки – веточки рябины.
— Мы украсим группу вашими веточками рябины.
— Мне кажется, что лучше всех в этот раз рисунок получился у Олега и Глеба, но старались все, молодцы.
— А теперь давайте каждый уберет свое рабочее место и дежурные протрут столы.
— Спасибо вам всем ребята.
Литература:
1. Штопова Т.В., Е.П. Кочеткова Е.П. Цвет природы. Москва, 2005г.
2. Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность. ООО ИД Цветной мир, 2012.
3. Лыкова И.А. Учимся рисовать. Ярославль. Академия развития, 2007г.
4. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.
Просвещение, 1998г.
5.Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности.
Детство-пресс, 2001г.
6.Казакова Т.Г. Я учусь рисовать. Просвещение, 1996г.
Веточка рябины раскраска. Урок рисования рябины в старшей группе поэтапно с фото
Как нарисовать рябину – запрос популярный – 110 человек в месяц задают этот вопрос Яндексу.
При этом людей интересует: как рисовать рябину, как нарисовать рябину поэтапно, как нарисовать рябину карандашом, как нарисовать ветку рябины, рисунок рябина… и ещё много чего.
Поэтому постараюсь написать поподробнее.
Тем более, что скоро будем проходить темы , и будем склеивать. Так по-честному надо хорошенько изучить рябину, не полагаться на «по-воображению».
Рисую так: кладу ветку перед собой и стараюсь передать сходство. То есть цель — нарисовать с натуры похоже. Передавать настроение или внести некий подтекст… это потом, когда композиции рисовать будем. А сейчас чисто учебная работа – правильно вписать в формат, соблюсти пропорции и форму, передать цвет. И это очень серьёзная работа.
Как нарисовать рябину поэтапно
Начинаю с разметки карандашом. Обозначаю направление веточек, величину листьев и размер грозди. Это быстрый, но самый ответственный этап. Дальше уже детали.
Рисую лист (непарно-перистый) и ягоды – собраны в щиток. Очень-очень в детали вдаваться не надо. Это я к тому, что по опыту знаю: дети, рисуя рябину, стараются изобразить пильчатый край листочков позубчатее, вообще как пилу, жилки все прорисовывают… И вот, гонясь за этими деталями сто раз успевают и пропорции нарушить и всё вообще. Учитесь видеть всю натуру, детали хороши только к месту, а не сами по себе.
Теперь — цвет. Я буду красить фломастерами. Недавно купила очередной набор и протестирую.
Набор китайский, за то и ценю — цвета вообще какие попало! В нём аж три разных оттенка серо-зелёного!!! Не только режущие глаз спектральные цвета, а какие-то переходные, даже болотисто-жухлый есть.
Вобщем, раскрашиваю сначала листья(пришлось разбелить белой гелевой ручкой).
Теперь пора взяться за ягоды:
Ну тут в несколько слоёв – от бледно-оранжевого, далее- красный и наконец, бордово-коричневые тени.
БЛИКИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! А для этого – на натуру смотрите, а не в свою голову. А то у нас частенько создаётся впечатление, что мы уже сто раз поняли, как там этот листик или веточка выглядит. И мы знай разукрашиваем не обращая внимания на то…на что? – что натуру мы забыли и придумываем уже что попало. Знакомо?
Но мы не таковские! Рисуем с натуры внимательно! Всё подмечаем. Если у ягодки на носике звёздочка — рисуем, если не видно, значит- не видно. Если ягодки заслоняют одна другую, значит как есть – рисуем с заслонением. Всё по правде.
Татьяна Титова
Интеграция образовательных областей:
художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.
Цель:
развивать у детей изобразительные умения и навыки, используя нетрадиционные приемы рисования – технику печати.
Задачи:
Расширять и уточнять знания детей рябине;
Учить узнавать рябину по внешнему виду;
Учить изображать листья и ягоды рябины нетрадиционным способом, используя разные техники рисования: рисовать листья способом «примакивания» и штампами, ягоды — ватными палочками и штампами;
Развивать любознательность, интерес к природе;
Развивать умение замечать красоту природы;
Развивать связную речь, мелкую моторику.
Предварительная работа:
рассматривание рябины на прогулке; рассматривание иллюстраций на тему «Деревья и плоды»; раскрашивание готовых контурных изображений «Ветки разных деревьев».
Демонстрационный материал:
натуральная ветка рябины с ягодами, картинки с изображением веточек рябины, образцы рисунков, гуашевые краски коричневого, зеленого, желтого, красного, оранжевого цвета, кисти, штампы, ватные палочки, вода в стаканчиках.
1. Организационный момент.
Загадка про рябину.
Что за дерево такое
Украшает лес зимою?
Грозди красные на ветках –
Ну-ка угадайте детки:
Не ольха и не осина,
А красавица (рябина).
Сообщение на тему «Рябина».
Рябина — одно из наиболее любимых и почитаемых деревьев в России. Рябина считается символом русской красоты. Особенно нарядная рябина становится осенью благодаря ярко-красным плодам. В народе говорят, что рябина считается украшением нашей природы. Рябине посвящен осенний народный праздник – «Рябинник», который отмечают 23 сентября. Рябина – высокое дерево от 4 до 10 метров. Живет рябина долго — от 100 до 200 лет. В плодах рябины содержится много витаминов. Из ягод варят варенье, сироп, отжимают сок; плоды рябины используют для изготовления лекарств, витаминных добавок. Из рябиновой древесины делают мебель, музыкальные духовые инструменты. Зимой ягодки рябины могут накормить голодных птичек: синиц, дроздов, снегирей. В лесу поедают плоды не только птицы, но и звери: белки, кабаны, куницы. О рябине сложено немало песен. Народ любит рябину с давних пор. Рябина считалась символом счастья и мира в семье, поэтому возле дома всегда старались посадить рябиновое деревце.
Дидактическое упражнение «Скажи ласково про рябину»:
рябинушка, рябинка, рябиночка.
Дидактическое пражнение «Что бывает рябиновое» (-ая, -ый, -ые):
украшение, ожерелье, колечко, платье, ягодка, листва, лист, браслет, наряд, венок, бусы, сережки.
Дидактическое упражнение «Что дает рябина?»:
витамины, варенье, джем, желе, сок, мед.
Народные приметы, связанные с рябиной:
Поздний расцвет рябины — к долгой осени.
В лесу много ягод рябины — осень будет дождливой, если мало — сухо.
2. Рассматривание ветки рябины:
строение, оттенки цвета, форма листьев и плодов.
3. Показ способов рисования.
Первый способ рисования
(листья — «примакиванием», ягоды — способом «тычка» ватными палочками).
Рисуем коричневой краской ветку рябины с маленькими веточками.
Изображаем листья толстой кистью способом «примакивания» с использованием оттенков желтого, зеленого, оранжевого цвета.
Ягодки рябины рисуем способом тычка ватными палочками.
Второй способ рисования.
Изображение ветки рябины в нетрадиционной технике с использованием штампов. После того как листочки и ягодки высохнут, рисуем на листьях прожилки фломастером, а на ягодках – черные точки.
Образец 1.
Образец 2.
Образец 3.
Образец 4.
4. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья»
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем листья собирать.
Листья берёзы, листья рябины,
Листья тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберём.
(загибать пальцы, начиная с большого пальца)
5. Художественно-творческая деятельность детей.
Что за чудная картина?
Это веточка рябины!
Итог.
Символом нашей группы является дерево рябина.
Поэтому мы не могли обойти вниманием это красивое дерево, особенно нарядное в осеннюю пору. Дети нашей группы освоили разные техники изображения рябины, в том числе и нетрадиционным способом.
На прогулке организовали с детьми подвижную игру «Рябина и птицы».
Благодарю за внимание! Желаю творческих успехов!
Публикации по теме:
Конспект НОД по рисованию в нетрадиционной технике коктейльными трубочками во второй младшей группе «Чудные цветочки» Мищенко. Ю. В. Тема:.
Конспект НОД по изодеятельности (нетрадиционные техники рисования) «Проснулись медвежата» Интеграция образовательных областей: «Познание»,.
Конспект НОД по рисованию в нетрадиционной технике «Петушок»
Конспект НОД по образовательной области. «Художественно-эстетическое развитие» (нетрадиционная техника рисования). Воспитатель: Андреева.
Конспект НОД по рисованию в нетрадиционной технике «Весенний луг» Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования: на полиэтиленовом.
Вконтакте
Одноклассники
Скачать и распечатать раскраски Ягода Рябина
Раскраска Рябина
покажет малышам и детям постарше, каким великолепным может быть это дерево. На сайте можно бесплатно скачать или распечатать раскраски Рябины для детей всех возрастов.
Разве можно не любоваться этой красавицей? Особенно хороша рябина осенью — резные золотисто-красные листья, ожерелье из алых ягод, многообразие цветов и оттенков становятся украшением городских парков и диких лесов.
В июне на рябине появляются душистые цветы, которые привлекают к себе насекомых, пчел и ос. К осени поспевают багряные ягоды. Интересно, что с точки зрения ботаники, плоды рябины — это маленькие яблоки.
Лесные жители не прочь полакомиться гроздьями ягод. Лоси с удовольствием поедают и ягоды, и молодые веточки растения. А вот медведи, белки, ежи, мыши питаются только плодами рябины.
До первых морозов ягоды рябины имеют горьковатый вкус, который почти исчезает после первых холодов. Зимой плодами рябины питаются птицы – в это нелегкое время ягоды становятся самым доступным для них кормом.
Готовят из рябины соусы, варенье, кисели, мармелад, настойки. Рябина обладает целебными свойствами, но в медицине не используется.
В древние времена люди наделяли дерево магической силой, которая отгоняла злых духов, защищала от колдовства. Сначала гроздья рябины пришивали к одежде, а позже стали вышивать ее изображение. Скачайте или распечатайте для своих детей раскраски Рябины, которые мы подготовили для вас совершенно бесплатно.
Красивое дерево рябина растет в наших российских парках, садах, лесах. Это не очень высокое развесистое деревце принадлежит к семейству Розоцветных. У нее довольно крупные непарноперистые листья, белые цветочки, собранные в соцветия, обладающие очень ярким специфическим ароматом. Всем известны плоды, которые остаются после цветения рябины. Это красивейшие грозди, состоящие из мелких оранжевых или красных шариков с семенами. В этих плодах много полезных веществ: витаминов, микроэлементов, а также сахаров. Эти плоды рябины идут на производство лекарств, для нужд косметической промышленности, для различных витаминных добавок. Из плодов рябины можно варить варенье и отжимать сок. Созревают ягоды рябины обычно осенью, ближе к холодам. Очень часто можно увидеть яркие рябиновые грозди, припорошенные первым снегом. Рябина — великолепный декоративный элемент наших садов и парков. Хотим научить вас, как правильно нарисовать ветку рябиновых ягод с веточкой здесь поэтапно при помощи карандаша.
Этап 1. Сперва нарисуем здесь набросок ветки рябины. Проведем одну серединную линию, по бокам от нее еще две линии, расходящиеся в разные стороны. Пользуясь этим наброском, очерчиваем уже контуры самой веточки рябины. Показываем толщину веток и ответвления, идущие от основных веток по бокам.
Этап 2. Теперь на концах мелких веточек приступаем к рисованию самих ягодок рябины. Рисуем первый ряд небольших кружков, расположенные не по одной прямой, а так, чтобы одни ягодки были чуть выше, другие чуть ниже. Также еще рисуем несколько ягодок, выглядывающих из-за ягод первого ряда.
Этап 3. Ниже нарисуем еще пару рядов рябиновых «бусинок». Делаем кружки.Располагаем их довольно густо, так как они и находятся на живой рябинке.
Этап 4. Тут в нижней части каждой рябиновой ягодки делаем так называемый «крестик». Это маленькое углубление на кончике ягодки, оставшееся от цветка, который потом дал плод — вот эту самую ягоду.
Этап 5. Теперь на веточках рябинки нарисуем линии, расходящиеся в разные стороны и находящиеся примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.Это будут главные жилки будущих листьев.
Этап 6. А вот сейчас надо вокруг каждой такой жилки сделать контуры листочков. Листочки вытянутой овальной формы, с зазубренными краями. И от главной жилки не забудьте показать идущие мелкие жилки. Листочки сидят на небольших черешочках. Точно также делаем главные жилки и на другой веточке.
Этап 7. Также рисуем листочки и на второй веточке.
Этап 9. А теперь осталось просто раскрасить рисунок поярче. Гроздь ягод делаем оранжевым или красным цветом. Ветки зелеными и листья тоже, но выбирайте разные оттенки. Контуры рисунка можно обвести черным цветом. Вот такая нарядная рябинка!
Сочинение про рябину | Свободный обмен школьными сочинениями 5-11 класс
Осенняя красавица в ярком наряде.
Летом рябина незаметна. Она сливается с другими деревьями. Зато осенью, когда деревья одеваются в жёлтые наряды, её можно заметить издалека. Яркие красные ягоды привлекают внимание людей и птиц. Люди любуются деревом. Птицы лакомятся его дарами.
Даже зимой, когда повсюду белеет снег, рябина радует своими сочными кистями. Её изображения можно встретить на многих новогодних открытках. Художники любят рябину, потому что она делает зиму веселее и красочней. Любят дерево и поэты. Её сочные ягоды они часто сравнивают с бусами.
Рябина не только красивое дерево. Бабушки и мамы собирают её ягоды после того, как ударят морозы. Говорят, что в это время они очень полезны. Они дают людям витамины и лекарства.
Я спросил у бабушки, почему она ест ягоды рябины. Она сказала, что они заменяют ей сердечные капли. Тогда я подумал, что сердце человека – это мотор, а ягоды рябины – масло для него, не дающее мотору заржаветь.
Я не ем ягоды рябины, потому что у меня здоровое сердце. Но я люблю любоваться деревом. Однажды меня угостили вареньем из рябины. Было очень вкусно. Если я стану художником, я обязательно нарисую пейзаж с рябинами. Он будет приносить людям радость и хорошее настроение.
Для меня рябина является символом моей Родины. Это дерево, которое круглый год украшает природу и всегда полезно. Весной оно пышно цветёт, летом дарит прохладу, зимой и осенью делает мир ярче. Но всё-таки больше всего мне нравится рябина осенью.
Посмотрите эти сочинения
- Сочинение на тему «О чем шептались осенние листья» Было туманное осеннее утро. Я шел по лесу, погруженный в раздумья. Я шел медленно, не спеша, а ветер развевал мой шарф и свисающие с высоких ветвей листья. Они колыхались на ветру и будто бы о чем-то мирно говорили. О чем шептались эти листья?
Быть может, они шептались об ушедшем лете и жарких лучах солнца, без которых теперь они стали такими желтыми и сухими. Быть может, они пытались позвать прохладные ручьи, которые смогли бы напоить их и вернуть к жизни. Быть может, они шептались обо мне. Но только шепот […] - Сочинение про Байкал (на русском языке) Озеро Байкал известно на весь мир. Известно оно тем, что является самым большим и глубоким озером. Вода в озере пригодна для питья, поэтому оно очень ценно. Вода в Байкале не только питьевая, но еще и лечебная. Она насыщена минералами и кислородом, поэтому ее употребление положительно влияет на здоровье человека.
Байкал находится в глубокой впадине и со всех сторон окружен горными хребтами. Местность возле озера очень красивая и имеет богатую флору и фауну. Еще, в озере проживает много видов рыб – почти 50 […] - Сочинение на тему «Моя родина — Беларусь» Я живу в зеленой и красивой стране. Она называется Беларусь. Ее необычное имя говорит о чистоте этих мест и о необычных пейзажах. От них веет спокойствием, простором и добротой. И от этого хочется что-то делать, наслаждаться жизнью и любоваться природой.
В моей стране очень много рек и озер. Они нежно плещутся летом. Весной раздается их звонкое журчание. Зимой зеркальная гладь манит к себе любителей катания на коньках. Осенью по воде скользят желтые листья. Они говорят о скором похолодании и предстоящей спячке. […] - Сочинение на тему «Дагестан — мой край родной» Я горжусь тем, что родился в Дагестане. Мой край расположился на самом юге России и занимает огромную площадь. Столица моей родины — замечательный город Махачкала. Вся республика — это невероятно красивая местность, изысканная культура и добрый, отзывчивый народ.
В Дагестане издавна мирно живут более сотни народов. Именно из-за этого разнообразия наши люди говорят на множестве разных языков: татском, чеченском, арийском, лезгинском, русском, аварском, кумыкском и других. Радио, телевидение и СМИ так же освещают […] - Почему я выбрала профессию повара? (сочинение) Есть множество замечательных профессий, и каждая из них, несомненно, является необходимой нашему миру. Кто-то строит здания, кто-то добывает полезные стране ресурсы, кто-то помогает людям стильно одеваться. Любая профессия, как и любой человек — совершенно разные, однако все они непременно должны кушать. Именно поэтому появилась такая профессия, как повар.
С первого взгляда может показаться, что кухня — область несложная. Что трудного в том, чтобы приготовить поесть? Но на самом деле искусство готовки — одно их […] - Сочинение на тему «Я горжусь своей Родиной» С самого детства родители говорили мне, что наша страна — самая большая и сильная в мире. В школе на уроках мы с учителем читаем много стихотворений, посвященных России. И я считаю, что каждый россиянин должен, обязан гордиться своей Родиной.
Гордость вызывают наши бабушки и дедушки. Они воевали с фашистами для того, чтобы мы сегодня смогли жить в тихом и спокойном мире, чтобы нас, их детей и внуков, не затронула стрела войны.
Моя Родина не проиграла ни одной войны, а если дела были плохи — Россия все равно […] - Сочинение на тему «Интересная встреча с ветераном войны» Давным-давно окончилась Великая Отечественная война. Она была безжалостной и самой кровавой войной двадцатого столетия. Но и сейчас среди нас живут те, кто помнит ту войну, это ветераны. Их осталось совсем мало. В то время, когда они были юными, чуть-чуть старше нас, они защищали Родину от жестокого врага в Советской армии.
Мне интересны рассказы ветерана Леонида Ивановича Куликова о воинской службе и о Великой Отечественной войне. Теперь Леонид Иванович полковник в отставке, у него весь китель в наградах: […] - Сочинение на тему «Что такое мир?» Что такое мир? Жить в мире — это самое важное, что может быть на Земле. Ни одна война не сделает людей счастливыми, и даже увеличивая собственные территории, ценой войны, они не становятся богаче морально. Ведь ни одна война не обходится без смертей. И те семьи, где теряет своих сыновей, мужей и отцов, пусть даже зная, что они герои, все равно никогда не насладятся победой, получив потерю близкого. Только миром можно достичь счастья. Только мирными переговорами должны общаться правители разных стран с народом и […]
- Сочинение-рассуждение на тему: «Ученье свет, а неученье – тьма» С детства мы ходим в школу и изучаем разные предметы. Некоторые считают, что это ненужное дело и только забирает свободное время, которое можно потратить на компьютерные игры и что-то еще. Я думаю по-другому.
Есть такая русская пословица: «Ученье свет, а неученье – тьма». Это значит, что для тех, кто узнает много нового и стремится к этому, впереди открывается светлая дорога в будущее. А те, кто ленится и не учится в школе, останутся всю свою жизнь во тьме глупости и невежества. Люди, которые стремятся к […] - Сочинение «Про бабушку» Мою бабушку зовут Ирина Александровна. Она живет в Крыму, в поселке Кореиз. Каждое лето мы с родителями ездим к ней в гости. Мне очень нравится жить у бабушки, ходить по узким улицам и зеленым аллеям Мисхора и Кореиза, загорать на пляже и купаться в Черном море.
Сейчас моя бабушка на пенсии, а раньше она работала медсестрой в санатории для детей. Иногда она брала меня к себе на работу. Когда бабушка надевала белый халат, то становилась строгой и чуточку чужой. Я помогала ей измерять детям температуру — разносить […] - Сочинение на тему «Имя существительное» Наша речь состоит из множества слов, благодаря которым можно передать любую мысль. Для удобства использования все слова поделены на группы (части речи). Каждая из них имеет свое название.
Имя существительное. Это очень важная часть речи. Оно обозначает: предмет, явление, вещество, свойство, действие и процесс, имя и название. Например, дождь – это явление природы, ручка – предмет, бег – действие, Наталья – женское имя, сахар – вещество, а температура – это свойство. Можно привести много других примеров. Названия […] - Сочинение-рассуждение на тему «Зачем нам нужен речевой этикет?» Вся наша жизнь регулируется определенными сводами правил, отсутствие которых может спровоцировать анархию. Только представьте, если отменят правила дорожного движения, конституцию и уголовный кодекс, правила поведения в общественных местах, начнется хаос. То же касается и речевого этикета.
На сегодня многие не придают большого значения культуре речи, к примеру, в социальных сетях все больше можно встретить неграмотно пишущих молодых людей, на улице – неграмотно и грубо общающихся. Я считаю, что это проблема, […] - Сочинение на тему «Зачем человеку нужен язык?» С давних пор язык помогал людям понимать друг друга. Человек неоднократно задумывался над тем, зачем он нужен, кто его придумал и когда? И почему он отличается от языка животных и других народов. В отличие от сигнального крика животных, с помощью языка человек может передать целую гамму эмоций, свое настроение, информацию.
В зависимости от национальности, у каждого человека свой язык. Мы живем в России, поэтому наш родной язык – русский. На русском говорят наши родители, друзья, а также великие писатели – […] - Сочинение по пословице «Язык мой – друг мой» Язык… Сколько значения несет в себе одно слово из пяти букв. С помощью языка человек с раннего детства получает возможность познавать мир, передавать эмоции, сообщать о своих потребностях, общаться.
Возник язык в далеком доисторическом периоде, когда появилась потребность у наших предков, во время совместного труда, передать свои мысли, чувства, желания своим сородичам.
С его помощью мы теперь можем изучать любые предметы, явления, окружающий мир, а со временем усовершенствовать свои знания. У нас появилась […] - Сочинение на тему «ВОВ 1941-1945» Был прекрасный день — 22 июня 1941 года. Люди занимались своими обычными делами, когда прозвучала страшная весть — началась война. В этот день фашистская Германия, которая завоевывала до этого момента Европу, напала и на Россию. Никто не сомневался в том, что наша Родина сможет победить врага. Благодаря патриотизму и героизму наш народ и смог пережить это страшное время.
В период с 41 по 45 годы прошлого века страна потеряла миллионы человек. Они пали жертвами безжалостных сражений за территорию и власть. Ни […] - Сочинение про интернет на русском языке Сегодня, интернет есть почти в каждом доме. В интернете можно найти много очень полезной информации для учебы или для чего-нибудь другого. Многие люди смотрят в интернете фильмы и играют в игры. Также, в интернете можно найти работу или даже новых друзей. Интернет помогает не терять связь с родственниками и друзьями, которые живут далеко. Благодаря интернету с ними можно связаться в любую минуту. Мама очень часто готовит вкусные блюда, которые нашла в интернете. Еще, интернет поможет и тем, кто любит читать, но […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба?» Дружба – это взаимное, яркое чувство, ни в чем не уступающее любви. Дружить не только нужно, дружить просто необходимо. Ведь ни один человек в мире не может прожить всю жизнь в одиночестве, человеку, как для личностного роста, так и для духовного просто необходимо общение. Без дружбы мы начинаем замыкаться в себе, страдаем от непонимания и недосказанности.
Для меня близкий друг приравнивается к брату, сестре. Таким отношениям не страшны никакие проблемы, жизненные тяготы. Каждый по-своему понимает понятие […] - Сочинение-рассуждение на тему «Моя Россия» Родная и самая лучшая в мире, моя Россия. Этим летом я с родителями и сестрой ездил отдыхать на море в город Сочи. Там, где мы жили, было ещё несколько семей. Молодая пара (они недавно поженились) приехали из Татарстана, рассказывали, что познакомились, когда работали на строительстве спортивных объектов к Универсиаде. В соседней с нами комнате жила семья с четырьмя маленькими детками из Кузбасса, папа у них шахтёр, добывает уголь (он называл его «чёрное золото»). Ещё одна семья приехала из Воронежской области, […]
- Поэзия 60-х годов 20 века (сочинение) Поэтический бум шестидесятых годов 20 века
Шестидесятые годы 20 века — это время подъема российской поэзии. Наконец наступила оттепель, были сняты многие запреты и авторы смогли открыто, не боясь репрессий и изгнаний, выражать свое мнение. Сборники стихов стали выходить настолько часто, что, пожалуй, такого «издательского бума» в области поэзии не было никогда ни до, ни после. «Визитные карточки» этого времени — Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Н.Рубцов, и, конечно же, бард-бунтарь […] - Сочинение-рассуждение на тему «Мой дом – моя крепость» Мой дом – моя крепость. Это правда! Он не имеет толстых стен и башен. Но в нем живет моя маленькая и дружная семья. Мой дом – это простая квартира с окнами. От того, что моя мама всегда шутит, а папа ей подыгрывает, стены нашей квартиры всегда наполняются светом и теплом.
У меня есть старшая сестра. Мы не всегда с ней ладим, но я все равно скучаю по смеху сестры. После школы мне хочется бежать домой по ступенькам подъезда. Я знаю, что открою дверь и почувствую запах мамы и папиного крема для туфель. Перешагну […]
Как сделать вино из рябины | Wine
Я никогда не понимал, что такое наблюдение за птицами — птицы скучные существа и постоянно перемещаются. Хотя вкус приятный. Птицы, несомненно, испытывают то же самое относительно привлекательности для грибников. Однажды во время набега Британского микологического общества на мыс Гибралтара нашу группу спросила недоверчивая стая орнитологов: «Что, черт возьми, вы делаете?» они потребовали. Они ходили с поднятыми глазами к небу, мы с нашими глазами к земле.Возможно, моя незаинтересованность в орнитологии объяснит пробел в моем понимании.
Я собираю ягоды каждый год, но редко вижу птиц, поедающих их, и почти никогда не нахожу дерево, которое бы им понравилось — исключение составляют ягоды бузины и вишни. Некоторые из наших деревьев до Рождества обременены ягодами. Одно дерево, несмотря на свою репутацию хорошего источника пищи для наших птичьих друзей, кажется, приносит свои плоды нетронутыми почти полгода. Это рябина или рябина.
Сезон плодоношения в этом году наступил рано, и ягоды рябины растут как минимум пару недель. Рябину легко распознать, несмотря на то, что брызги красных ягод появляются на некоторых других небольших деревьях, таких как белая луга и калина. Листья перистые, то есть состоят из противоположных пар листочков. Дерево растет практически повсюду, от пригородной улицы до склона горы Шотландии, поэтому у вас не будет проблем с его поиском.
Рябина и несколько листьев рябины.Фотография: Джон Райт
Сырые ягоды слегка ядовиты, и небольшой кусочек доказывает, что они ужасны на вкус (возможно, поэтому птицы их избегают). Резкость не так уж и плоха, это горькое послевкусие и высокая плотность зерен портят этот соблазнительно выглядящий фрукт. Ягоды рябины, конечно, мало пригодились на кухне, а рябиновое желе — ее главная защита от забвения.
А вот вино ягодное рябиновое. Самое раннее упоминание об алкогольном напитке с использованием ягод, которые я могу найти, относится к концу восемнадцатого века: «Более бедные люди в Уэльсе делают напиток под названием диодгриафель, настаивая ягоды в воде», — говорится в нем.Та же самая история появляется снова и снова в более поздних работах — возможно, это плод воображения первоначального писателя, насколько я знаю, но мне было бы интересно услышать, слышал ли кто-нибудь еще о диодгриафеле. В любом случае, следующий простой рецепт (варится в моем сарае, пока я пишу) от моей подруги Эрин и, вероятно, будет более вкусным:
2 кг рябины, отрезанные ножницами, собранные и промытые
1,2 кг сахара
500 мл концентрата белого виноградного сока
Сок 2 лимонов
1 чайная ложка винного танина
1 чайная ложка пектолазы
1 чайная ложка питательных веществ для дрожжей
Пакетик белых винных дрожжей
Около 4 литров кипятка
Пюре из рябины.Фотография: Джон Райт
Положите ягоды в пищевое пластиковое ведро и крупно разомните их концом скалки. Вскипятите воду, затем добавьте сахар до полного растворения, снова доведите до кипения и сразу же полейте ягоды. Накройте крышкой и дайте остыть. Добавьте виноградный концентрат, пектолазу, лимонный сок и танин. Накройте крышкой и оставьте на 24 часа, затем добавьте питательные дрожжи и дрожжи (при необходимости активируйте).
Накройте и оставьте на неделю, помешивая каждый день в течение первых пяти дней.Если ваше пиво разделилось на три слоя — осадок / жидкость / осадок — осторожно поместите конец сифона на стратегически важную высоту и слейте жидкость в чистый деми-джон — хотя немного осадка не повредит. В противном случае процедите через чистый муслин с помощью воронки. При необходимости долейте до низа шеи кипяченую охлажденную воду. Установите пробку и замок для брожения и оставьте бродить на пару месяцев.
Перелить в свежий полуфабрикат и оставить до тех пор, пока брожение не прекратится на неделю, затем разлить по бутылкам.Вино из рябины отличается длительным периодом созревания в бутылке — не менее года.
Чары рябины — Орешник
Продолжение моей серии о местных деревьях Британии…
В лучах раннего осеннего солнца рябины не могут не притягивать взгляды. Грозди ягод сверкают ярко-красным цветом на фоне перистой зеленой листвы, сильно раскачиваясь на ветру, соблазняя голодных птиц всех форм и размеров грабить их.
Рябина ( Sorbus aucuparia ) имеет много названий: «рябина», пожалуй, наиболее знакомая нам, но она также известна как «quickbeam», «sorb apple», «wicken» или «witchwood». На ирландском языке он называется « caorthann », а на гэльском « caorunn » (произносится «coroon»). Это листопадное дерево с прекрасными тонкими ветвями, покрытыми серебристо-серой корой, и характерными листьями, состоящими из девяти и пятнадцати «листочков», расположенных в противоположных парах. Листья имеют зубчатые края, что отличает их от гладких листьев ясеня.
В период с мая по июнь появляется пена из кремовых цветов со сладким ароматом, привлекающая насекомых-опылителей, таких как пчелы и жуки. Позже эти цветы заменяются алыми ягодами, неотразимыми для птиц, таких как чижики, дрозды и зяблики; даже толстый тетерев прячется в ветвях в поисках пропитания. В конце лета и осенью интересно наблюдать, как стаи луговых и краснокрылых с шумом спускаются по рябине, прежде чем быстро двинуться дальше после того, как они насытились.
Рябина определенно доставляет удовольствие: она быстро растет и относительно недолговечна, а это означает, что ее ствол редко достигает большого обхвата. В Великобритании оно растет на большей высоте, чем любое другое дерево, цепляясь за жизнь на высоте более 1000 метров (3200 футов) в Шотландском нагорье. Эти экземпляры часто корявые и низкорослые, как натуральный бонсай.
Предпочитая легкие кислые почвы, рябины часто встречаются, выдерживая ветер на голом склоне холма, их корни проникают в расщелину в скале.Они также могут расти в тени сосны обыкновенной, их семена были рассеяны птичьим пометом, сидящим на ветвях выше. Важный вид каледонского леса, рябина не создает собственных лесных массивов, но предпочитает сливаться с дубовыми, березовыми и сосновыми лесами.
рябины служат местом обитания невероятного количества диких животных. Помимо птиц и насекомых, которые питаются им, ветви являются домом для множества грибов и лишайников; фактически, недавно идентифицированный лишайник, эндемичный для Шотландии, растет в основном на рябине.Благородный олень обожает шуршать по его коре и листьям, а зайцы-зайцы тоже грызут молодые саженцы.
Как и следовало ожидать, древесина рябины твердая и прочная, и традиционно из нее делают инструменты, луки, трости, прялки, колеса тележек и балки. Друиды носили посохи из рябины, и они также использовались в качестве лозунга. Ягоды и кора служили красителем для шерсти, а на протяжении веков повара использовали ягоды рябины в различных рецептах сладких и соленых блюд, в том числе в восхитительных желе, которые можно было есть как приправу к мясу.
Рябина также принесла значительную пользу для здоровья: для очищения крови и облегчения расстройств желудка предписывалась дистилляция ее коры. Ягоды ели больные цингой, так как они содержат высокий уровень витамина С.
Рябина в фольклоре
Ни одно дерево не вызывает более мистических ассоциаций, чем рябина. Любимый друидами, он часто растет рядом с каменными кругами и древними захоронениями, где считается, что он защищает духов мертвых.Из-за своих белых цветов он считался «волшебным деревом», усиливающим психические способности и видение.
В былые времена веточки рябины носили или носили для защиты от зла; эти амулеты также помещали в хлев для скота, чтобы защитить коров (и их молоко) от чар. Если рядом с жилищем приживалась рябина, это считалось большой удачей для всех, кто там жил. В старых ирландских легендах символические события часто происходят под оживляющим деревом или рябиной.
В музее Питт-Риверс в Оксфорде находится несколько петель и крестов из рябины, подаренных археологом преподобным Каноном Джоном Кристофером Аткинсоном в конце 19 века и предположительно сделанными стариком в Стратдоне, Абердиншир. Чтобы отразить зло, эти кресты традиционно помещались над всеми проемами в доме в День Ламмаса (1 августа) человеком, которому было запрещено разговаривать с кем-либо, с кем ему приходилось встречаться; Есть еще одна легенда, в которой говорится, что их поместил туда всадник, который трижды повернул лошадь перед тем, как поставить каждую петлю.
По словам историка из музея Питт-Риверс, «. … жители Стратспея в Шотландии делали обруч из рябины в первый день мая и заставляли овец и ягнят проходить через него утром и вечером, чтобы защитить их от колдовства .
У норвежцев такое же уважение к рябине. Их бог, Тор, был спасен от быстрой реки, когда цеплялся за ветви рябины. Они считали, что это было дерево, из которого впервые была сделана женщина (первый мужчина был сделан из ясеня).Древесина этого дерева использовалась для вырезания древних рунических символов, и на самом деле считается, что слово «руна» имеет тот же корень, что и «рябина».
Сучковатая рябина в Пертшире
Если заглянуть еще дальше в прошлое, греческий миф пытается объяснить яркий цвет ягод. Геба, богиня молодости, была хранительницей волшебной чаши, содержащей амброзию, нектар богов. Чашу украли демоны, и боги послали орла забрать ее. (Я уверен, что это выглядело хорошо, но я должен сказать, что они действительно должны были получить это сами: в конце концов, они были богами.) Когда он сражался с демонами, орел был ранен, и из его ран пролилось несколько капель крови; они упали на землю и выросли, как рябины. Говорят, что листья деревьев олицетворяют орлиные перья.
Не знаю, как вы, но в следующий раз, когда я увижу рябину, я могу остановиться на несколько минут, чтобы попытаться впитать часть ее древней магии!
Источники:
Авторские права на фото © Colin & Jo Woolf
Если хотите, вы можете прочитать больше в моей серии о коренных британских деревьях:
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Джо Вульф
Я живу на берегу моря в Аргайлле, Шотландия, и пишу о ландшафте, его дикой природе и прекрасной истории. Я также писатель-резидент в Королевском шотландском географическом обществе.
Уэльс с Бристольским плющом | Rowan Tree Travel
Присоединяйтесь к нам в Уэльсе на диком и шерстяном отдыхе с Bristol Ivy! Мы не только будем вязать нестандартно, но и будем думать и жить за его пределами! Размещение будет деревенским, так как мы испытаем «Глэмпинг» — удобный и довольно роскошный вид кемпинга! Хотя некоторые действительно крутые купольные палатки доступны для более предприимчивых из вас, большинство помещений будет в минималистских домиках с фантастическими открытыми пространствами и в большом старом роскошном фермерском доме, где можно собраться, если погода изменится.Купальники рекомендуются как для плавания в Ирландском море, так и для отдыха в сауне! Помимо типичных осмотров достопримечательностей, включая замки, сады, соборы и музеи, мы исследуем более тихую часть Уэльса — с посещением ферм, производящих удивительную органическую шерсть, отдаленных часовен, приморских деревень и прогулок по диким прибрежным тропам к отдаленным пляжам. Наши обеды также будут необычными — иногда мы готовим блюда из местных продуктов на нашей ферме Fforest, иногда по пути останавливаемся в местных закусочных, в том числе в пиццатипи! Пройдите по шерстистой дикой стороне!
Когда: 16-24 мая 2022 года
Стоимость тура
$ 2500 двухъярусная комната (для 2-4 человек) ⎪ 2700 $ за двоих (двухместный) ⎪ 3300 $ за отдельную комнату (одноместная)
Включено в стоимость тура:
-
Отели в Уэльсе
-
В среднем двухразовое питание (завтрак подается каждое утро; приготовьтесь купить ужин или обед в соответствии с расписанием дня.)
-
Все входные билеты и семинары
-
Трансфер из аэропорта и частный мини-автобус
Не входит в стоимость тура:
Для регистрации:
Для участия в поездке требуется регистрационная форма и депозит в размере 500 долларов США (20% от самой низкой цены тура). После того, как вы отправите свою онлайн-регистрацию, мы предварительно предоставим вам место. Счет на депозит будет отправлен вам по электронной почте, который необходимо оплатить онлайн с помощью кредитной или дебетовой карты, которую вам нужно будет оплатить в течение 24 часов.Как только ваш депозит будет получен, ваше место в безопасности. График оплаты остатка: 2-й платеж (половина остатка) должен быть произведен за 6 месяцев до вылета; окончательный платеж за 3 месяца до отъезда.
В Rowan Tree Travel мы твердо убеждены в том, что путешествия питают душу, зажигают воображение и создают важные связи между людьми. Когда мы говорим о том, чтобы объединить мир по одной поездке за раз, мы действительно имели в виду именно это. Стремясь донести опыт путешествий до постоянно расширяющегося сообщества, мы создали стипендиальный фонд.Его цель — преодолеть экономические и логистические препятствия, с которыми сталкиваются многие представители творческого сообщества. Наш стипендиальный фонд ликвидирует разрыв между теми, кто хочет путешествовать, но не имеет средств, и теми, кто хочет и с энтузиазмом помогает другим осуществить свои мечты. Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать путешествие доступным для всех, не так ли?
serbal — Перевод на английский — примеры испанский
Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
El serbal es un árbol rústico que resiste Diferentes Plagas.
Рябина — деревенское дерево, устойчивое к различным вредителям.
Además, como la piel útil para limpiar jugo congelado serbal .
Кроме того, такую кожу полезно протирать замороженным соком рябины .
En el jarabe preparado bajen las bayas del serbal y las ciruelas limpiadas.
В готовый сироп опускают ягоды рябины и очищенные сливы.
Cómo dibujar un serbal con un lápiz
Un abedul, un serbal de los cazadores
El serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia) es un árbol de la familia de las Rosacee.Es originario de las áreas centrales de Europa, de Islandia y Rusia. Crece en bosques alpinos y prefiere terrenos unidos.
рябина (Sorbus aucuparia) принадлежит к семейству розоцветных. Он произрастает в центральных и северных районах Европы и от Исландии до России.
Conservado con sorbato potásico processdente del árbol serbal y antioxidantes naturales (токоферолы).
Консервировано с сорбатом калия из дерева Рябина и натуральными антиоксидантами (токоферолами).
Для подготовки рома «Гарни Алисовка» Соло тома селекционада баяс де сербальных медурей с неприкосновенностью Каллехона Алисы Селезневой.
Для приготовления рома «Гарни Алисовка» мы берем только отборные спелых ягод рябины с целой аллеей Алисы Селезневой.
Pasa el invierno en una variedad de hábitats arbolados, especialmente cerca de árboles en fructificación como manzana silvestre y serbal común.
Зимует в различных лесных средах обитания, особенно вокруг плодоносящих деревьев, в том числе яблони и рябины .
Нет наклонов по эл. сербал ,
La viscosidad y la acerbidad han salido del serbal ya, ha dado el jugo.
Вязкость и терпкость уже оставили рябины , она выдавала сок.
Durante mucho tiempo he estado fascinado por la variedad de híbridos de serbal que a veces se puede encontrar en la literatura y la realidad.
Меня давно завораживает разнообразие гибридов рябины , которые иногда можно встретить как в литературе, так и в реальности.
Los frutos del serbal en el pasado eran mainmente parte de la nutrición humana; Hoy, lamentablemente, su consumo ha disminuido importantmente.
Плоды рябины в прошлом были в основном частью питания человека; сегодня, к сожалению, их потребление значительно снизилось.
Por ejemplo, recuerdo una vez que, paseando con mi abuela por los bosques del Latgale, encontré un serbal silvestre.
Она улыбается: Я помню, как нашла дикую рябину , когда гуляла в лесу в Латгалии с бабушкой.
Программа включает: un serbal simbólica cosecha, siembra de árboles, eventos culturales — en la vela.
В программе: символический урожай рябины , посадка деревьев, культурные мероприятия — в парус.
Los rusos, demostraremos que nuestro serbal gallofero por nada es peor las viñas alabadas francesas.
Россияне, давайте докажем, что наша бездомная рябина ничем не хуже хваленых французских виноградников.
Estás, balanceando como el serbal ,
A y D: «Rowan es una palabra que Signal serbal «.
Органическое растение serbal doméstica (Sorbus domestica L.) es muy fácil ya que es una planta muy rústica que necesita poco gobierno.
Органическое выращивание домашней рябины (Sorbus domestica L.) очень просто, так как это очень деревенское растение, требующее небольшого внимания.
Entre las propiedades de la serbal , recuerda que estos son excelentes aliados de la salud del кишечника.
Среди свойств рябины помните, что это отличные союзники здоровья кишечника.
Февраль Распаковка Коробки Ягод Рябины + Учебник! (#gifted)
Я всегда ЛЮБИЛ канцелярские товары. Поэтому, когда появилась возможность стать послом Rowan Berry Box (ящик для подписки на канцелярские товары!) От Under the Rowan Trees, мне пришлось подать заявку — и она была успешной!
Две недели назад я получил красивую февральскую коробку с темой «мандалы» и посмотрите, сколько прекрасных вещей было внутри !!
КРАСИВЫЕ раскраски карандаши и книжка-раскраска, трафареты мандалы, карточки подтверждения мандалы, тонкая подводка микрон, ручка, карандаш и значок — так много прекрасных новых канцелярских принадлежностей !! (кстати, вы можете использовать Nusaybah20 по адресу Под рябиновым деревом, для всех их удивительных канцелярских принадлежностей)
Я должен признать, я никогда не был очень терпеливым с мелкими деталями (если вы видели мою страницу в Instagram, вы видели, как быстро пишу — мне действительно нужно притормозить) так было наживку волноваться о том, хватит ли у меня терпения использовать трафареты.К счастью, я сделал это и объединил их с ручками-кистями Ecoline (также доступны на сайте Under the Rowan Trees) и сделал это: (шаги см. Ниже)
Вот все, что вам понадобится:
— трафареты мандалы (или нарисуйте свои собственные)
— микронная ручка или другой черный водостойкий карандаш для тонкой подводки
— ручки для акварельной кисти, такие как Ecoline
— акварельная бумага — я использовал A5
— кисть (желательно большую) и вода
— лист пластика, как пакет для сэндвичей — примерно такого же размера, как ваш лист бумаги
— Tombow fudenosuke для надписей (необязательно)
Это супер просто и может быть сделано очень быстро!
-
Нарисуйте узор мандалы на акварельной бумаге.Я приклеил трафарет лентой для васи, чтобы он не сдвигался слишком сильно.
2. Нарисуйте карандашом Ecoline на пластиковом листе
3. Закрасьте рисунок водой — без краски. Не беспокойтесь о протекании чернил, микронные ручки водонепроницаемы.
4. Прижмите лист пластика к рисунку и надавите на него чернилами, чтобы они растеклись. Я сделал видео здесь , где вы можете увидеть это
5. Снимите пластик. Используя кисть, распределите чернила в тех местах, где их может быть недостаточно — вам может не понадобиться этого делать, если ваши чернила растеклись достаточно хорошо.Должно получиться, как на картинке ниже
6. Необязательно — добавьте буквы!
Это был супербыстрый и простой урок, но я не делал ничего подобного здесь раньше — если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать или писать мне в Instagram!
Рябина Роберта У. Фуллера
Талантливая фантастика, несмотря на зависимость от дидактики
Первые романы могут быть захватывающими событиями. Из-за невинности этого начального усилия иногда между обложками книг происходят великие вещи.В случае с «Рябиной» Фуллер создает очаровательных, несовершенных, благонамеренных персонажей, персонажей, которые остаются в вашем сознании, как почтовая лента.
Он начинает с идеалистичного молодого белого президента колледжа по имени Роуэн Эллуэй и более молодого темнокожего студента Истер Блю. Между ними завязывается роман, примерно
Талантливая фантастика, несмотря на зависимость от дидактики
Первые романы могут быть захватывающими событиями. Из-за невинности этого начального усилия иногда между обложками книг происходят великие вещи.В случае с «Рябиной» Фуллер создает очаровательных, несовершенных, благонамеренных персонажей, персонажей, которые остаются в вашем сознании, как почтовая лента.
Он начинает с идеалистичного молодого белого президента колледжа по имени Роуэн Эллуэй и более молодого темнокожего студента Истер Блю. Между ними завязывается роман, который должен оставаться скрытым. Эллуэй — один из тех интеллектуалов, которые должны перейти от дисциплины к дисциплине, и он покидает пост президента колледжа, в конечном итоге став экспертом по ядерному оружию и разоружению.Тем временем пасхальные поиски приводят ее в Африку.
Спустя годы пара воссоединяется, и к быстро растущему составу персонажей добавляются дети, Марисоль и Адам. Они дети Рябины и Пасхи или отцовство более сложное?
На этом этапе Фуллер позволяет своим центральным персонажам, Роуэну и Пасхе, отойти на второй план, а Адам, Марисоль и их возлюбленные занимают центральное место. Есть длинные отрывки из путешествий, нечетко обоснованные, но довольно часто красиво написанные.Есть зародышевые карьеры и браки, которые протекают почти без конфликтов почти до конца книги, когда обнажаются скрытые сложности персонажей. Но все в порядке; все очень, очень зрелые, и эти сложности решаются самым зрелым образом.
В конце книги Фуллер добавляет длинный отрывок, записанный Адамом, ныне президентом США, в котором он продвигает любимую идею Фуллера, проект достоинства и стремление преодолеть то, что он называет рангизмом.Но не волнуйтесь; Фуллер очень подробно объясняет эти идеи.
Чего Фуллер еще не понимает, так это того, что в написании романов тоже есть свой дух, и использование этой литературной формы исключительно для продвижения интеллектуальных и политических целей — это ублюдок этой формы. Тем не менее, он демонстрирует талант и врожденные способности в написании художественной литературы, и можно надеяться, что он узнает больше о форме романа, прежде чем купить еще один 500-страничный фолиант.
Моя оценка: 12 из 20 звезд
Заклинаний, чар и эко-магии.Амулеты из рябины, ведьмы и благовония.
Сделать оберег из рябины Сделать ожерелье из бусинок старшего Сделать амулет из колец Сделать пентакль Ловец снов
Сделать крест Бриджид Сделать магический ритуал для летнего солнцестояния Сделать оберег из веточки для Harmony
Сделайте амулет из ольхи для храбрости Сделайте жетон боярышника феи Изготовление травяных палочек
Сделайте колье «Год и день» из рябины Благословение огамового дерева
Книга выше предназначена для изучения заклинаний и чар.
Это бесценный феерический том под названием «Линии на зачаровании»,
.
ушел в Муддипонд в давние и далекие времена.
(Если бы мисс Грин усерднее работала на своих уровнях Стеллы Фэй, она могла бы использовать это намного больше!)
Если вы хотите создать книгу заклинаний и такую жезл, c щелкните по этой ссылке в «Dadcando», в «Making — Dragonery»
Ожерелье «Год и день»
Мощный амулет, сочетающий волшебную рябину с благословенным волшебным числом.
Для смертных — чары для исцеления, успеха в особых усилиях, защиты и психической интуиции
Для народа Фаэри — счетчик, рассказывающий о днях, когда заблудшие в наши миры могут быть освобождены
| «Ожерелье года и дня» Маддипонда, изображенное перед замком Алник в Нортумберленде. |
Я не могу вспомнить год, когда рябина была так сильно загружена своими насыщенными, ярко-оранжевыми ягодами.Это знак того, что в ближайшие месяцы наступят тяжелые месяцы, это богатый урожай для птиц, чтобы откормиться, для зимнего выживания или для длительных перелетов на юг. Их было так много, что ни одно существо не завидало мне в этом фартуке!
Триста шестьдесят шесть — кардинальный волшебный шифр.
О да, мы знаем, что смертные законники позаимствовали это из древних сказок волшебников. Вы можете прочитать о законе «Год и день» и его отмене здесь. Пришло время помолвки в Хандфасте. В последнее время викканский народ также использовал этот отрезок времени как меру для разделов тренировок.
Множество народных сказок из разных стран мира рассказывают о задачах, которые необходимо выполнить в течение года и дня. В мире магии огамского дерева 23 декабря днем «года и дня» управляет мистическая омела.
Однако вы должны знать , что для нас, магия, триста шестьдесят шесть всегда и всегда была всемогущей.
‘Двенадцать месяцев и день’ — это время, в течение которого смертный исчезнет из человеческого мира, если он случайно или намеренно выберется из царств времени на путь сил мира. фея.Оккультный таймлапс, в котором смертные часы и месяцы не имеют ни памяти, ни значения.
Если вы войдете в волшебное кольцо или откроете дверь в волшебный курган или холм, это на ваш страх и риск. Если вы пересечете неизвестную лей-линию в сумерках или будете очарованы дикой красотой эльфийских правителей, вы последуете за ними на свой страх и риск … Помните, пока эти триста шестьдесят шесть дней не пройдут, они будут считаться красными. рябины в волшебных пальцах, свободы выбора не будет.
* Проденьте в иглу двойную нить из прочной темной хлопчатобумажной или ультратонкой лески.
* Проденьте каждую ягодку через ее самое сильное место — от маленького пятиконечного основания к верхушке.
* Постепенно перемещайте ягоды по линии, по ходу привязывая новую вату.
* Закончите равным крестом из рябины, перевязанным красной нитью. (Красный, символ жизни-крови.)
Вы можете сохранить цвет ожерелья, покрыв все это кристаллами силикагеля (многие люди держат для этой цели 3-килограммовую ванну, я использую пыль из крылышек фей) и высушив их в течение двух недель.Яркий цвет сохранится, несмотря на неизбежное сморщивание ягод.
Вы можете прочитать о фольклоре и волшебстве рябины здесь, на моей страничке с огамом рябины.
______________________________________________
Как сделать Благословение Огамского Дерева или Рождественские Украшения
Крошечный диск каждого Огама отмечен специальным символом
и висели, чтобы приносить благословение и защиту в середине зимы у очага праздника.
| ||
| Холли | Ива |
Если вы дадите что-нибудь взамен (** см. Ниже), вы можете аккуратно вырезать небольшой кусок дерева от каждого Огама-Древа, управляющего тринадцатью лунными промежутками Огама.
Сделайте аккуратные диски с помощью обрезной пилы. Лучше всего они выглядят с диаметром около 1 дюйма (2,8 см), что соответствует диаметру двухпенсового предмета.
Для Нгеталя, правителя 13-й луны, который может быть как из тростника, так и из пшеничной соломы, вы можете добавить крошечный Крест Бригетты или небольшой узелок, перевязанный лентой.
Приятно видеть, насколько разнообразны по цвету и рисунку каждое дерево, от белого остролиста до красного дерева ольхи.
Аккуратно просверлите отверстие вверху и добавьте правильный символ огама.Здесь перо для пирографии использовалось, чтобы навсегда выжечь знак на поверхности с помощью самого маленького наконечника. С Elder-Ruis труднее всего работать, так как у него очень мягкий, содержательный центр, что затрудняет получение аккуратной пирографии. Продеть красивую ленточку.
Маддипонд использовала свой , чтобы украсить маленькое волшебное дерево, повесив его своей коллекцией серебряных листьев Огама из «Где растут дикие розы» и несколькими крошечными бусинами в форме звезд. Вы можете увидеть изображение всего Дерева Благословений Огама здесь, в дневнике.Другой набор стал красивым подарком для друга, который повесил их на натуральной сосне.
** Практически «вернуть» дереву, древесину которого вы срубили или чьи плоды вы собрали, я могу предложить:
Поливайте в сухую погоду: Приведите в порядок, держите без мусора и засорения сорняками:
Оставьте пищу для птиц в его ветвях: Смазать его нижние ветви дымом благовонного благовония:
________________________________________________________
Как сделать волшебный жетон боярышника
Семигранная звезда феи, созданная из дерева древнего боярышника
Силы: эмоциональная сила, защита счастья
Огамское дерево: старое название — Хуат (е) Время правления: 13 мая — 9 июня
Узнайте больше об огамской магии деревьев боярышника здесь, на моих страницах огама.
Звезда Феи основана на Гептагоне, то есть семиугольнике, и многие жетоны, полученные между ними, имеют этот мотив.
Сам боярышник — дерево древних сил, часть Священной Триады Дуба, Ясня и Шипа, где в Ирландии фейри-народ Туата-де-Даннан танцевал в сумерках. Боярышник защищает своими острыми шипами и известен как путь к сердцу, как эмоционально, так и физически.
Этот был просто создан из шипов огромного, узловатого и почтенного боярышника, стоящего среди лишайниковых яблонь в запутанном и забытом саду, который я знаю. Это красивое место, пронизанное магией насквозь.
Крошечный круг диаметром 12 мм был вырезан из крепкой веточки, необходимой для жезла. Я повесила в подарок маленькую серебряную нить, чтобы луч света попадал на дерево перед тем, как срезать его. Диск был помещен в центр небольшой семигранной звездочки.Шипы были тщательно выбраны, и каждый приклеен на место, чтобы соответствовать семи точкам.
Когда клей затвердел, крошечный пучок медного порошка для тиснения был нанесен щеткой на основание каждого шипа, а символ огама для боярышника выжжен до центра. Вся звезда имеет диаметр около 10 см.
Этот подвешен на петлеобразном венке из тонких веток боярышника того же дерева и отделан грубым бантом из рафии.
______________________________________________________________
Создание особого эко-чар Защитное заклинание рябины
Огамовое дерево — Рябина Старое имя — Луис
Время правления 21 января — 17 февраля
Полномочия: защита собственности от беспокойных духов, молний и черного колдовства.
Вы можете прочитать все о магии Рябины здесь, на моей странице Огама Рябины
Когда наступает сентябрь, Маддипунд-Грин всегда очень занят своим
Эко-чары бизнес и Защитные заклинания.
Это время года, когда на деревьях Луиса созревают красные ягоды.
Луис — это старое огамское имя рябины.
Рябина — дерево, которое любят маги, поскольку они знают, что у каждой ягоды есть пятиконечная звезда,
естественный пентакль у его основания.Посмотрите внимательно!
Грязный пунд делает всех своих защитников, доставляя их своим клиентам завернутыми в красивые осенние листья. Многие из ее друзей, например, бабушка Барсук и Старый Кролик, заказывают новый каждый год.
Вот как сделать его самому.
Они тоже делают прекрасные подарки!
| Вещи, которые вам понадобятся * |
| Шаг 1
|
Шаг 2
|
Шаг 3
|
Шаг 4
|
|
________________________________________________________________
Изготовление талисмана Грина на камне-ведьме «Семь жезлов на семи завязанной нити»
Силы — защита и удача для близких
Колбаски — это галька с пляжа или реки, сквозь которую проделана дыра.Считается, что они, известные как «святые камни» или «дырявые камни», представляют Богиню Земли и обеспечивают защиту. Они могут дать временную психическую силу любому, кто смотрит сквозь них на полную луну или звезды в ночи солнцестояния.
Камни найти непросто. Больше силы для добра может быть добавлено, если искатель найдет их в первый день Нового года или в один из дней между четвертью Белтейна (1 мая) или Самайна (31 октября) и передаст их любимому человеку.
Каждый камень может защитить от раннего несчастного случая или смерти, а если он расколется, значит, он использовал свою силу и помог вам.Следовательно, «Семь кардных камней на семиузловой веревке» — многократно мощное заклинание, семь узлов также придают силу их «связыванию от вреда».
Если эта веревка из камней — подарок любимому человеку, то действительно важно, чтобы вы сами нашли камни. (или, конечно, созданная эко-феей!) Если это невозможно, чары все равно будут работать до определенной степени — и, конечно, лучше, чем ничего!
Используйте натуральный шпагат — стоит поискать джут или сизаль, чем грубее, тем лучше он сочетается с камнями.Чтобы упростить заправку ниток, плотно оберните один конец небольшой липкой лентой. Расположите камни с самыми большими у основания.
Каждый узел должен быть большим и выпуклым, чтобы готовая веревка выглядела естественно.
Обратите внимание — фея или другая магия всегда будет использовать семь камней и семь узлов, тогда как белая ведьма вполне может использовать девять.
(Если вы хотите узнать больше о ведьминских камнях,
и так многие из вас говорят мне, что были бы! — на странице книги есть фрагмент этого сайта)
_____________________________________________________________________
Амулет храбрости из ольхи
Очень красивый сувенир на память, который можно повесить где угодно — или подарить тому, кому предстоит пережить тяжелое испытание
Силы: мужественный, избавитель от страхов защита
Огамовое дерево: старое название — Fearn Ruling Время: 18 марта — 14 апреля
Подробнее о магии огама ольхи здесь, на моих страницах огама.
Используйте все, что хотите, чтобы связать ольху, но Маддируд сделал для нее специальный шнур из черного и серебристого цветов. Черный цвет символизирует темные силы дерева и ворона, тотемной птицы ольхи. Серебро для лунного света и воды.
Вам понадобится
* небольшой кусок ольхи (около 20 см-8 дюймов)
* Острый нож и сильная игла
* Прочный клей
* Крошечные ольховые шишки
* Маленькие черные перья
* Черная шерсть, ультратонкая черная лента, серебряная нить
Метод
* Очистите и соскоблите кору с ветки и разрежьте на две равные части примерно по 7 см (3 дюйма).Обрежьте концы по диагонали.
* Острым ножом вырежьте выемку в центре задней части каждой веточки так, чтобы они образовали плоское соединение. Клей.
* Сделайте шнур (см. Ниже). Украсьте концы крошечными конусами и перьями и сделайте петлю вокруг центра креста, оставив длинные хвосты свисающими внизу.
* Сделайте небольшое отверстие на верхнем конце крестовины и вставьте петлю для подвешивания.
Изготовить специальный шнур любой цветовой комбинации — действительно простой и полезный трюк. Если вы не уверены, вот как это сделать…… попробуйте поэкспериментировать с разными текстурами и толщиной …………..
- Возьмите прядь из толстых ниток трех разных цветов, например, из шерсти или тонкой ленты — они должны быть примерно утроенных длины шнура, которым вы хотите закончить. (У моего шнура одна прядь черной шерсти, одна прядь черной ленты и одна прядь серебряной нити для вязания крючком). Рис 1
- Завяжите верхние концы петлей и прикрепите ее к дверной ручке или к чему-нибудь, что создает натяжение
- Скручивайте нити вместе, всегда в одном и том же направлении, понемногу, скручивая до тех пор, пока на всю длину не уйдет больше
- Теперь возьмитесь за шнур наполовину вместе с большим пальцем и пальцем, плотно потянув за него — поднимите нижнюю половину до конца дверной ручки, чтобы две половинки лежали рядом друг с другом.Возьмитесь за оба конца и сохраните напряжение. Рис 2
- А теперь трюк! Быстро отпустите большой палец и палец внизу, и пряди волшебным образом скрутятся в красивый шнур. Рис. 3 Аккуратно свяжите каждый конец.
|
__________________________________________________________
Сделайте ожерелье из бусин старшего сорта
Держите его простым или добавьте что хотите для дополнительной магической силы — здесь я добавил чудесно душистые ягоды можжевельника
Силы: старейшина Защита, Исцеление, Мудрость, Процветание , Сон, Благословения
Силы: Можжевельник Защита, Защита от кражи, Исцеление, Экзорцизм
.
Древесина бузины идеальна для изготовления бусин любого размера , чтобы добавить в амулет или использовать как угодно.Стебли покрыты мягкой белой сердцевиной, которую можно легко удалить, что позволяет заправлять бусинки.
Но будьте осторожны — старшая мать не всегда легко раздает свои дары, рубите дрова с уважением и знанием! (Подробнее о Магии Древних читайте здесь, на моих страницах Огама).
Вам понадобится:
* Свежие, живые ветки бузины
* Острый секатор ремесленного ножа
* Спица
* Прочная красная лента или нить
* Другие ягоды или бусинки по запросу,
здесь я использовала сушеные ягоды можжевельника
Обрежьте бусины острым предметом, так как даже зеленая древесина может легко расколоться (см. Рис. Ниже).
Я оценил размер этих бусинок попарно и вырезал две более длинные с большей текстурой в центре.
Проденьте вязальную спицу и вытолкните мягкую сердцевину.
Проденьте ленту (красный — защита от злонамеренных сил) через бусинки и ягоды, используя большую иглу.
Бусинка, висящая внизу, добавлена отдельно.
| Показан небрежно разрезанный борт и мягкая сердцевина от центра. | Полые бусины бузины | |
Можжевельник используется для защиты от несчастных случаев , и для этого его можно сжигать в благовониях.
Мне нравится этот небольшой отрывок из травы Джерарда 16-го века, в котором он упоминает всевозможные преимущества можжевельника для здоровья, в том числе….
«Разнообразные в Богемии употребляют вместо другого напитка воду, в которой пропитаны эти (можжевельник) ягоды, живущие в прекрасном добром здравии».
_________________________________________________________________
Изготовление крестов Бригид — символ Имболка (1-2 февраля)
Щелкните изображение, чтобы увеличить его
Повесьте плетеный крест над дверью, над кроватью или у очага в Имболке для защиты
и как знак того, что вы благодарите за оживление года.Его следует оставить на месте до следующего года.
Правильное время для сбора и плетения тростника —
Канун Св. Невесты, или 31 января, готов к выезду на Là Fhėill Brighde.
Вам понадобится 16 стеблей, нарезанных равной длины . Вместо этого можно использовать пшеничную солому. (В случае пострадавших обычно нужны дополнительные!)
Обычно используют тростники, поскольку одна из многих легенд о Бригиде или Невесте или Бриджит говорит нам, что она посетила языческого вождя (некоторые говорят, что ее отец), либо у его смертного одра, либо в тюрьме.Пол был усыпан камышом. Когда она села рядом с ним, она взяла несколько штук и сплела их в такой же вооруженный крест, который она держала, когда молилась за него.
Здесь я использовал три разных типа камыша и тростника, все они растут вместе у кромки воды карьерного пруда Гнарка в Херст-Вуд.
У каждого есть своя текстура, ширина и цвет.
Их обрезали примерно на 30 см — 12 дюймов и сделали готовый крест примерно 16 см после обрезки.
Инструкции:
* Сложите 15 кусков в их центральной точке и хорошо загните.
* (рис. 1 — белый крест обозначает исходную ножку). Возьмите один прочный стебель и, удерживая его вертикально, сложите другой стебель поперек его в центре, лицом вправо.
* Крепко удерживая стержни вместе, поверните их на на 90 ° влево , чтобы теперь сложенный стержень стал вертикальным.
* (Рис. 2) Сложите новый шток поперек этого, плотно затягивая. Возьмитесь за большой палец и поверните на все 90 ° влево.
* (Рис. 3) Сложите новый шток поперек двух, которые теперь находятся наверху. Крепко держитесь и поверните на 90 ° влево.
* Продолжайте, сильно натягивая на ходу и всегда поворачивая влево, пока не будут задействованы все 16 штанг.
* Вы должны быть в состоянии отпустить и положить плетение на стол. Выберите гибкие полоски тростника, чтобы обвязать концы каждой руки.
* Сдвиньте немного переплет, чтобы все руки были одинаковой длины, и обрежьте концы диагональным разрезом.
Эта современная табличка ручной работы принадлежит Анне Мерфи.
в Eala Enamels.Подробнее о Богине Бригиде
Бригид была одной из самых важных языческих богинь года, особенно Ирландии.
Из-за ее значения для кельтов и друидов как покровительницы бардов и кузнецов, ее культ был слишком мощным, чтобы от него отказаться, и был импортирован в христианскую религию, распространившись по всей Ирландии от Святого Патрика.
Крест Бригиты из цветущего тростника
Языческая богиня Бригид из кельтской мифологии
была дочерью Морригана и вождя древней сказочной расы Ирландии Туата де Данаан. В некоторых легендах говорится, что еще одна их дочь — Огма , в честь которой назван алфавит Огама — а другие говорят, что Бригид была матерью Огмы и что Огма был человеком и защитником богов.
Легенды об исцеляющих силах и чудесах о христианской святой Бригиде , родившейся в деревне Фогарт, графство Лаут в Ирландии 1 февраля 453 года нашей эры в семье друида, и один из его слуг — легион.Она стала первой монахиней и настоятельницей Ирландии.
Когда она попросила у короля земли в Килдэре для строительства аббатства, ей было отказано, поэтому она спросила, может ли она получить только то, что может быть покрыто ее зеленой мантией. Когда король согласился, ее служанки взяли четыре угла плаща и растянули их, пока не покрыли достаточно земли для ее постройки.Другие легенды говорят, что за 500 лет до этого Святая Бригитта присутствовала как повивальная бабка при рождении Иисуса, и что позже, как его приемная мать, она защитила его от преследований Ирода и его армии.
Эти три существа, языческая богиня — повивальная бабка Христа — святая Ирландия — постепенно переплетались в фольклоре, так что, будь то богиня или святая, Бригид все еще далеко не забыта.
__________________________________________________________________
Изготовление пентакля «Ловец снов» — талисман для защиты
с использованием камней ведьмы
Огамические деревья:
Ива — старое название — Сайл
Время правления 15 апреля — 12 мая
Плющ — старое имя — Горт Время правления 30 сентября — 27 октября
Пентакль символизирует пять элементов: вверху — Дух, затем по часовой стрелке — Воду, Огонь, Землю и Воздух.
Вокруг защитного круга пять натуральных камней. (Подробнее о защитных элементах каргиного камня см. Выше и на странице книги)
Перья символизируют воздух и свободный полет в мире грез.
Бусы ручной работы были выбраны для украшения пентакля и в качестве символов дружбы (мои были подарками из Африки и Ирана).
Повесьте ловушку на утреннее солнце, так как это сожжет любую негативную энергию, поглощенную ночью.
| Этот талисман довольно большой, его размер составляет около 35 см в диаметре. * Начните с того, что возьмите длинные пряди гибкого плюща и ивы, лишенные их листьев, и сплетите их вместе. (Здесь я использовала 5 прядей). Сплетите концы так, чтобы получился круг. * Поместите круг из веток на напечатанный круговой транспортир: |
* Возьмите длинный кусок сизаля или джутового шпагата (намеренно грубый) и сделайте острый конец — я скрутил шпагат на короткую прочную проволоку с помощью скотча.
* Начиная с верхней точки, протяните шпагат между прядями круга веточки, продевая бусину на каждую часть и туго натягивая на ходу.Закрепите сверху и сделайте петлю для подвешивания. Не волнуйтесь, если форма не идеальна — это полностью естественный объект!
* Используйте более мелкие пряди ивы или плюща, чтобы связать камни ведьмы по кругу.
* Отделка косичками из перьев и бусин.
Вы можете зарядить этот талисман, чтобы сделать его еще более волшебным, натерев поверхность
эфирным маслом.
веточки (я использовала кедровое масло, так как оно ассоциируется с приятными сновидениями) и шепот о намерении или благословении.
__________________________________________________________________
Изготовление оберега из веточки для гармонии у очага
Деревья огама:
Apple — старое название — Quert
Блэкторн — старое название — Straife
Силы: гармония и баланс во всем — защита
Старые способы говорят, что два дерева управляют двумя половинами года — темной и светлой — это леса Огама и магия:
Яблоко — старое имя Кверт правит Светлой стороной — с весеннего равноденствия в марте, когда дни начинают светлеть, до осеннего равноденствия в сентябре.(Некоторые традиции говорят, что яблоко также разделяет лунный месяц с орехом около августа)
Блэкторн или Сло — старое имя Стрейф правит Темной стороной — с осеннего равноденствия, когда дни укорачиваются, а темные часы удлиняются, пока колесо не поворачивается обратно к весне. (Некоторые традиции говорят, что терновник также разделяет лунный месяц с ивой около апреля)
|
|
Узнайте больше о магии лесов и деревьев Огама, начав здесь
___________________________________________________________
Создание ритуальной магии для Литы — Летнее солнцестояние
Огамское дерево — старое имя вереска — Ур
Время правления — только один день — 21 июня
Это всего лишь один волшебный ритуал — вы можете изменить все, что пожелаете (если у вас есть причины), и сделать это настолько простым, насколько это возможно.Это желание (намерение) и благодарность, которые вы добавляете к этим ритуалам, являются здесь, безусловно, самыми важными вещами!
Первое — если встаете встречать солнце, возьмите прозрачный кристалл с отверстием, чтобы повесить его, промойте его и руки на минуту под проточной водой.
Зачаруйте его , потерев крошечную каплю прозрачного меда, апельсинового масла или сока (чтобы представить работу солнца на земле), а заявите о своем намерении. Возможно, это просто для того, чтобы поблагодарить вас за смену времен года, летние ночи, за исцеление друга или за какие-то перемены в вашей жизни, которых вы так жаждете.
Теперь повесьте его до вечера , где он будет ловить и хранить солнечные лучи.
Когда солнце садится, повесьте солнечный кристалл рядом, зажгите немного Litha Incense, закрутите дым вокруг себя, зажгите свечу, затем сядьте и объясните свои намерения (как указано выше).
Травяные благовония не похожи на ароматические палочки, которые жители деревни могут купить в готовом виде, они сжигаются ради их аромата. Сделанный вручную (фейри) травяной ладан заряжен магией, каждый ингредиент специально выбран для его ассоциаций. — он предназначен для окропления пламенем свечи или сжигания крошечного угольного блока.
Чтобы приготовить стойкую смесь, которая медленно горит, вам понадобится смола (например, ладан, бензоин или мирра). Пожалуйста, не позволяйте этому оттолкнуть вас — если вы предпочитаете простую магию, просто посыпьте несколько подходящих трав в костре или пламени свечи.
Вот мой рецепт травяного благовония Litha , каждый ингредиент специально выбран для этого дня солнцестояния , и, как я объясню, сделать его личным для меня. Он прекрасно горел, одна крошечная ложечка держалась долго и создавала летний ароматный дым.
* 3 небольших кусочка ладана (солнечная смола) на * 1 бензоина (также солнечная смола)
* Чайная ложка сушеной омелы (по легенде друидов о дубе)
* Присыпка коры дуба (как указано выше)
* Посыпка сушеного вереска (основная древесина огама только в наши дни)
* Один сушеный лавровый лист (Астрологическая ассоциация — Солнце. Стихия — Огонь)
* Посыпка дерева огама в честь даты вашего рождения — (я использовала 7 сушеных ягод рябины)
Измельчите эти ингредиенты в порошок, похожий на опилки (пестиком в ступке или старой электрической кофемолкой для кофейных зерен).
Теперь добавьте * 3 капли апельсинового масла и * 2 капли прозрачного меда (чтобы представить летнюю щедрость Солнца.)
Вчера вечером (21 июня) выставил свои вещи — видите: —
* Кристалл, залитый солнцем
* Пурпурная свеча — огонь ((цветовая ассоциация на мой выбор) в чаше земля
* Крошечный сосуд моего благовония (всего 6 см в высоту) с очень старой серебряной ложкой (клубящийся дым представляет собой воздух )
* Маленькая горелка с круглым угольным блоком 4 см
* 7 ведьминских камней — найдены на рассвете солнцестояния на пляже (см. Страницу моего дневника) — также представляют Земля ..
* Маленькая чаша воды с белым шиповником на лето
* Веточка сушеного вереска (правил 21 июня по календарю огамского дерева)
Я также использовал свою палочку для размазывания вороньих перьев (чтобы закрутить ароматный дым и посылать энергию в разные стороны), и мою рябину обработал атам (чтобы нарисовать магический круг).
Diola lle ‘Hodoea
.
Тема 1. Лексикология и морфемика
-
Подобрать к выделенным словам синонимы и записать готовые предложения
Сегодня ночью шел проливной дождь. Все лето на море стояла ясная погода. В утреннем лесу было сумрачно. Ближе к полудню установилась жаркая погода.
2.Составьте словосочетания или предложения с паронимами.
Дождевой – дождливый. Домашний – домовитый – домовой. Лаковый – лакированный. Обсудить – осудить.
3. Подберите к фразеологизмам синонимичные слова. Составьте с фразеологизмами 3 предложения.
Попасть впросак, парень хоть куда, мастер на все руки, семь пядей во лбу, кровь с молоком, перемывать косточки, смотреть сверху вниз, не робкого десятка, себе на уме, стреляный воробей, золотые руки.
4. Объясните разницу в значении глаголов. Составьте с ними словосочетания или предложения. Обозначьте приставки
Укутать – окутать, одеть – надеть, подержать, поддержать, одернуть – отдернуть.
5. Вставьте пропущенные буквы, найдите лишнее слово.
1. С..грать, без..дейный, без..мянный, сверх..интересный.
2. Судить, присуждать, суд, сосуд.
6. Замените словосочетания одним словом.
Никогда не умирающий, расположенный вдоль берега, относящийся ко времени перед восходом солнца, находящийся вблизи, спросить еще раз, очень красивый, задуматься на некоторое время, чуть-чуть открыть дверь
7. Поставьте ударения так, чтобы получились разные слова. Составьте с ними словосочетания или предложения.
Мука, кружки, стрелки, пары, жаркое, вязанка, духи, хлопок, атлас, ирис, орган.
8. Спишите, вставляя, где нужно, пропущенные буквы. Обозначьте морфемы. Сделайте фонетический разбор трех любых слов.
Гиган..ский, извес..ный, хлес..нуть, окрес..ный, бескорыс.. ный, облас..ной, прекрас..ный, чес..ный, чудес..ный, мес..ный, чу..ствовать, уча..ствовать.
Тема 2. Морфология, синтаксис
9. Выпишите существительные (с предлогами) и укажите их морфологические признаки.
Образец: (из) песчинок – ж.р., 1-е скл., мн.ч., род.п.
Из песчинок гора вырастает. Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, а лени – три дня. Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке.
10. Спишите пословицы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
1. Долг платеж..м красен. 2. Чест(?) чести и на слово верит. 3. (За) чужим погониш(?)ся, свое потеряеш(?). 4. Резва мыш(?), да от правды (не) уйдет. 5. В умной бесед.. ума набираться, а в глупой – свой потерять. 6. Пис(?)мо – (не) товарищ(?), а правду сказывает. 7. Печ(?)ка нежит, а доро..ка учит.
11. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы.
С младш.. братом, о старш.. сестре, на чуж..стороне, с легк.. паром, под глубок.. снегом, в чист.. поле, с чист.. сердцем.
12. Образуйте от данных глаголов форму 2-го лица ед.ч.
Ловить (2 спр.), просить (2 спр.) , пасти (1 спр.), прийти (1 спр.), тянуть (1 спр.), стрелять (1 спр.), смеяться (1 спр.), колоть (1 спр.).
13. Прочитайте текст. Найдите наречия. Задайте к ним вопросы. Выпишите четыре словосочетания глаголов с наречиями.
Очень давно у нас в Туле жила кошка. Кошка эта ловила мышей удивительно искусно. Но их не ела. И совершенно по-человечески знала, что, поймав мышь, сделал нечто заслуживающее похвалы. Она появлялась с мышью в зубах и, как-то особенно призывно мурлыкая, терлась о ноги мамы. Мама одобрительно гладила кошку по голове; кошка настойчиво пихала голову под ее руку, чтоб еще раз погладили. Потом, подняв хвост вверх, она бросала мышь и равнодушно уходила.
(В. Вересаев)
14. Спишите предложения, раскрывая скобки.
1. Кто (то) пришел. 2. Мне (кое) что изчестно. 3. Дай мне какой (нибудь) карандаш. 4. Ты что (то) сказал? 5. Ты знаешь что (нибудь) о дельфинах?
15. Вставьте подходящие по смыслу предлоги.
Выйди (?) дома (?) ясную ночь и взгляни (?) небо, усеянное яркими звездами. Ты увидишь созвездие молодого Персея. (?) руке (?) Персея голова Медузы, но не бойся смотреть (?) нее: она уже не может превратить тебя (?) камень.
(Мифы и легенды Древней Греции)
16. Найдите границы предложений. Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните грамматические основы.
По лопухам по крапиве по всякой зеленой траве рассыпались белые лепестки отцветает черемуха зато расцвела бузина а под нею растет земляника некоторые бутоны ландышей тоже раскрылись бурые листья осины стали нежно-зелеными.
(М. Пришвин)
17. Перепишите предложения. Сделайте разбор по членам предложения.
1. Был солнечный день, такой яркий, что лучи проникали даже и в самый темный лес. 2. Солнце, такое горячее и чистое, вышло над болотными елочками. 3. В золотом кораблике из березового листа спускается в гибкое блюдце паучок. 4. За сегодняшний день позеленели лужайки.
18. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания.
1. Лужи были везде на дороге на тротуаре у крыльца. (К.Васильев). 2. Люди толпились всюду в вестибюле в коридоре в кабинетах. 3. Вокруг каждого дома росли цветы маргаритки ромашки одуванчики. (Н. Носов). 4. Все радостно сияло вокруг нас небо земля и вода. (И. Тургенев). 5. Любовь надежда скорбь и радость все снова расцвело. (А. Пушкин). 6. В степи за рекой по дорогам везде было пусто. (Л. Толстой).
19. Спишите, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Подчеркните грамматические основы.
1. Но птички (от) пели цветы (от) цвели лучи (по) бледнели зефиры ушли. (Ф. Тютчев). 2. Ночь прошла дождь повис туманной пылью. (Б. Пастернак). 3. Алмазы звезд горят (над) темным бором льет ключ(?) бессонный струи жемчугов. (В. Брюсов). 4. Умер дождь умер ветер умер шумливый, беспокойный сад. (К. Паустовский). 5. (Под) этими липами Пушкин грустил (на) этой скамеечке сиживал Гоголь. (Д. Кедрин).
Раздел 2. Морфемика. Орфография
Тема 3. Состав слова. Морфемы.
20. Обозначьте морфемы. На примере каждого слова докажите, что морфема – значимая часть слова.
Смелость, столик, тигренок, перевозчик, безграничный.
21. Прочитайте предложения. Обозначьте корень в однокоренных словах.
1. Лена ленится вплетать ленточки в косы. 2. Коля уколол колено иглой. 3. Люба любит любоваться любопытными цыплятами.
22. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки. Напишите продолжение рассказа.
Объявился в нашем поселке щенок, маленький, озорной, вечно вз(?)ерошенный. Повадился он по утрам ко мне бегать. Царапается под двер(?)ю, будто говорит: «Пора, пойдем». Встану, дам ему целую миску каши или кос(?)ть поглодать. Он все с(?) ест, а потом лизнет меня в руку, подл..годарит и убежит до вечера. Повсюду его звонкий лай слышен. Только увидит, как вороб(?)иная сем(?)я на дорожку присела что-то там поклевать, а он тут как тут. А раз приплелся ко мне поз(?)ним вечером, чуть не ночью, морда исцарапана, а изо рта кусок кошач(?)ей шерсти торчит. Назавтра я узнал, что случилось. Дело было так…
Тема 4. Морфемы. Значение морфем. Способы словообразования
23. Спишите слова, обозначая в них окончания и основу.
Уж, ужа, ужу, ужом, об уже, ужи; синий, синего, синему, синим, синем; вижу, видишь, видит, видим, видите, видят.
24. Выпишите из текста изменяемые слова. Обозначьте окончание и основу.
А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. (И. Тургенев)
25. Спишите пословицы. У самостоятельных слов обозначьте окончания и основы.
1. Человек без друзей, что дерево без корней. 2. Человек неученый, что топор неточеный. 3. Труд кормит, а лень портит. 4. Дружба как стекло: разобьешь не сложишь. 5. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. 6. Ученье – свет, а неученье – тьма.
26. К каждому слову подберите однокоренные. Обозначьте корни.
Единый, повар, гостиница, красота, ум, менять, перекресток, безопасный, сдержанность.
27. Спишите цепочки слов. Обозначьте корни и подчеркните «третье лишнее».
1. Соль, посолить, солист. 2. Частый, частота, части. 3. Века, вековой, веки. 4. Годовалый, негодный, ежегодный. 5. Обвинять, виноград, виноватый.
28. Спишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы и подбирая проверочные слова.
Зак..пать яму, раскр..ить ткань, нак..пить знания, нал..вить рыбы, прик..лоть брошь, зат..чить инструмент, зас..лить огурцы, оп..здать на занятия, прим..рять спорщиков, прим..рять платье, обн..жить спину, спилить н..жовкой.
29. Спишите пары слов, обозначая в них корни и приставки. Определите значение приставок.
Вбежать – выбежать, причалить – отчалить, привезти – увезти, завинтить – отвинтить, завязать – развязать, приклеить – склеить.
30. Запишите слова в три столбика: в первый – с одной приставкой, во второй – с двумя, в третий — с тремя. Обозначьте приставки и корни.
Безвкусный, поразмыслить, понавыдергивать, безразмерный, выносить, занавеска, приободрить, предрасположение, поднажать, обледенеть, беспосадочный, пробуждение, переоценка, переподготовка.
31. Спишите, раскрывая скобки и расставляя недостающие знаки препинания.
Где (на) чинается Ворша? (До) йти (до) ее истока я пытался еще (в) детстве. Но (по) счастливилось мне (у) видеть ее только сегодня.
Четыре дубовых венца образовали прямоугольный сруб… (Вы) ливаясь (из) сруба, вода обретала голос и видимость потому что (на) чинала (пере) ливаться течь быть ручьем.
Только так, среди травы цветов пшеницы, и могла начаться наша река Ворша. Встретит(?)ся на ее пути и грязь и навоз и скучная глина но она безразлично (про) течет мимо всего этого, помня свое чистое цветочное детство.
(В. Солоухин)
32. Продолжите ряд названий лиц по действию, характерному для их профессии, или по занятию. Обозначьте корни и суффиксы.
Бурить – бурильщик, поливать — …., учить — …., строить — …., водить — …., барабан — …., гардероб — …., пулемет — ….., ракета — ….
33. Выпишите сначала слова, в которых суффикс – чик- обозначает человека по роду занятий, затем – в которых имеет значение «маленький».
Летчик, балкончик, грузчик, наладчик, блинчик, стаканчик, ракетчик, карманчик, пенальчик, разведчик, стульчик, портфельчик.
34. Подбирая родственные слова, определите, входит н в состав корня или является суффиксом. Спишите слова, обозначая морфемы.
Зубной, юный, железный, синий, зимний, свиной, трубный, родной, модный, бледный, осенний, летний, колонна, колонка
35. Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. В выделенных предложения подчеркните грамматические основы. Обозначьте уменьшительно-ласкательные суффиксы.
Медвеж..нок с рыж..ми ушами то и дело ост..навливался и гл..дел в небо на вереницу гусей. К нему подб..гал ч..рный братец хв..тал за лапу или н..ровил сес(?) в..рхом.Рыж..ухий огрызался и улепетывал к матери. Ч..рный родился в..селым, да не с кем ему ш..лить. Рыж..ухий, вялый и задумчивый, все до чего (то) докапывался медвеж(?)им умишком. С матер(?)ю тоже (не) поигра..ш(?): у нее заботы.
(А.Максимов)
36. Сделайте письменный словообразовательный разбор слов.
Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесовоз, охотничий, бездорожье, сверхмощный, кто-то, нуждаться, водонепроницаемый, долгоиграющий, столовая, перелет, издалека, быстро (идти), по-новому, книголюб, землепашец, видоизменить, просмотр, ООН, старпом, красноречие.
37. Сделайте письменный морфемный и словообразовательный разбор следующих слов.
Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, приземление, выступ.
38. Прочитайте текст и выполните задания.
Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно2, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского2, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных2 своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт.
(Н. В. Гоголь)
Задания к упражнению
1. Из выделенного предложения выпишите:
а) слова, не имеющие окончания;
б) слова с нулевым окончанием;
в) слова с формально выраженным окончанием.
Укажите для последних двух групп слов, какое грамматическое значение имеют окончания.
2. Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со значением корня.
3. Найдите слова, которые образованы суффиксальным, приставочным и приставочно-суффиксальным способами словообразования. Укажите, от каких слов они образованы.
4. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор указанных слов.
39. Определите способ образования данных слов. В каких случаях после приставок пишется ы, в каких и?
Пред…стория, пре…мущество, про…ск, на…грыш, роз…грыш, сверх…зобилие, сверх…нтеллигентность, дез… нформация, пост.. .мпрессионизм, супер.. .нтендант, супер… грок.
40. Сделайте морфемный и словообразовательный анализ выделенных слов. Определите способ словообразования и словообразовательное значение.
Вариант 1: 1. Голь на выдумки хитра. 2. Долг платежом красен. 3. На чужом пиру похмелье. 4. На безрыбье и рак рыба. 5. За морем телушка – полушка, да рубль – перевоз. 6. Кто староепомянет, тому глаз вон. 7. Лежачего не бьют. 8. Молчание – знак согласия. 9. На всякоехотенье есть терпенье. 10. Не было бы счастья, да несчастье помогло. 11. Не дорог подарок, дорога любовь. 12. Недосол на столе, а пересол на спине. 13. Овчинка выделки не стоит. 14. Своя ноша не тянет. 15. Слышал звон, да не знает, где он.
Вариант 2: I. Безумству храбрых поем мы песню (М. Горький). 2. Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они (А. С. Пушкин). 3. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью (П. Герман). 4. Без руля и без ветрил (М. Ю. Лермонтов). 5. Театр начинается свешалки. (К. Станиславский). 6. Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженьи (В. Маяковский). 7. Имел он счастливый талант Без принужденья в разговоре Коснуться до всего слегка, С ученым видом знатока хранить молчанье в важном споре (А. С. Пушкин). 8. Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты (А. С. Пушкин). 9. Легкость в мыслях необыкновенная (Н. Гоголь). 10. Сказка – ложь, да в ней намек (Фольклор). 11. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник (И. А. Крылов). 12. Есть еще порох в пороховницах (Н. Гоголь). 13. Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой (А. С. Пушкин). 14. Горбатого могила исправит (Поговорка).
41. Найдите в тексте производные, образованные путем субстантивации. Слова каких частей речи являются мотивирующими?
1. По щербатой мостовой медленно шла колонна военнопленных. 2. В столовой для рабочих спиртного не продавали, но стаканы из-под «третьего» часто пахли не компотом. 3. Никита был потомственным военным, а Алексей остался на сверхсрочную. 4. Часть комнат занимали отдыхающие, а часть командированные, хозяйка жила во флигеле. 5. Ей к лицу было голубое, но она чаще носила черное и от этого казалась старше. 6. В учительской студентки-практикантки проверяли контрольные и обсуждали, трудно ли учиться на заочном. 7. Прошлого как будто не было, настоящее казалось скучным, а вот будущее, уже даже близкое завтра, обещало быть интересным. 8. Один в поле не воин. 9. Семеро одного не ждут.
42. Из приведенного текста выпишите прилагательные и сгруппируйте их по способам словообразования.
В широкой долине над Прутом, у дороги, которая стремительно врывается в пределы города, земляная подкова валов хранит руины древнего поселения Черн – предшественника современных Черновцов. Основанный в ХП веке галицкими князьями, Черн был крепостью, охраняющей рубежи Киевской Руси от нападения многочисленных врагов.
Во времена монголо-татарского нашествия крепость была сожжена, а ее жители переселились на противоположный правый берег реки…
… На протяжении шести веков (с середины XIV века) Северная Буковина находилась под гнетом чужеземных поработителей, пережив и тяжкую турецкую неволю, и полуторастолетнюю австрийскую оккупацию.
Непрерывно вели буковинцы неравную борьбу за социальное и национальное освобождение.
43. Замените данные словосочетания сложными прилагательными. Какой способ при этом используется? Какова структура новообразований?
Мясные и молочные продукты; поезд с товарными и пассажирскими вагонами; стойкий к морозам; платье из чистой шерсти; имеющий одну лампу; предназначенный для уборки хлопка, блузка яркого синего цвета; серые глаза с голубым оттенком; имеющий много детей; говорящие на разных языках; бывший в средние века; питающийся насекомыми; имеющий черные брови; смотрящий вперед.
Тема 5. Буквы О/А в корнях гар/гор, зар/зор, раст/ращ/рос
44. Распределите слова в два столбика в зависимости от выбора гласной О – А в корне. Обозначьте условия выбора орфограммы.
К_сательная, прик_снуться, прик_сновение, предл_жить, предл_гать, предл_жение, изл_жение, изл_гать, прил_гательное, прил_жение, оз_рять, з_ренька, з_рница, з_ря, з_рька, подг_рать, подг_реть, заг_р, заг_релый, подг_реть, наг_реть, выг_реть, заг_реть, сл_гаемые, выр_сли, выр_стать, выр_щенный, возр_ст, ср_щение, р_стительность, г_рит, р_внина, р_вняйсь, м_кать в сметану, г_рели, р_вняется, р_сток, отр_сль, ур_вень, ср_внение, Р_стислав, выр_внять грядки, ср_внить с кем-то, распол_житься, составить ур_внение, р_стение, город Р_стов, непром_каемый плащ, водор_сли, з_ря разг_рается, к_сались, нар_щение, сл_жение, к_снуться, оз_рена, дог_рали, г_релки, возл_жить, возл_гать, пол_гаю, неприк_сновенный, разл_жить, оз_рять, г_релка, приг_рать, оз_ренный, выр_сти, выр_сший, отр_слевой, р_вносторонний, обувь пром_кает, р_вновесие, р_весники, обм_кнуть кисть в краску, вым_кнуть под дождем, зар_внять швы, соприк_сновение.
45. Перепишите пословицы и поговорки, объясните правописание корней.
1. Кто добро тв_рит, того Бог благословит. 2. Кому сг_реть, тот не утонет. 3. Некуда прикл_нить буйной головушки. 4. Доведется ж и коту с печи соск_чить. 5. Не выр_сла та яблонька, чтоб ее черви не точили. 6. Деньги – что каменья: тяжело на душу л_жатся. 7. Р_стовщики на том свете каленые пятаки голыми руками считают. 8. Дождь вым_чит, солнышко высушит, буйны ветры голову расчешут. 9. Овца руно р_стит, а скупой деньги копит – не про себя. 10. Подр_стешь – свое наживешь. 11. Исподволь и сырые дрова заг_раются. 12. З_ря деньгу родит. 13. Хозяйка лежит – и все лежит; хозяйка с постели – и все вск_чили. 14. Каково дерево, такова и отр_сль. 15. Не откормить коня сухопарого, не отр_стить дерева суховерхого. 16. Девичья краса до возр_сту, молодичья до веку. 17. Дрова г_рят с треском – к морозу. 18. Бог по силе крест нал_гает. 19. Чем лаптю кланяться, так уж покл_нюсь сапогу. 20. Выр_с лес, так выр_сло и топорище.
46. Спишите, вставляя пропущенные буквы, недостающие знаки препинания. Найдите средства выразительности языка, использованные автором. Какова их роль в предложениях?
1. У берега распол_жилось селение а над обрывом об_ятая холодным солнеч_ным пламенем стояла знаменитая крепость. 2. По другую сторону севернее прост_ралась всх_лмлё_ная р_внина. 3. Т_ж_лые хлопья снега падали в серые волны гуси_ным пухом выст_лая дальние берега. 4. В черном небе ярко г_рели звезды р_внодушно вз_рая на грешную землю. 5. День уг_сал едва успев разг_реться. 6. А позади туч_ кл_нилось к западу большое красное солнце. Оно ра_ст_лало над морем косые полотнища последних лучей и там где лучи к_сались воды гребни вспых_вали недобрым б_грянцем. 7. Солнце кл_нилось к западу к_саясь лесных вершин. 8. На востоке уже разг_ралась вдоль г_ризонта узенькая полоска з_ри. 9. Быстрый ручей выкат_вался из ущелья раст_каясь по р_внине семью неглубокими струями. 10. Костер буш_вал. Жаркие языки взв_вались с веселым и ярос_ным ревом раздвигая ночной мрак. (М.Семенова)
47. Спишите, вставляя пропущенные буквы, недостающие знаки препинания. Докажите, что слово г_реть многозначное.
1. Олени низко опустили головы почти к_саясь снега черными носами. 2. Дрова потрескивая медленно разг_рались. 3. Мороз проб_рал и мы вскоре вернулись в п_латку. 4. В неподвижном воздухе свеча могла г_реть как в комнате. 5. Волны к_тились ровные и слои обл_ков подн_мались все выше. 6. Большинство свободных оф_церов собрались здесь распол_жившись в удобных кожаных креслах. 7. Я уселся на ч_модане у ф_нарного столба и вдыхая ночную свежесть оглядывался кругом. 8. Когда мы добрались до холма обс_рватории с зап_дной стороны уже погасли последние отбл_ски. 9. Дорога пов_рачивала налево и у края зеленых садов соед_нялась с другой. (И.Ефремов)
48. Прочитайте текст. Какой это вид речи – описание, повествование, рассуждение? Озаглавьте текст и разделите его на абзацы. Устно объясните расстановку знаков препинания.
Набрел я на п_ляну в т_йге. От л_сного п_жара она выг_рела, но на черной з_мле уже р_сли бл_стящие листики брусники. На краю были зар_сли м_лины. Соб_рал я м_лину, а вп_реди какой-то зверь шел, шуршал в листьях. Я р_шил узнать, что это за зверь. Сел на п_нёк и стал т_хонько посвист_вать. Зверь сначала ост_новился и зам_р, а потом стал ко мне подкрадыва(ть, т)ся. Он думал, что я его не увижу, а в_рхушки м_линовых кустов ш_веля(т, ть)ся и его выд_ют. Я сразу узнал, что это медвежонок. Тогда я щепкой стал поскрип_вать о п_нёк, чтобы привлеч_ его внимание. Кусты раздвинулись, и я увидел черный нос и два глаза. Тут я услышал, как в малиннике сучья тр_щат. «Шутки плохи, – подумал я. – Медведице разве объяснишь, что я только поиграть с ним захотел». (По Г.Я. Снегирёву)
49. Спишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания.
1. С годами выг..ревшая д..лина да пологие х..лмы все покрылось ре..кой пор..слью березок. 2. Из зар..слей орешника выск..чил мален(?)кий зайч..нок и скрылся в лесу. 3. Это был старый, др..мучтй бор, которого не к..сались еще пила и топор лесного барышника.. (В. Короленко). 4. Ст..пные м..ста бывают чудно хор..ши весною своей р..скошной свежей р..стительностью. (С.Аксаков). 5. Меж полем и дорогою густая липа выр..сла. (Н. Некрасов).
Тема 6. Правописание приставок пре/при
50. Вставьте пропущенные буквы. Распределите и запишите слова в две колонки: в первую — с приставкой при-, во вторую — с приставкой пре-.
Старинное пр…дание, камень пр…ткновения, пр…чуды природы, пр…ступить (к делу), богатое пр…даное, пр…вратности судьбы, пр…одоление препятствий, не надо пр…рекаться, пр…знание в содеянном, пр…бывать в бездействии, беспр…кословно повиноваться, пр…верженец новых взглядов, пр…дать друга, пр…мирить врагов, пр…бытие поезда, непр…менное условие, полезное пр…обретение, жизнь без пр…крас, пр…забавный случай, пр…ломление лучей, пр…вышение полномочий, пр…остановить слушание дела, давать пр…сягу, искатели пр…ключений.
51. Перепишите текст, вставляя недостающие орфограммы. Объясните написание приставок.
Обманчивый лес
Однажды, охотясь в густом лесу, король Генрих напал на след пр…красной горной козы и, пр…следуя ее, отстал от своей охотничьей свиты на большое ра…стояние.
Раздраженные запахом зверя, его собаки так увлеклись п…гоней, что …скоре не стало слышно даже их лая. Между тем нез…метно …гущался вечер, и н…ступила ночь. Тут король понял, что заблудился. И…дали д…носились призывные звуки охотничьих рогов, но чем ближе, как казалось королю, он шел к ним, тем слабее звучали рога. С досадой в…помнил Генрих о том, как …бивчивы и капризны громкие звуки в горных лесах и какой предательский пересмешник — горное эхо. Но было уже поздно. Пр…дстояло переночевать в лесу.
(По А. Куприну)
52. Вставьте пропущенные буквы, распределяя слова по столбикам (пре-, при-)
Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть пр_пятствие, пр_возмочь боль, пр_сесть на скамью, пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться, пр_небрегать, пр_вращение, пр_следование, пр_знаться, пр_зирать труса, пр_брежный, пр_ображение, пр_ступить к делу, пр_остановить, пр_восходный, пр_образование, пр_града, пр_ручить, , пр_строить, , знаки пр_пинания, пр_забавный котенок. Пр_бывать в неведении – пр_бывать по расписанию; старинное пр_дание – пр_дание силы; пр_данный патриот – пр_данный врагами – пр_данный командованию; пр_емник традиций – пр_емник «Турист-2» – пр_емственность поколений – пр_емлемый вариант; пр_зрение к смерти – пр_зрение сироты – пр_зор; пр_зирать угрозы – пр_зирать детей, потерявших родителей; пр_ображенный – пр_обретенный; пр_творить в жизнь – пр_творить дверь; пр_ткнуться о камень – пр_ткнуться в уголок; пр_увеличивать – пр_уменьшать значение открытия, пр_уменьшать расходы ради экономии; пр_ходящий момент – пр_ходящий медработник; пр_дел в храме – пр_дел всему; пр_клонить ветви – пр_клонить колена; пр_падать к земле – пр_подать урок; пр_скорбный факт – пр_светлый образ.
53. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Обоснуйте свой выбор.
Пр_творить планы в жизнь — пр_творить дверь; радиопр_емник — правопр_емник; пр_ступник — непр_ступная крепость; пр_вратник — пр_вратности судьбы; пр_ходящая няня — непр_ходящий успех; пр_емственность – пр_емлемый вариант; пр_бывать в город — пр_бывать в неволе.
54. Прочитайте шуточный текст. Подготовьте в форме диалога краткое сообщение по заданной теме. Выпишите из текста в два столбика слова с приставками ПРЕ- и ПРИ-.
ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА
С ПРИСТАВКАМИ ПРЕ- И ПРИ-
В стране Русский язык жили приставки Пре и При. Они были братьями и все время соперничали друг с другом.
Пре был очень серьезным, всегда доводил все до конца, все его действия достигали пр_восходной степени. Он все пр_возносил, любил даже немного пр_увеличивать, а когда он общался со своими друзьями – пр_лагательными и наречиями, то указывал на высшую степень качества. Всем всегда восхищался: какой пр_красный день! Какое пр_спокойное местечко! Какая пр_лесть! А пр_ступникам он всегда пр_граждал путь и не пропускал их в свой мир. Он никогда не пр_давал друзей.
При был очень легкомысленным, делал все наполовину, пр_ставал, пр_липал к другим. Все его поступки совершались на короткий срок. Он не пр_давал значения своим действиям. При очень любил пр_карманивать чужие вещи, пр_манивать своими шуточками. Но все-таки он иногда доводил свои дела до конца, потому что из-за такой неорганизованности При Пре очень сердился и выходил из себя.
Как-то решили части речи помирить двух братьев, но им это не удалось – они так и не научились жить в согласии друг с другом.
С тех пор и путают их дети!
55. Вставьте буквы.
Русский человек пр…даёт особое значение слову «семья». Пр…дать семью означает пр…дать самого себя. И подобное пр…дательство не прощается ни людьми, ни Богом. Если русские гости обещают пр…быть минут через пять, то иностранцы ближайшие полчаса-час пр…бывают в недоумении: где же их носит. Пр…ступая к работе, не пр…ступайте закон!
Раздел 3. Лексикология. Орфография
Тема 7. Лексические выразительные средства.
56. Найдите эпитеты, определите их роль в тексте.
1) Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля — все, побуревшее от зноя, рыжее и полумертвое, теперь отмытое росою и обласканное солнцем, оживало, чтобы вновь зацвести. (А. П. Чехов) 2) Стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. (А. П. Платонов) 3) В красном закате плыли величавые лебеди — розовато-золотые в солнце. Отзывался пустынный их крик в парке. (И. С. Шмелев)
57. Прочитайте предлагаемые ниже словосочетания, выделите в них эпитеты, объясните их смысловое и эмоциональное содержание. Оцените их традиционность.
Зловещая дума; ветрила гордых кораблей; звезда печальная; на обнаженной ветке; роковой огонь сражений; надежда сладостная; безумное волненье; в ясной лазури; по бархатным лугам; судьба жестокая; тщетный шум пиров; счастливый край.
58. Подберите к данным словам изобразительные и лирические эпитеты.
Солнце ___________________________________________
Туман ____________________________________________
Огонь ____________________________________________
Свет _____________________________________________
Сирень ___________________________________________
Чувство ___________________________________________
Муза______________________________________________
Тишина ___________________________________________
59. Прочитайте текст. Найдите в нем эпитеты. Определите их роль в тексте.
Нетленные красоты России, ее полей и лесов, туманных омутов и величественных закатов явились на свет не вчера. Именно Север напитал жизнь поколений и даже эпох так, что диву даешься. Вместе с Великим Новгородом, вместе с белоствольной, статной Русью поднялось величие Пскова и Суздаля, Владимира и Ростова. Каменная громада Георгиевского собора на Ильмень-озере, когда на прибывающей весенней воде он высится, будто в облаках, не просто старина, а памятник величию человека.
Все это — эпоха, когда простой человек почувствовал в себе поэта и ощутил, что земля — это нечто большее, чем просто нива, просто гул нетронутых лесов. Он, загнанный на северные окраины своей земли безжалостными завоевателями, понял, что уходить больше некуда, что родная земля, эти спасительные богатырские дали, — источник бесконечной душевной силы. И каждая травинка, дерево, озеро стали восприниматься им как нерукотворное богатство. (По Ю. Куранову)
60. Найдите в текстах сравнения. Определите способ их выражения.
1) Уснуло озеро; безмолвен черный лес;
Русалка белая небрежно выплывает;
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник на влаге созерцает. (А. А. Фет)
2) А сосны гнутся, как живые,
И так задумчиво шумят…
И, словно стадо птиц огромных,
Внезапно ветер налетит
И в сучьях спутанных и темных
Нетерпеливо прошумит. (И. С. Тургенев)
3) Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек. (А. А. Фет)
4) Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли, точно в клетке золотистой. (А. Н. Майков)
61. Прочитайте текст. О чем говорится в тексте? Выделите сравнения. Определите их изобразительно-выразительную роль. Какими образами они обогащают текст? Какие мысли и чувства автора помогают ярче передать?
Третья встреча явила мне Блока читающим замечательные стихи о России, и он мне казался подавленным этой любовью целой жизни, он был похож на рыцаря, который любит Недостижимую, и сердце его истекает кровью от любви.
Блок мне казался таким дорогим и близким, как в весеннем кусте соловей, который поет мне песню, но улетит, если я к нему подойду, и как свежевыпавший снег, которого не нужно касаться. (К. Д. Бальмонт)
62. Расскажите о лексических средствах сравнения, комментируя данные примеры.
1) Оснеженный куст похож на застывший фонтан. (В. Набоков) Пустынный мыс был схож с ковригой хлеба. (И. Бунин) 2) При свете дня подобен розам бледным огонь в печи. (В. Ходасевич) 3) И над землею круглая луна покажется пшеничным караваем. (М. Дудин) 4) Кленовый лист напоминает нам янтарь. (Н. 3аболоцкий) 5) Морозная ночь походила на сказку. (Б. Пастернак)
63. Исправьте предложения, сделав их более благозвучными. Замените сравнительный оборот творительным сравнения.
1) Полая вода уже сошла, и речка струилась, словно узенький ручеек. 2) Как белая колонна да, выстроились вековые березы. 3) Я поднял голову… передо мною между двух рядов высоких тополей, словно стрела, уходила вдаль дорога. 4) Ярко светит солнце, будто белые птицы, плывут в небе облака. 5) На чащей леса, словно золотая звезда, сверкал купол церкви.
64. Найдите в текстах имена существительные, употреблённые в переносном значении. Объясните значение метафор. На основе какого сходства стал возможен такой перенос?
1) Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа. (А.А.Фет)
2) Вся в пыли торчит щетина
Придорожного хвоща. (Саша Чёрный)
3) Пошёл снег. Всё пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом. Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный – в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль. (В.М.Шукшин)
65. Прочитайте тексты. Найдите в тексте метафоры, объясните их художественную функцию.
1) Подобно тому, как из колоссальной, почти безграничной туманности формируются, может быть, отдельные плотные звезды, так постоянно в сознании писателя из безбрежного океана жизненных впечатлений формируются точные и конкретные замыслы…
Я иногда вижу, как во время оживленного разговора мой товарищ литератор вынимает записную книжку и скорей записывает в нее только что произнесенную фразу, только что рассказанный случай. А потом я вдруг встречаю этот эпизод в книге. Из него, как из зернышка, развилась и пышно расцвела целая глава рассказа или повести. (К. Г. Паустовский)
2) Мы стоим в лесном овраге. А над нами висит белое облако.
Душистый дождь лепестков чуть брызжет, медленно опускаясь на голову, лицо и землю. Над нами жужжат пчелы. Живые крылатые вертолетики приземляются на пушистое облако. Пахнет пьянящим нектаром и ароматной пыльцой.
Это цветет черемуха. (С. Ларин)
66. Найдите случаи совмещения олицетворения с другими средствами художественной изобразительности: сравнением, риторическим обращением, параллелизмом.
1) Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками. (А. П. Чехов) 2) Утром он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались тоска, отвращение, ненависть. (М. Е. Салтыков-Щедрин) 3) Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в печали своей. (С. А. Есенин) 4) Родная земля! Назови мне такую обитель… (Н. А. Некрасов)
Тема 8. Чередование гласных в корнях скак/скоч, равн/ровн, твар/твор. Лексика. Фразеологизмы
67. Спишите. Выделите корни с чередованием гласных. Обозначьте условия выбора орфограмм. Отметьте слова-исключения.
Вырастить кукурузу, собираться на охоту, молодая поросль. отраслевая промышленность, нарастающая скорость, обложной дождь, продираться сквозь заросли, замирать от восхищения, вырастить блистательную смену, предположение отпадает, возложить к подножию памятника выращенные цветы, высокий уровень, ровнять грядку, несчастье коснулось и его, подошел к зарослям камышей, начинает подгорать пирог, ростовщик Ростислав живет в Ростове, сложение и вычитание, положить выручку в несгораемый шкаф, жук расположился на блестящем листе кувшинки, изложить требования, бесплатное приложение, равняться в шеренге, неправильное сращение кости, растительный покров, слабый росточек.
68. Найдите в предложениях диалектизмы.
1.Увы! Куда ни брошу взор – Везде бичи, везде железы, Закона гибельный позор, Неволи немощные слезы (А.Пушкин). 2. Грибная пора отойти не успела, Гляди – уж чернёхоньки губы у всех. Набили оскому – черница поспела, А там и малина, брусника, орех (Н.Некрасов).3.* У голодной куме хлеб на уме (поговорка). 4.Сам с усам (поговорка). 5.В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры (И.Тургенев). 6. Кума, болезная ж ты, погляжу на тебя. Каково же терпеть: нищего приняла, дак он над тобой издеваться так будет. Ты что ж ему укроту не сделаешь? (Л.Толстой) 7.По обеим берегам реки было врыто по толстому столбу, к ним крепко бы привязан мокрый канат, толщиной в руку; по канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утверждённый на двух выдолбленных огромных деревянных колодах, которые назывались там «комягами» (С.Аксаков). 8.* И глухо, как от подачки, Когда бросят ей камень в смех, Покатились глаза собачьи Золотыми звёздами в снег (С.Есенин). 9.Бабы в клетчатых понёвах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак (И.Тургенев). 10.Теперь уже видно, что это самый простой пеший человек, и притом старый, измождённый простолюдин, весь согнутый и едва передвигающий свои ноги под большим и очень тяжёлым оберемком сухого хвороста (Н.Лесков). 11. То бабы промеж себя заведутся, водой не разольёшь, за виски растягивали (М.Шолохов). 12. Было это давно, и в то время церкви были маленькие, деревянные, и строили их на «стоянах», или, проще сказать, на столбиках, и под пол таких малых церквей можно было, согнувшись, входить и там прятаться от стужи и дождя (Н.Лесков). 13. Позабрал туман выше темя гор. Красным полымем заря вспыхнула (А.Кольцов). 14. Упал наш Олександрушко, за ёлочку ухватился: «Рости, рости, ёлочка, без верха, живи, живи, Россиюшка, без меня! (Б.Шергин) 15. Тут была беда месяца января в двадцать девятый день. Белы снеги кровию знаменуются. Не в городе, не в поле: в пусте месте четыре человека приходили, четыре ружья приносили. Учинился дым с огнём со всех сторон. Где Пушкин – тут огнём одено, где Дантес – тут как дым (Б.Шергин). 16. Туеса со стеклянно мерцающей смородиной, зевасто открытые миски с калёным, как олифой покрытым, кедровым орехом… голубика и черница тёмной пеной всплывали из вёдер; в щели плетёнок сочилась остатняя, проквашенная морошка (В.Астафьев). 17. Началась работа по устройству жилья. Вдвоём с Лизкой они быстро обкосили вокруг избы, которая, судя по всему, и по первости не отличалась удобствами: вместо рам – чёрные продымленные ставенки – задвижки, вместо дверей в сенцах – жердяные засовы. Пока брат обрубал вокруг кустарник, Лиза загребла из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника – специального проруба в стене под крышей, дым шёл из дверей, из окон, из пазов (Ф.Абрамов). 18. Положили гурьбой золотые снопы. На гумне вперебой зазвенели цепы (С.Есенин). 19. Снежная замять кружит бойко, По полю мчится чужая тройка (С.Есенин).
69. Укажите диалектизмы, профессионализмы, просторечные слова в отрывке из повести Сергея Есенина «Яр».
По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу. Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла. Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам. По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями трепыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши. Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.
— Волки, — качнулась высокая тень в подлунье.
— Да, — с шумом кашлянули притулившиеся голоса. В тихом шуме хвои слышался мерочный ушук ледяного заслона… Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.
На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.
— Кабы лес не крали, — ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.
В запотевшие щеки дунуло ветром. Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.
— Кто едет? — процедил его охрипший голос.
— Овсянники, — кратко ответили за возами.
— То-то!
К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.
— В чапыжнике, — глухо крякнул он, догоняя сивого мерина. Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.
— Идут, — позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.
Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.
70. Выделите специальную лексику, разграничивая термины и профессионализмы, профессионально-жаргонные и просторечные слова. Дайте оценку их стилистическому использованию в контексте.
1. Почему ночью выскочил брак? 2. Допустили нулевые позиции по дизелям, потому что чугунка половину блоков сумела загнать в брак. 3. Модельный цех в жестком прорыве. Перебой с чугунами ликвидирован вечером. 4. Печи ремонтировались, но программа «горела», рабочие не выполняли норм, и заработки их падали. 5. Если зарежем первомайскую программу, то какое уж там «освоение»! 6. Завод третий день лихорадит коленвал. 7. Нет, она не ошиблась. Ни пригаров, ни пролысин на детали не было. 8. Мы с вами намечали ставить вторую пескодувку. 9. Как вести расцеховку фондов и материалов? 10. Как у тебя с испытанием новой конструкции? Сколько часов накрутил?
71. Охарактеризуйте в газетных текстах выделенные слова, определите их значение, стилистическую окраску, подберите к ним общеупотребительные синонимы (за справками обращайтесь к толковым словарям).
1. Это простая швейная машина, какими пользуются все пошивочные фабрики. 2. Одна из самых лучших брючниц ателье — Анна Серова. 3. Лесничий клеймил на порубку деревья. 4. Вчера прислали на кордон рабочих просветлять культуры. 5. Видимо, гроссмейстер выходит на чистое первое место. 6. Спортсмен всю осень готовил новую произвольную программу и сейчас впервые обкатал ее перед зрителями. 7. В таком положении переключателя стрелка прибора должна выйти из желтого сектора и отклониться вправо, причем возможен зашкал. 8. На строительстве двух нулей бригада сэкономила полтора месяца. 9. Герой забега счастливо улыбался: «Ох, и не привык я так долго бегать…» Но тренеры считают, что Олегу всерьез нужно обратить внимание на пятикилометровку, а не держаться только за свою коронную полуторку. 10. Шкурование производится при помощи шкуровки.
72. В приведенных примерах найдите словосочетания, которые могут употребляться как свободные и несвободные, и словосочетания, которые употребляются только как несвободные. Выясните значение фразеологических сочетаний.
Поставить на ноги, лезть в глаза, рука об руку, с глазу на глаз, глаза разгорелись, один как перст, поймать на слове, идти в ногу, брать пример, махнуть рукой, переливать из пустого в порожнее, сесть в лужу, умывать руки, тянуть за язык, плевать в потолок, ждать у моря погоды, идти прямой дорогой, не видать света белого.
73. Найдите фразеологизмы в данных предложениях и определите их значение.
1. Александр Филиппович часто говорил о себе домашним: «Я – калиф на час» (Л. Курбыко). 2. Шубенка на мне, извините, паршивая, на рыбьем меху (А.Чехов). 3. Василий Максимович в душе был очень доволен, однако придирался и ворчал: «Явная потемкинская деревня!» (В. Ажаев). 4. Гусар Пыхтин гостил у нас; уж как он Танею прельщался. Как мелким бесом рассыпался! (А. Пушкин). 5. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона в павлиньих перьях (А. Чехов). 6. Не зная никаких свобод, ежечасно изнемогая на прокрустовом ложе всевозможных укорачиваний, литература не отказывалась от своих идеалов, не предавала их (М. Салтыков-Щедрин). 7. Благосклонный читатель уже знает, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено (А. Пушкин). 8. Чуть попал в столоначальники, уж и норовит икру метать (М. Салтыков-Щедрин).
74. Определите вид ошибки. Исправьте ошибки, связанные с употреблением устойчивых словосочетаний.
1. Эта политика уже приносит положительные плоды. 2. Большое внимание будет оказано благоустройству города. 3. Наши фермеры завоевали мировой рекорд по настригу шерсти от тонкорунной овцы. 4. Не думаю, что найдутся люди, которые стали бы всерьёз исповедовать мнение этого чудака. 5. Василий Иванович от всей души отругал меня за поломку фрезы. 6. Пилот садится в кабину необъезженного самолета. 7. В недалеком прошлом у нас всем зажимали языки. 8. Все мы друг перед другом в непролазном долгу.
II. 1. В этом движении важную скрипку играют христианские демократы. 2. Я не верю политику, который красиво фразы сыплет бисером. 3. В Голливуде начались слухи о том, что будет сниматься биографический фильм о Лиз Тейлор. 4. Для всей школы этот ученик стал басней во языцех. 5. Один за одним друзья вышли из школы. 6. Еще совсем недавно ему пели фимиамы.
III. 1. Нельзя всех мерить под одну гребенку. 2. Получить фиаско может каждый спортсмен. 3. Ночь, наступившая среди бела дня, не могла не навести ужаса на суеверных людей XII века. 4. Прятаться за чужие широкие спины – дело недостойное. 5. Жизнь, как на ладони, проходила на людях. 6. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму восемь рублей. 7. Позаботься впрок о своем летнем отдыхе.
75. Найдите в предложениях ошибки в употреблении фразеологизмов.
I. 1. Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 2. В этих событиях важную скрипку играют военные. 3. Скрепя сердцем он согласился на это предложение. 4. Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 5. Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу. 6. История с коробкой из-под ксерокса во время выборов президента стала, по сути, басней во языцех. 7. Оформление витрины торгового центра желает много лучшего. 8. В школе нельзя всех мерить под одну гребенку. 9. Несмотря на достижения нашего отдела, никто не торопится петь нам фимиамы. 10. Выйдя на трибуну, депутат пообещал говорить по существу и не лить много слов. 11. Его главная ахиллесова пята – неумение организовать свой день. 12. После того как остановилась фонограмма, певец понял, что получил фиаско на глазах публики.
II. 1.. Всю войну она проработала не покладая сил. 2. Как бы ни было трудно, не бойся смотреть правде в лицо. 3. Тихо затаив дыхание, ребята слушали рассказ космонавта. 4. Они словно братья-близнецы: капля в каплю похожи друг на друга. 5. Мы помчались туда очертив голову. 6. У матери отлегло сердце, когда она увидела Павла. 7. Это дешевле, чем пареная репа. 8. Нужен ты мне как банный лист. 9. Говорили о нем как о большом специалисте в своей области, он, дескать, медведя на этом деле съел. 10. Ему было впору биться о стенку.
76. Раскройте скобки, выберите правильный вариант фразеологического оборота.
1. Нужно (воздать дань – отдать должное) этой жемчужине среди славянских библиотек. 2. С началом побед на фронтах люди (распрямились духом – воспряли духом). 3. Прекрасный артист, он (задавал высокий критерий – задавал высокий тон) спектаклю. 4. Игроки (души не чают – душу не чают) в своем тренере.
Раздел 4. Имя существительное
Тема 9. Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Имена существительные общего рода
77. Прочитайте текст. Запишите все существительные в нужной форме.
Сильно одряхлел дедушка, а прежде был молодец ____________. Плохо он видел, плохо слышал; рука _______ и нога _________ дрожали у него от старость _____________: несет ложка ______________ ко рот ___________ – и суп расплескивает.
Не понравилось это сын_____ и невестка______________: перестали они отец_______ с собой за стол сажать, запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашка_________. Задрожали рука__________ у старик_________, чашка выпала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка: стали кормить отец________ из старой деревянной миска__________.
У старикова сын был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на пол____________ и складывает что-то из щепочка__________________.
Что ты делаешь, дитятко? — спросила у него мать, вытирая посуда ______________ полотенце _______________.
Коробочка ________________, — отвечает дитя, — вот как вы состаритесь с тятенька _________________, я буду вас из деревянной коробочка_______________ кормить.
Переглянулись отец с мать ___________________ и покраснели. Перестали с тех пора ________________ старик ______________________ за печь прятать, из деревянной миска __________ кормить.
78. Определите типы лексических значений выделенных слов.
Сдержанно улыбаясь, Давыдов сказал: «А ты, дядя Иван, оказывается, гусь» (М.Ш.). Не такая великая птица командир дивизии, чтобы перед боями перекидывать его с фронта на фронт через Москву (К.С.). «Эх ты, тряпка!» – сказал я (В.К.). Катя посмотрела на меня с негодованием: «Свинья!» (В.К.). Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и одни, как перст, подчас (А.Т.). На заводе Филенкова считали сухарем (Д.Гр.). Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать (А.Ч.). Мы, дети севера, как здешние растения, цветем недолго, быстро увядаем (М.Л.).
79. Запишите в первую колонку одушевленные, во вторую – неодушевленные существительные. Объясните, на основании каких признаков произведено распределение слов.
Мост, полк, чудовище, бактерия, окно, город, толпа, учитель, числитель, стол, кумир, задира, кофе, шимпанзе, движение, мороженое, дружба, комар, истребитель, зверь, городишко, кукла, туз, леший, институт, творец, организация, вожак, авторитет, клуб, поезд, редакция, конференция, ровесник, деятель, информация, народ, личность.
80. Определите род выделенных имен существительных. Объясните, какими критериями вы пользовались при этом.
Нина большая умница. Один финансовый воротила, облаченный в поношенные джинсы и немало испытавшую на своем веку ковбойку, выглядел столь жалким, что так и хотелось сунуть ему монету: может, бедняга давно уже ничего не ел… (В.Сан.) Впереди ехал, опустивзабрало, неизвестный рыцарь. (Л.К.) – А он у вас маленький хитрец, – хвалил Оську несколько смущенный комиссар. (Л.К.) Старший группы – Фисенко, известный всей экспедиции балагури великолепный работяга… (В.Сан.) Я поел щей, взял свой чемоданишко и навсегда покинул нашу андреевскую избу. (С.Кр.) В числе других машин колхоз приобрел у МТС легкийтракторишко для работы с навесными орудиями. (С.Кр.) Десять лет назад гигантская волнацунами смыла все портовые сооружения, а пристань ручной кладки уцелела. Та же цунами слизнула и весь поселок Кадьяк. (ЛГ) Правда, Брагин тоже за эти годы гибче стал, но в общем и целом это был прежде всего деляга. (Д.Гр.) Кофе в чашках подернулся белой пленкой. (В.П.)
81. Назовите признаки имен существительных общего рода. Определите род других существительных (с учётом прямых и переносных значений).
Гуляка, вышибала, запевала, зубрила, воротила, заправила, пьянчуга, молодчина, дурачина, работяга, симпатяга, бродяга, ворюга, хапуга, хитрюга, жаднюга, выскочка, попрошайка, зазнайка, сладкоежка, белоручка, злюка, растеряха, забулдыга, плакса, тупица, гулена, сластена, тихоня, брюзга, невежа, недотрога, недотепа, зануда, обжора, подлиза, разиня, повеса, пустомеля, соня, растрепа, простофиля, шляпа, крошка, лиса.
82. Данные имена существительные распределите по трём группам: I – имена существительные мужского пола; II – имена существительные в форме мужского рода, которые служат для обозначения лиц мужского и женского пола; III – имена существительные общего рода.
Автор, секретарь, студент, лентяй, староста, волейболист, инженер, машинист, друг, аспирант, директор, личность, гуляка, бездарность, гений, агроном, парикмахер, двойник, придира, почтальон, кассир, тихоня, подросток, библиотекарь, жадина, шофер, неряха, геолог, педагог, недоучка, лейтенант, учитель, диктор, директор, персона, повар, неженка.
83. Образуйте формы именительного падежа множественного числа от данных существительных.
а) Профессор, бухгалтер, редактор, том, инженер, шофер, слесарь, катер, корм, лектор, конюх, повар, пояс, хлеб, учитель, мех, шинель, чудо, время, инспектор, парус, рог, снег, бункер, год, китель, прожектор, договор, месяц, свитер, примус, кондуктор, воз, соболь, счет, тон.
б) Козлёнок, зайчонок, щеглёнок, голубёнок, медвежонок, гусёнок, лисёнок, волчонок, мышонок, крысёнок, щенок, грачонок, бочонок, опёнок, маслёнок, орлёнок, лягушонок, цыплёнок, журавлёнок, собачонка.
84. От данных слов образуйте формы ед. ч., если это возможно. Обратите внимание на то, не изменилось ли при этом лексическое значение слова.
Бега, белила, беседы, брюки, бутсы, браслеты, вафли, весы, всходы, вещи, выборы, галеты, георгины, дома, деньги, дрова, загадки, жмурки, кабинеты, клавиши, консервы, каникулы, мелочи, макароны, недруги, ножницы, овощи, окна, обои, очки, патроны, пироги, ребра, сани, сливки, сливы, сумерки, сутки, тополи, тетради, тиски, словари, финики, часы, чернила, шарфы, шахматы.
85. Определите значения падежей имён существительных.
Каждый раз, когда у Андрея собирались товарищи на чтение нового номера заграничной газеты или брошюры, приходил и Николай, садился в угол и молча слушал час, два (М.Г.). Маша снимала комнату в домишке, принадлежавшем старому рабочему паровозостроительного завода (А.Ф.). Фридрих, возившийся у плиты с тряпкой в руке, снял с плиты сковороду с плавающими в жире кусками баранины и вышел (А.Ф.). Я стремительно бросаюсь к столу, наливаю из чайника, накрытого ватником, желтоватый настой в кружку и незаметно опускаю туда весь свой двухдневный паёк рафинада (Л.К.). Кто-то повёл нас в кают-компанию, и мы, смертельно усталые, уселись там в ожидании окончания разгрузки и отплытия (К.С.). По дороге в Тулу, километрах в тридцати или сорока от нее, виднелось несколько подбитых немецких танков, остатки грузовиков и повозок (К.С.). Земля набухала от дождевой влаги и, когда ветер раздвигал облака, млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром (М.Ш.). Косари этой бригады выехали в степь в пятницу утром, а в субботу вечером на квартиру к Давыдову пришел Нагульнов (М.Ш.). Подняв глаза над кружкой, из которой я цежу морковный сок, я осторожно перевожу взгляд на стену (Л.К.).
86. Допишите окончания имен существительных в творительном падеже единственного числа.
Туфл…, бандерол…, вуал…, плацкарт…, табел…, мозол…,тол…, рельс…, шампун…, картофел…, тюл… .
87. Поставьте имена существительные в родительном падеже множественного числа, подчеркните окончания.
Апельсин, грамм, помидор, яблоко, чулок, носок, кочерга, гектар, простыня, свеча, устье, захолустье, рельс, татарин, мандарин, ананас, щенок, грузин, узбек, турок, туфля, полотенце, домишко, подмастерье, опенок, якут, серьга, скамья, судья, копье, колдунья, ожерелье.
88. Поставьте имена существительные в творительном падеже. Объясните, чем вызваны различия в окончаниях.
Населенные пункты Крыма: Ленино, Шубино, Ильичево, Синицино, Багерово, Войково, Куйбышево, Вилино, Кольчугино, Ромашкино, Воробьево, Кольцово, Добрушино, Наташино, Медведево, Лобанино, Клепилино, Калинино, Рошино, Ермаково, Маслово.
Тема 10. Словообразование имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных.
89. Образуйте существительные от глаголов.
Стирать, мыть, открывать, варить, считать, солить, печь, копать, убирать.
90. Определить, каким способом образуются существительные от глаголов.
Выходить, ходить, бить, ремонтировать, вылетать, полетать, смотреть.
91. Образуйте от глаголов существительные.
Петь, щебетать, стрекотать, лаять, шуметь, выть, реветь, пищать, жужжать, рычать, шипеть.
92. Образуйте имена существительные с помощью следующих суффиксов:
а) -ек, -чик, -т: апельсин, абажур, барабан, внук, горох, диван, еж, конец, карандаш, карман, кирпич, ларек, ножик, пряник, палисадник, помидор, палец, кофейник, портфель, поясок, порог, рожок, рукав, стакан, стол, стул, совок, соболек;
б) -ец, -иц(а): Гвинея, Голландия, гололед, доход, каша, книга, кожа, лужа, мороз, рассказ, сюжет, характер;
в) -ец(о), -иц(е), -ц(-е): белье, здоровье, именье, копье, кресло, масло, письмо, растение, селение, строение, счастье;
г) -ечк, -ичк- (иц + к): блюдо, брошь, Ваня, душа, книга, лестница, луковица, пуговица, семья, сито, Тоня, умница;
д) -енк-, -еньк-, -инк-, -к-: басня, башня, береза, бусина, волосы, горошина, душа, диковина, изюмина, завалина, кухня, мама, Петя, скважина, соломина, Юля, яблоня.
93. Образуйте имена существительные с помощью одного из суффиксов: -шик-, ышк-, юшк-. Обозначьте суффиксы и окончания.
Вор, горе, горло, гость, гостья, доля, дума, детина, жена, завод, забор, заря, зверь, кровь, кручина, лапа, невеста, няня, платье, плут, перо, ребро, сарай, сватья, скворец, соловей, хлеб, человек.
94. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание суффиксов существительных.
1. На перекресток из-за рощ…цы колон…а выползет большая. Мадон…а и регулировщица стоят друг другу не мешая (Долм.). 2. Стекольщ…к некий небеса и лес перекрестил безжалостным алмазом (Шефн.). 3. Ты не гляди, что очкар…к, голова у него работает как электронная машина (Чив.). 4. Скромн…ца, но кипит весь — к настоящему делу рвется (Чив.). 5. Огонь полыхал в кедровн…ках с незапамятных времен (Чив.). 6. Тебя я знал бы в плать…цах из ситца (Руч.). 1. Вот Лис…нька моя, охотясь за Бобром, знай вертит перед ним хвостом (Мих). 8. Чем я своих подруж…к хуже? (Мих.). 9. Постоял…ц прибьется к дому, да хозя…н не постучится (Оз.). 10. Но, судьбы моей большая ноша, все же ты, как пер…шко, легка (Алиг.). 11. Письм…цо долгожданное из лазарета… (Недог.).
95. Вставьте пропущенные буквы и объясните правописание слов. Обозначьте суффиксы существительных, указав, от какой производящей основы образованы данные слова.
Вос…мигран…ик, варе…ик, гости…ица, гриве…ик, дровя…ик, дружи…ик, имени…ик, коре…ик, листвен…ица, моше…ик, мали…ик, нефтя…ик, подли…ик, подоко…ик, покло…ик, путешестве…ик, родстве…ик, ряби…ик, сезо…ик, совреме…ик, соплеме…ик, стра…ик, труже…ик.
96. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Сгруппируйте существительные в зависимости от способа образования. Подчеркните словообразующие суффиксы и объясните их правописание.
Арбуз…к, авт…сварщик, бород…ща, воробьишк…, волюшк…, вертушк…, вязалыд…ца, вод…проводч…к, гвозд…к, грузил…, гнезд…ко, грязищ…, голосишк…, дворн…ч…ха, доклад…ца, дядюшк…, желез…бетон, земл…мер, землишк…, зеркальц…, имень…ц…, кипятильн…к, капитал…ц, ковк…сть, колыш…к, лес…тундра, общ…ствовед, пальт…цо, письм…нос…ц, пчел…вод, пыл…сое, письм…цо, плать…це, птиц…лов, ружьишк…, рыж…к, свет…тень, стал…литей…к, словечк…, семечк…, сен…кос, тем… чко, угл…коп, хлеб…ц, хохотушк…, человек…день, шалунишк…, электр…механ…к.
97. Спишите, вставляя пропущенные буквы, объясните их написание. Обозначьте графически суффиксы существительных, где они есть.
1. Все охотн…ки — люди утренние, все танц…ры — ночные, вечерние сущ…ства (Пришв.). 2. У разных деревьев — разные подшефные: подберез…в…ки прячутся под березами, подосин…в…ки — под осинами, а сосны и елки скрывают квартиру рыж…ка, масленка или мох…в…ка. Чтобы не повредить грибницу, срезай гриб под корень нож…ком (Над.). 3. В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельн…цы все еще шумела (Кор.). 4. Терешка-куч…р никогда ничего лишнего не высказывал. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюж…ной заговорщиков (П.). 5. Крышка сосуда снова плотно захлопнулась, и Надежда не вылетела: этого не пожелал громоверж…ц Зевс (Кун.). 6. Ноги Зевса, одетые в сандалии, покоились на скаме…чке, поддерживаемой по краям золотыми львами (Дом.). 7. Охотный ряд получил свое название еще в те врем…на, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотн…ками. На мостовой перед палатками сновали пирожн…ки, блин…ки, торговцы гречнев…ками, жаренными на постном масле. Сбитен…щ…ки разливали, по копейке за стакан, горячий сбитень — любимый тогда медовый напит…к, согревавший извоз…ков и служащих, замерзавших в холодных лавках. 8. Старый Берестов взошел на крыльц… с помощью двух лакеев Муромского. Муромский принял соседей своих как нельзя ласковей, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверин…ц…(П.). 9. Если крестьянская изба напоминала своим ликом хозя…на, то огород — хозяйку: он свидетельствовал о ее характере и сноровке (Аст.). 10. Нижняя часть пирамиды, состоящая из двадцати трех широких ступеней, являлась торжественной, парадной лестн…ц…й, ведущей со всех четырех сторон к храму. Тридцать стройных, ослепительно белых колонн окружали святил…щ… храма и несли его пирамидальную крышу (Дом.). 11. Однажды балованный кот каба…ч…цы, хитрый сластена и подхалим, золотоглазый любим…ц всего двора, притащил из сада скворца (М. Г.). 12. Когда-то, еще в крепостные врем…на, на Лубянкой площади появился деревянный балаган с немудреным зверинц…м и огромным слоном. Теперь на этом месте находится Политехнич…кий музей (Гил.). 13. Большие ворота медленно открылись, и пути…ки вошли в сводчатую комнату (Волк.). 14. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветн…ками, обращен был в некошеный луг… (П.). 15. В сие время за…ц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремя…ный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Муромский, провозгласивший себя отличным наезди…ком, дал ей [лошади] волю и внутренне доволен был случаем, избавлявшим его от неприятного собеседн…ка (П.). 16. В гости…ную втащили большую елку. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхуш…чка согнулась под потолком. Игруш…к оказалось мало. Пришлось опять сесть клеить фунт…ки, золотые орехи, привязывать к пря…н…кам и крымским яблокам серебряные верев…чки (А. Т.). 17. Вен…ч…ки трав качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью (Пауст.). 18. С нами был маленький мальч…к. Он был выдумщ…к, но мы, взрослые, очень любили его выдумки… (Пауст.).
98. От данных слов с помощью суффиксов образуйте существительные.
-Ек-, -ик-: щенок, огурец, орех, кирпич, висок, ящик, год, хрящ, платок, зонт, шалаш, василек, гвоздь.
-Ец-, -иц-: брат, мороз, метель, книга, кожа, вещь, капитал, земля, каша, коса, крупа, лужа, сестра, часть, рассказ, хлеб, варенье, сочинение, пальто, ружье, письмо, масло.
-Ин-, -изн-, -ет-, -есть-, -еств-: нищий, купец, товарищ, прямой, свежий, текучий, всхожий, живучий, певучий, юноша, меньше, достойный.
-Чик-, -щик-: бакен, баня, бетон, гонки, рассказывать, перевозить, грузить, возить, переводить, учет, шифровать, шарманка, часы, резать, кровля, фрезеровать, переплетать, забой, летать, наводить, дрессировать, перебегать, регулировать, обходить, корректировка.
-Еньк-, -оньк-: заря, шуба, нога, лапа, Зоя, Лиза, Вера.
Раздел 5. Имя прилагательное.
Тема 11. Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных. Степени сравнения прилагательных.
99. Дополните предложения прилагательными.
1. Однажды зимой мы отправились в лес. В(…) бору было тихо. Все покрыто (…)снегом. В (…)воздухе носились (…) (…) пушинки. Ветви украсились (…)инеем. В этом (…) (…) наряде каждая ветка казалась (…).
2. Великолепен вид (…) леса. Все покрыто (…) снегом. (…) воздух тонок и жгуч. Снег опушил (…) деревья и кусты. По ним скользят (…) (…) лучи и обсыпают их (…) блеском. Но вот мороз начинает сдавать, и меркнет яркость (…) неба. (…) туча заволокла горизонт.
100. Определитьт разряд прилагательного.
Заячий характер; голубой абажур; деревянный карниз; каменный предмет; великолепный характер; вчерашняя газета; медвежья берлога; волчий аппетит; грустный взгляд; опасное состязание; гусиная кормушка; золотое кольцо; прекрасный вечер; ненастная погода; чистое небо; любимый герой; талантливый художник; звонкий голос; зимнее утро; свежий снег.
101. Распределите имена прилагательные по разрядам (качественные, относительные, притяжательные).
Оловянный солдатик, оловянные глаза, холодный день, длинный поезд, смелый поступок, добрый человек, глупый вопрос, сердечные мышцы, сердечный привет, каменный дом, каменное лицо, короткое платье, толстый мальчик, синий платок, московский метрополитен, детская литература, двойной подбородок, шерстяной костюм, свинцовая пуля, свинцовые тучи, городской парк, тяжёлый портфель, тяжёлая промышленность, глухой старик, глухой согласный, дедов кабинет, Машина работа, синицыно гнездо, гусиная лапка, собачья конура, волчья пасть, волчья шуба, волчий аппетит, оленьи рога, морская пехота, собачий холод, Катюшин велосипед, точильный станок, змеиный яд, змеиная улыбка, постное масло, постное лицо, мышиный хвостик, соседкин сад, грандиозные планы, наблюдательный человек, трагическая судьба, деревянный голос, куриная лапка, куриный суп, беличий воротник, железная воля, дедовы слова, птичий гомон, заячья шапка, декабрьские морозы, школьная форма, Серёжин портфель, Баренцево море, Берингов пролив.
102. Определите сравнительные степени прилагательных и объясните, как вы это сделали. Как вы понимаете смысл пословиц?
1. Доброе братство сильнее богатства. 2. Утро вечера мудренее. (Пословицы). 3. Волнам их воля и холод дороже знойных полудня лучей. (М. Лермонтов). 4. По крайней мере, звук речей казался иногда нежней. (А. Пушкин). 5. Она была на полголовы ниже сестры. (А. Куприн).
103. В отрывках из текстов, принадлежащих к разным стилям, употребите простые или сложные формы степеней сравнения, объясняя свой выбор.
1) Невозможность в устной речи предварительного обдумывания позволяет использовать в ней (более непринужденный, непринужденнее) формы, чем в письменной (Учебное пособие). 2) Если утверждается, что А (более сильный, сильнее) Б и (более сильный, сильнее) В, то устанавливается сравнение между ними, но в то же время А является (самый сильный, сильнейший), предельно сильным относительно этих трех носителей признака (Монография). 3) Различия между мерой и степенью проявляются (более контрастно, контрастнее), если рассматривать признак в динамике и в статике (Монография). 4) Встает нежный ландшафт Украины: от Полесья до самого Черного моря, от Карпат почти до самого Дона… (Самый благодатный, благодатнейший) край! (Из газет). 5) Обычно поздно вечером, управившись с делами, Анюта присаживалась к нему на койку и тоже смотрела на огонь; кто-нибудь в это время рассказывал в темном углу трудный фронтовой случай или что-нибудь (более веселое, веселее, повеселее) из довоенного прошлого (Повесть). 6) С того вечера она стала еще (более веселый, веселее, повеселее), с беззаботной ловкостью прыгала между носилками, шутила с бойцами (Повесть). 7) Он привязался к Анюте, как к (самый молодой, младший) сестре, а может, даже и больше (Повесть). 8. Твардовский был (самый образованный, образованнейший) человеком и читателем (Критическая статья).
104. Укажите ошибки в употреблении прилагательных, исправьте их.
1) Оценка знаний абитуриентов должна быть гибче, чем сейчас. 2) Нет ничего более худшего, чем ложь и грубость, допускаемые взрослыми по отношению к детям. 3) Писатель показывает, как человек с самыми человеческими задатками теряет их. 4) Решение этой проблемы является наиболее важнейшей задачей. 5) Наши наблюдения показали, что все это требует наиболее серьезного подхода к делу. 6) Цифры — самое убедительнейшее доказательство снижения инфляции. 7) Пушкин сыграл очень выдающуюся роль в развитии русской литературы. 
Тема 12. Правописание суффиксов прилагательных. О/Е после шипящих, н/нн в суффиксах прилагательных.
105. Вставьте пропущенные буквы. Объясните свой выбор.
Посоль_ое здание, ангель_ий вид, кандидат_ий минимум, офицер_ие погоны, июль_ий зной, бунтар_ий дух, смолен_ие леса, богатыр_ий сон, папуа_ий танец, деревен_ий образ жизни, киргиз_ие степи, таджик_ий ковёр, вяз_ая почва, дерз_ий ответ, звер_ое обращение, рыбац_ие сети, близ_ое расстояние, мужиц_ий дух, город_ой пейзаж, кур_ие соловьи, вес_ий аргумент, близ_ие отношения, рез_ий тон, сель_ий дом.
106. Спишите текст, добавляя окончания прилагательных. Укажите падеж прилагательного и графически обозначьте его окончание.
Была ясн… летн… ночь. Луна светила весело и спокойно; она заливала своим серебром поляны и дороги, пронизывала холодными лучами леса, золотила реки. В эту самую ночь из дверей переселенческ… барака крадучись вышел Сёмка, вихраст… бледнолиц… мальчик лет одиннадцати, огляделся, перекрестился и вдруг побежал что было мочи по направлению к бескрайн… полю, откуда начиналась «расейск…» дорога. Боясь погони, он часто оглядывался, но никто за ним не бежал. И он благополучно достиг сначала поляны, а потом и трактов… пути. Здесь он остановился, подумал и потихоньку пошел вдоль по широк… дороге.
107. Напишите прилагательные в краткой форме мужского рода.
Буйный, бесчисленный, бездейственный, безукоризненный, безнравственный, бесчувственный, блестящий, воинственный, величественный, горячий, достойный, двусмысленный, жгучий, искусственный, колючий, многочисленный, могучий, мужественный, непреклонный, невежественный, несомненный, ответственный, посредственный, пахучий, родственный, свойственный, торжественный.
108. Перепишите примеры, согласовывая поставленные в скобках прилагательные с существительными, к которым они относятся. Выделите окончания.
1) В (сонный, застывший) воздухе стоял монотонный звон. 2) Егерь заранее осматривает (волчий и лисий) тропы. 3) Слух о пожаре быстро разнесся по (окрестный помещичий) усадьбам. 4) Во дворе слышался гул (ребячий) голосов. 5) Удивительных пернатых увидели мы на (птичий) базаре. 6) Веселое оживление царило в (рыбачий) поселке. 7) В его взгляде было какое-то беспокойство, изобличавшее (внутренняя) борьбу эмоций. 
109. Вставьте пропущенные буквы.
Бо…вой, беж…вый, дар…витый, дел,..вой, дом…витый, заботл…вый, заносч…вый, краен…ватый, луг…вой, прыщ…ватый, угл…ватый, угр…ватый, щегол…ватый, глянц…вый, ковш…вый, пальц…вой, парч…вый, рыж…ватый, сланц…вый, свинц…вый, старуш…чий, кош…чий.
110. Образуйте имена прилагательные с суффиксами -к- или -ск- от данных ниже слов.
Вязнуть, Волга, Астрахань, богатырь, калмык, казах, кабак, матрос, низ, дьявол, узбек, Сибирь, Урал, Одесса, Томск, рыбак, знахарь, декабрь, приятель.
111. От данных слов с помощью суффиксов образуйте прилагательные.
-К-/-ск-: кандидат, гигант, лейтенант, горняк, рыбак, турок, Урал, посол, Астрахань, конь, богатырь, январь, Полесье, матрос, дилетант, Елец, Норвегия, казах, казак, словак, бедняк.
-Лив-, -чив-, -ив-, -ев-: придира, отзыв, обида, эмаль, правда, расчет, дождь, привереда, непоседа, причуда, забывать, уживаться, каракуль, марля, соя, корень, находить, стиль, стержень, предпринимать, разговор, калий, магний, красота, доля, лесть, нуль, грязь, совесть, кокетничать, спесь, тень, играть, зависть, жалость.
-Оват-, -еват-: белый, крючок, ноздри, синий, розовый, молодец, слабый, темный, сладкий, грубый, рыжий.
-Оньк-, -еньк-: хороший, плохой, высокий, жалкий, мелкий, глубокий, черный, слабый, свежий, сладкий, кислый, дешевый, красивый, молодой, старый, худой, легкий, сухой, родной, мягкий.
-Чат-: брусок, решетка, клетка, сетка, чешуйка, колено, крупица, веснушка.
112. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы.
Уступч..вый, январ..ский, плюш..вый, прожорл..вый, молодц..ватый, стар..нький, кумач..вый, ноябр..ский, угр..ватый, свинц..вый, разговорч..вый, богатыр..ский, кра..вой, тих..нький, клязьм..нский, сторож..вой, керч..нский, продолг..ватый, пенз..нский, ялт..нский, красив..нький, завистл..вый, рыж..ватый, молодц..ватый, син..ватый, обидч..вый, разговорч..вый, расчётл..вый, грязн..ватый, бел..ватый, лёг..нький, тих..нький, милост..вый, алюмини..вый, юрод..вый, тюл..вый, вин..ватый, ноздр..ватый, кольц..вой, тен..вой, кукуш..чий, старуш..чий, узорч..тый, черепи..чатый, ступен..чатый, бревен..чатый, фрунз..нский, взрывч..тый, брус..атый, весну..атый, бороз..атый, до..атый, рыцар..ский, рязан..ский, день-ден..ской, тянь-шан..ский, декабр..ский, сентябр..ский, губч..тый, звёз..атый, надоедл..вый, сегодн..шний, форел..вый, лазор..вый, натри..вый, нутри..вый, убог..нький, краснопресн..нский, грозн..нский, масл..ные руки, масл..ные брюки, масл..ные краски, масл..ное пятно, масл..ная каша, ветр..ная мельница, ветр..ной двигатель, ветр..ная оспа, ветр..ная девушка, масл..ная неделя, ветр..ное поведение.
113. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы; раскройте скобки. Сделайте полный морфологический разбор слов, над которыми поставлена цифра 3;.
1. Этот (трёх) суточный бой за Цариц..н начался штурмом города при по..держке ураган..ого3 огня кораблей (Федин). 2. Гусь степен..ый в луж.. моет свой гусин..ый3 красный нос (Исаковский). 3. Над омутами каждой реки трудятся мельниц.. водян..ые (Щипачев). 4. (Полутора) тон..ки готовы, в порядке фонд сем..ной (Щипачев). 5. Пр..ятна со..нца утрен..яя весть и полотенце свежест..ю льнян..ою3 (Щипачев). 6. Сам граф подушки поправлял, медвеж..ю3 полость в ноги стлал (Некрасов). 7. Нынче де..кий бал.. (Некрасов). 8. Её грудь тр..петала от соч..ного искр..него смеха (М. Горький). 9. Я солнц..в3 брат, и зимн..ю порою чудес не меньше солнца строю (Крылов). 10. Измученные извоз..ич..и3 лошади лёг..нькой рысц..й тащили нас в гору (Писемский). 11. Обедал он и ужинал во вдов..м доме: мать, возвр..щаясь из общ..й столовой3, тайком пр..носила ему половину своей скудной порц.. (Куприн). 12. Она осядет от дождей, от снега в ледя..ые3 ночи (Шипачёв). 13. Это насле..ство в конечном сч..те создано энергией рабоч..го клас..а и поэтому является пополам (Исаковский). 19. Она имела полное пр..дставление о некоей ветр..ной3 москвич..ке Оле Нечаевой (Катаев). 20. Вернулся Тиунёв, (сорок..) (пят..) летний человек с седыми вихрами на остр..м, дыней, черепе, с жид..нькой сед..ватой бородёнкой на костлявом лице (М. Горький). 21. За полями далеко, в сирен..вом туманце кудрявые пер..лески (Гладков). 22. Глухо, грус..но звенят тополя, Ольг..нский мост открывается под ясн..й луной (Каверин). 23. Он не мог отвести взгляд от небольш..й дверц.. сам..лёта и от лё..кой алюмин..вой лес..нки (Каверин). 24. У крыльца комендан..ского дома казак держал под уз..ц.. пр..красн..ю бел..ю лошадь кирги..ской п..роды (Пушкин). 25. Пенз..нская губерния была об..явлена на осадном положени.. (Федин). 26. Я прочёл души доверч..вой пр..знан..е (Пушкин). 27. Был послеобеден..ый час ветр..ного август..вского дня (Кузьмин). 28. Ивы на пес..аном откосе под солнцем – (серебр..но) голубые (Кузьмин). 29. Собрались пр..хожане у чащи, лихоман..ую грусть затая (Есенин). 30. Твоя обветр..ная кожа лучила гречн..вый пушок его закон..ейшим3 насле..ством (М. Горький). 14. Из темноты, с доски камин..ой вдруг стали играть часы (Симонов). 15. Вдали раздался барабан..ый бой (Федин). 16. Время от врем..ни мы откачивали воду берест..ным ковш..м (Арсеньев). 17. Заходил продавец из соседн..й зелен..ой лавки (Арсеньев). 18. Это я, оратор безымян..ый, сеял хлеб с тоскою (Есенин). 31. И нефть, попав из бака в водоём, павлин..ий3 хвост внезапно распустила (Мартынов). 32. Но равнин..ая синь не лечит (Есенин). 33. Но вовек благосл..вен..ы на земле сирен..вые ночи (Есенин). 34. Лан..ий зов скво..ь сон услыхал олень (Есенин). 35. И нежно охает ячмен..ая солома, св..сая с губ к..вающих коров (Есенин).
114. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы н или нн. Обоснуйте ответ.
Ю..ый, ю..ат, серебря..ый, авиацио..ый, дли..ый, оловя..ый, пря..ый, урага..ый, дискуссио..ый, лебеди..ый, ветре..ый, ветря..ой, безветре..ый, осе..ий, утре..ий, утре..ик, стекля..ый, труже..ик, сребре..ик, серебря..ый, серебря..ка, бессребре..ик, семе..ой, ледя..ой, клюкве..ый, конопля..ый, конопля..ик, воробьи..ый, соловьи..ый, стреме..ой, семе..ой, краснознамё..ый, торжестве..ый, жизне..ый, стари..ый, гости..ая, гости..ица, масле..ый, масле..ица, ветре..ица, ва..ая, пле..ый, це..ый, пья..ый, рья..ый, румя..ый, румя..а, огне..ый, песча..ый, ремесле..ый, второстепе..ый, пенсио..ый, глиня..ый, звери..ый, потомстве..ый, драгоце..ый, бульо..ый, плоскодо..ый, полуде..ый, дикови..ый, недюжи..ый, овчи..ый, инфекцио..ый, сочувстве..ый, семистру..ый, бесчисле..ый, дружестве..ый, овся..ый, единовреме..ый, муравьи..ый, маши..ый, мыши..ый, сви..ой, свини..а, дровя..ик, нефтя..ик, мали..ик, оси..ик, ряби..ик, дружи..ик, моше..ик, ветре..ик, сторо..ик, смышлё..ый, ко..ица, подветре..ый, песча..ик, путешестве..ик, влася..ица, више..ик, выветре..ый, куре..ой (атаман).
Тема 13. Правописание сложных прилагательных.
115. Запишите в один столбец сложные прилагательные, а в другой – прилагательные, образованные от сложных существительных. Какие из них вы напишете через дефис и почему?
(Темно)каштановый, (водо)проводный, (светло)голубой, (ярко)красный, (сельско)хозяйственный, (серебристо)белый, (кисло)сладкий, (иссиня)черный, (паро)ходный, (верто)летный, (ледо)кольный, (тепло)возный.
116. Запишите сложные прилагательные в два столбика: в первый запишите те, которые образованы из сочетаний слов, по своему значению подчиненных одно другому, во второй – те, которые образованы из двух независимых друг от друга слов.
Образец: русско-немецкий – русский и немецкий – слова, независимые друг от друга; железнодорожный – железная дорога, слово железная подчинено слову дорога.
Целлюлозно-бумажный, осенне-зимний, журнально-газетный, древнеру(сс,с)кий (язык), ру(сс,с)ко-французский (словарь), нефтеналивной, левобережный, желто-красный, сельскохозяйственный, чугу(нн,н)олитейный, научно-фантастический, западноевропейский, среднеазиатский.
117. Перепишите сложные прилагательные, раскрывая скобки и объясняя их правописание.
(Хлопчато)бумажный, (двух)комнатный, (физико)математический, (плодово)ягодный,(стале)литейный, (англо)русский, (учебно)производственный, (средне)вековый, (зеленовато)серый, (научно)исследовательский, (электронно)вычислительный, (паровозо)ремонтный, (хлопко)уборочный, (юго)восточный, (трех)метровый, (старо)славянский (язык), (фабрично)заводской, (приемо)сдаточный (пункт).
118. В следующих сочетаниях слов замените выделенные слова прилагательными. Запишите прилагательные вместе с существительными.
1. Дело первой очереди; 2. Здание в девять этажей; 3. Завод, строящий корабли; 4. Бумага, чувствительная к свету; 5. Многоугольник с ровными сторонами; 6. Фабрика, на которой прядут шерсть; 7. Плодовые и ягодные культуры; 8. Женщина с седыми волосами; 9. Завод, ремонтирующий вагоны; 10. Мужчина с широкими плечами; 11. Словарь русский и немецкий; 12. Производство писчей бумаги; 13. Требования санитарные и гигиенические; 14. Секция легкой атлетики; 15. Комбинат, выпускающий мясную и молочную продукцию; 16. Человек, любящий труд.
119. Перепишите предложения, раскрывая скобки и образуя сложные прилагательные.
1. Немало способных юношей и девушек ежегодно поступают на (физический) математический факультет. 2. При педагогическом университете организован (учебный) консультационный пункт, при нем имеется (учебный) методический кабинет. 3. Что такое (учебный) воспитательный процесс? В нем три слагаемых: наука, мастерство, искусство. (В. Сухомлинский). 4. (Литературный) художественная деятельность принесла ему известность. 5. Перед туристами возник (живо) писный пейзаж с (быстро) падающим водопадом. 6. Перед туристами (быстро) падающий с высоты поток.
120. Образуйте сложные прилагательные из следующих сочетаний и запишите их.
Сложные сокращенные слова, эмоциональная экспрессивная лексика, экономический философский факультет, сложные сочиненные предложения, пепельный серый цвет, написанный на машинке текст, квадратный гнездовой способ.
Раздел 6. Имя числительное. Местоимение.
Тема. 14. Имя числительное. Разряды имен числительных. Правописание имен числительных
121. Запишите текст, определите разряд числительных.
22 августа 1880 года а Петербурге появился первый трамвай. Но только в 1892 году в Киеве началось трамвайное движение. Длина первой ветки была 1,6 километра. Первый в нашей стране метрополитен был открыт а Москве 15 мая 1935 года. Протяженность первой линии была 11, 6 километра, и она имела 13 станций.
122. Определить разряды числительных по значению.
1) 15 февраля 1906 года родился известный татарский поэт Муса Джалиль. 2) Мусе не было и шести лет, когда он стал проситься в школу. 3) Муса за один год овладел программой всех четырех классов сельской школы. 4) В 1941 году Муса добровольцем отправляется на фронт.
123. Замените (где возможно) количественные числительные числительными собирательными:
3 (девушки), 4 (гусята), 5 (брюки), 7 (тетради), 2 (друзья), 15 (козлята).
124. Образуйте из словосочетаний сложные прилагательные. Запишите их.
Юбилей в 90 лет, мороз в 40 градусов, жара в 38 градусов, высота в 900 метров, дом с 450 квартирами, коллектив в 1,5 тыс. человек, расстояние в 340 километров, бак на 200 литров, город с населением в 1,5 млн человек.
125. Перепишите текст, заменив цифровые обозначения словами. Определите падеж числительных.
Карат
Карат — единица веса драгоценных камней.
Когда-то при взвешивании драгоценностей употреблялись зерна, почки или бобы. Карат- это вес боба. Он равен 0,2 грамма.
Большинство алмазов имеют небольшой вес. Камни в 1-2 карата считаются уже большими. Алмазу больше 20 каратов присваивают имя, как человеку. Такие камни известны во всем мире.
Самый большой алмаз — «Куллинан», найденный в начале XX века в Южной Африке. Весил он 3106 каратов. Никто в мире его не мог купить. Его пришлось расколоть на части. Получилось 105 разных по весу бриллиантов. Самые крупные из них: «Звезда Африки» — весит 530,2 карата, «Куллинан II» — 317,4 карата. Они украшают теперь корону и скипетр королей Англии.
126. Перепишите текст, заменив цифровые обозначения словами. Определите падежную форму числительных.
Все знают Останкинскую телебашню — самое высокое сооружение в Европе. Ее высота вместе с антенной около 539 метров. Она построена в 1967 году.
Но первая телебашня в Москве построена в 1922 году знаменитым русским инженером Владимиром Григорьевичем Шуховым, поэтому ее называют Шуховской. Эта ажурная стальная конструкция высотой в 160 метров предназначалась для антенны радиостанции. Именно отсюда в 1937 году начались первые регулярные опытные телепередачи в нашей стране.
127. Найдите ошибки в употреблении числительных и существительных при них.
1. Кондрат Булавин вступил в город с тысячью солдатами. 2. Он сумел выбраться из окружения с полтораста лошадями. 3. Начиная своё дело, молодой банкир располагал только десятью тысячью рублями. 4. О тридцати двух рублей пришлось забыть. 5. Компания выплатила премию тридцати старейших сотрудников. 6. Эту роль репетировали трое молодых актрис театра. 7. Трое подруг весело болтали всю дорогу. 8. Деревня находится в полтора верстах от станции. 9. Более полтора тысяч участников митинга поддержали эту резолюцию. 10. Двадцать трое щипцов заказал цех на складе. 11. Три сутки плутал я по тайге. 12. Трамвайная остановка находится в полтораста шагов отсюда.
Тема 15. Разряды местоимений. Правописание местоимений.
128. Впишите пропущенные местоимения, определите разряды, расставьте недостающие знаки препинания. При затруднении обращайтесь к материалу для справок.
Антипыч как-то особенно поглядел на ………. и собака сразу поняла человека: ……… звал ………. по приятельству, по дружбе, ни для ………, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом стала снижаться на ногах все ниже и ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ………., …….. как вдруг вскочит и лапами на плечи – и чмок, чмок ………….. : и в нос и в щеки и в ………..губы.
Слова для справок: чего, её, его, самые, она, неё, он
129. Найти начальную форму каждого из данных местоимений, определить его разряд.
С ним, мимо нее, изо всех, под нами, ко мне, обо всех, со всякими, при каждом, об ином, без всякого, во всю, ко всему, каким-то, никому, о скольких, при некоторых, предо мной, изо всех сил, перед ним, со всем, со мной, ото всех, о себе, с нами, перед тобой, с ним, во всяком случае, перед кем, в них, от нее, в нем, с ними, во всех, со своей, за ним, на нас, на себя, от них, перед нами, во всем, к нам, перед собой, при тебе, на нем, во все, к тебе, под нами, с некоторых, в нескольких, под собой, про тебя, за мной, с тобой, надо мной, во всех, вокруг нас, возле нее, после него, к нам, против нас, во мне, с кем, со всеми, на тебя, обо всем, о чем, до нас, с кем, никаким, кое у кого, ни перед кем, впереди них, с каким-то, к себе, о чем, не по себе, о всяком, ни за кого, не к чему.
130. Выписать из данных предложений местоимения, определить их начальную форму и записать.
1) Никому из нас не хотелось их огорчать. 2) Он ни с кем о вас не говорил. 3) Кое-что для него мне удалось сделать. 4) Он ни в чем мне не отказывал, во всем старался помочь.
131. С местоимениями составить предложения.
Нас, нам, нами, вас, вам, вами, их, им, них, его, ему, ей, ее, тебя, тобой, тебе, меня, мной, собой, тех.
132. Придумать предложения с данными оборотами, определить разряд местоимений.
Во все глаза; ни с того ни с сего; со всех ног; на свою голову; во весь опор; изо всех сил; во все лопатки; ни за что, ни про что; во все горло; на все руки.
133. Переделать отрывок, заменив, где нужно, повторяющиеся местоимения существительными.
И. С. Тургенев — замечательный русский писатель. Имя его известно во всем мире. Детство он провел в деревне. Он дружил с крепостными своей матери. Он хорошо знал жизнь крепостных крестьян. Он учился русскому языку у народа. В «Записках охотника» он с любовью показал умных, честных, благородных, добрых трудолюбивых крестьян и чудесную русскую природу.
(Примерные слова для вставки: писатель, мальчик, Иван Сергеевич, Тургенев, автор.)
134. Спишите, вставляя подходящие предлоги. Определите падежи местоимений.
1) Егор сидел рядом … мной. 2) Ты всегда был строг … мне. 3) Сердце … мне сжалось. 4) Вникните … всё это хорошенько. 5) Все принялись хохотать … мною. 6) Вспомните … мне. 7) Мелькнуло … мною моё детство. 
135. Замените существительные в скобках местоимениями 3-го лица; где надо, добавляйте к местоимению н. Определите падежи этих местоимений.
1) Будет буря, мы поспорим и поборемся мы с (бурей). 2) Поутру над (Невы) брегами теснился кучами народ. 3) Под (парусом) струя светлей лазури. Над (парусом) луч солнца золотой. 4) Буре плач (Терека) подобен. 5) У ног (Рагима) плескалось море. 6) С (Онегиным) подружился я в то время. Мне нравились (Онегина) черты.
136. Спишите, подчёркивая отрицательные местоимения и ставя в них ударения. Укажите падежи этих местоимений.
1) Его никто не заметил, никто не удерживал. (Т.) 2) Через пять минут никого не осталось на улице. (М. Г.) 3) Больше ждать было некого. (М. Г.) 4) Ничего не трогало его [Онегина], не замечал он ничего. (П.) 5) Никто ничего не узнал о происходившем. (Герц.) 6) Мне решительно скрывать нечего. (Т.) 7) А теперь мне выехать не на чем, некому лошадей подковать. (Г.) 
137. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
1. (Н…)чья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует (Бут.). 2. Пилат повернулся и пошел к помосту, назад к ступеням, не глядя (н…)(на) что, кроме разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться (Булг). 3. Но (н…)какого Коровьева так и не нашли, и (н…)какого Коровьева (н…)кто в доме не знал и не видел (Булг.). 4. Стало совершен…ясно, что Никанор Иванович (н…)(к)каким разговорам не пригоден (Булг). 5. Больше (н…)что не тревожило друзей (Биан). 6. Пастух клялся потом, что зверь шел через лес, (н…)(на)кого не обращая внимания (Биан.). 1. Настоящую нежность не спутаешь (н…)(с)чем, и она тиха (Ахм.). 8. Скучен день до вечера, коли делать (н…)чего (Посл.). 9. (Н…)(с)кем мне поговорить и (н…)кого послушать (Ч.). 10. Но (н…)кому мне шляпой поклониться, (н…)(в)чьих глазах не нахожу приют (Ес.). 11. Все были уверены, что он [Дубровский], а (н…)кто иной, предводительствовал отважными злодеями (П.). 12. Ей казалось, что (н…)кто, кроме него, не мог снять с (она) непоправимой вины, невыносимой тяжести (Пауст,). 13. Скован…ый (н…) чем непреодолимой усталостью, я уже не слышал, (н…)кто пререкался с хозяином, (н…)что явилось причиной спора. 14. (Н…)что не нарушало тишины. 15. В Мещёрском крае нет (н…)каких особен…ых красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха (Пауст.). 16. Больному мог помочь только хирург и (н…)кто другой. 17. Этот цветок (н…)что иное, как нарцисс. 18. Дверь захлопнуло порывом ветра, а (н…)чем иным.
138. Спишите, вставляя вместо точек е или и.
1) Я окликнул хозяев – н…кто не отвечал мне. Я отправился на двор, и там н…кого не было. 2) Долго не находил я н…какой дичи. 3) Я н…чего не слышал, кроме шума листьев. 4) Мне н… на кого пенять – сам виноват. 5) Подружиться, действительно сблизиться он н… с кем не мог. 6.) Оба они н… к чему не имели особой страсти или привязанности. 7) Н… в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища. 
139. Напишите не или ни слитно или раздельно, как того требуют правила.
1) В стремительный пляс пустился (не, ни) кто иной, как электрик. (Н О.) 2) (Не, ни) кто иной не умел делать того, что он умел. (М. Г.) 3) Нужно, чтобы дело это было поручено (не, ни) кому другому, как первому и лучшему актёру-художнику, какой отыщется в труппе. (Г.) 4) (Не, ни) кому другому этого поручить было нельзя. 5) Я целыми днями читал, (не, ни) чем иным заниматься не хотелось. 6) Этот провал [в Пятигорске] есть (не, ни) что иное, как потухший кратер. (Л.) 7) Гость был (не, ни) кто другой, как наш почтенный Павел Иванович Чичиков. (Г.) 
140. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Выяснить (кое)какие подробности, (кое)(о)чем сообщить, с кем(либо) посоветоваться, (кое)(с)кем переговорить, какие(то) неприятности, чьи(нибудь) возражения, (кое)(в)ком ошибиться, (кое)(на)кого надеяться, о чем(то) договориться, уехать куда(нибудь), где(то) заночевать.
Раздел 7. Глагол.
Тема 16. Вид глагола. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
141. Используя приставки, образовать от глаголов несовершенного вида глаголы совершенного вида: верить(н.в.)- поверить(с.в.) .
Чувствовать ,ужинать, делить, вязать, прятать ,возить, шить, стараться, таять, верить, видеть, делать, шутить ,чертить ,тонуть ,гасить, учиться ,брать, пугаться, мучить, помнить, желать, гордиться, готовить.
142. От глаголов совершенного вида с помощью суффиксов образовать глаголы несовершенного вида :успеть (с.в.) –успевать(н.в.).
Открыть, завоевать, доказать, вылечить, выдержать ,воспитать, сложить, взвесить, учесть, указать, спросить , сплотить, достать, вытолкнуть.
143. К неопределенной форме глаголов подобрать видовую пару. От каждого из глаголов образовать форму 1-го лица единственного числа, обозначить вид : повторять-повторяю(н.в.);повторить-повторю(с.в.)
Прибыть, заходить, брать, войти ,вынуть ,сдать, узнать ,восстать, вскрыть, передать, добыть, заболевать, овладеть, отдать, привлекать, исполнить, развивать , лечь, исчезать, изобрести, избегать, догонять, выйти ,двигать, уточнить, уничтожить, ошибиться, напрячь ,лишать, наносить, ударяться, повторить, публиковать, принести.
144. Подобрать к глаголам видовую пару, подчеркнуть чередующиеся согласные, указать вид. С несколькими видовыми парами составить предложения: оформить(с.в.)-оформлять(н.в). пригласить (с.в.) – приглашать (н.в.).
Приглашать, защищать, снабдить, провожать ,отразить ,обсудить, составить, являться, возмущаться ,встречать, сгустить ,наряжать, посетить, оформлять, предупредить.
145. Составить предложения с глаголами, видовые пары которых имеют разные корни , определить вид.
Готовить (сказать ), взять (брать ), класть (положить ), поймать (ловить ), садиться (сесть ), ложиться (лечь ), стать (становиться ), находить ( найти ) .
146. Прочитайте предложения. Скажите, где глаголы несовершенного вида констатируют факт действия и где они передают процесс действия.
1.– На скамейке сидела девушка и читала книгу. Читали ли Вы роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»? – Конечно, читал. 2. – Спасибо, я уже пил чай. Алексей Иванович сидел в кресле и пил чай. 3. Когда мы пришли, все уже сидели за столом и обедали. Было ещё очень рано, но мы сегодня уже обедали. 4. Профессор говорил тихо, слушать его было трудно. Брат говорил мне, что ты хороший спортсмен. 5. Этот фильм я смотрел. Когда я смотрел этот фильм, я вспоминал своё детство.
147. Подчеркни разноспрягаемые глаголы
Хотеть, бегать, вбежать, объесться, давать, раздаться, захотеть, забежать, задать, убегать, желать, нестись.
148. Вставь пропущенные буквы, в скобках укажи спряжение глагола.
Всё небо заволокло тёмными тучами. Покаж..тся (__) солнце, обдаст (___) блеском седой океан и вновь скро..тся (__) за тучами. Ветер во..т (__), свистит (__) в ушах, сотряса..т (__), гнёт (__) их. Матросы держ..тся (__) за них. Когда волна обдаёт (__) их брызгами, они отряхива..тся (__) от воды и смотр..т (__) на мостик. Там сто..т (__) капитан. Он не спал всю ночь, ему хоч..тся (___) отдохнуть, но он отдаёт (__) распоряжения. «Убрать паруса!» — приказыва..т (__) он. Матросы выполня..т (__) приказ. (По К. Станюковичу.)
149. Перепишите приводимые ниже предложения, вставляя пропущенные буквы. Над каждым из глаголов укажите переходный он или непереходный.
1. Отечественная война осирот…ла многих детей. 2. В небе набирались тучи… Проходя над горами, они отяжел…ли и обессил…ли (Кор.). 3. Я тоже плотником был, да вот обезруч…л в Карпатах (Пришв.). 4. Земля во время засухи совсем обезвод…ла. 5. Автмо- бильная авария навек его обезнож…ла. 6. Брюшной тиф, обескров…- вший отряд, подобрался и к Павлу (Н. Остр.). 7. После очистки мирабилит обезвод…ли. 8. Колеса брички, захватывая ее [грязьі, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отя- жел…ло экипаж (Г.). 9. Длительный переход в горах всех нас обесс..лил. 10. В одном селе возле Блудова болота в районе города Переел авль-Залесского осирот…ли двое детей (Пришв.).
Тема 17. Наклонения глаголов
150. В приводимых ниже предложениях найдите глаголы, укажите их время и наклонение.
1. Да здравствует солнце, да скроется тьма! (П.). 2. Воротить, воротить его! (Г.). 3. По привычке я поднимаю руку, точно прошу старта у ненцев:—До свиданья, товарищи. Летим!.. (Кавер.). 4. Пусть сильнее грянет буря! (М.Г.). 5. Дай-ка я на память у дороги вишню посажу (Исак.). 6. Мы будем нести, несли и несем — его, Ильичёве, знамя (В. М.). 7. Вот и сыграли бы нам (В. Сол.). 8. Вдруг Аночка сжала ей пальцы своей худенькой рукой и пробормотала: — Пойдемте посмотрим! Там всего много, много! (Фед.). 9. Лишь бы люди научились думать, а до правды они додумаются (М.Г.). 10. Не боли ты, душа! Отдохни от забот! Здравствуй, солнце да утро веселое! (Никит.). 11. Если бы сейчас товарищи слезли с коней, стащили меня за ногу и отколотили, я бы не обиделся, даже почувствовал бы облегчение… (А.Н.Т.). 12.— Ты оставайся тут,— сказал он Ванину,— а я пойду во вторую (Сим.). 13.— Читай, читай вслух,— зашумели рабочие (Попов). 14.— Спать бы шел и гостю б покой дал, — донесся с печки тихий голос хозяйки (Б. Пол.).
151. В приводимых ниже примерах повелительное наклонение замените неопределенной формой глагола или наоборот: неопределенную форму — повелительным наклонением.
При спуске с горы будьте начеку! 2. Дневальный скомандовал курсантам: «Встаньте! Постройтесь по одному!». 3. «Замолчать!» — крикнул отец не в меру расшумевшимся детям. 4. Раздалась команда боцмана: «Сушите весла!». 5. На задней стенке многих грузовых машин появились надписи, предостерегающие водителей автомашин: «Резко не тормозите!», «Не уверен — не обгонять!», «Быть внимательным на поворотах» и другие. 6. Возле выключателей во многих классах училища висят плакаты: «Экономить электроэнергию! Уходя, гасить свет».
152. Образуйте повелительную форму единственного числа от приводимых ниже глаголов.
Положить, затормозить, садиться, трогать, взглянуть.
153. Замените: 1) повелительное наклонение условным и 2) условное наклонение повелительным. Объясните, изменился ли смысл фраз.
Скажи он об этом раньше — мы успели бы все сделать вовремя.
Если бы спортсмен выиграл еще несколько секунд в беге, команда заняла бы первое место.
154. Выпишите отдельными столбиками глаголы 1) неопределенной формы, 2) безличные, 3) возвратные, 4) переходные, 5) непереходные, 6) глаголы условного наклонения, 7) глаголы повелительного наклонения.
1. Тираны мира! Трепещите! А вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы! (П.). 2. Крепни и славься в битвах веков, Красная Армия большевиков (М.). 3. Хотел бы очень сам я посудить, твое услышав пенье. (К.). 4. Приляг-ка, брат, и отдохни, да коли хочешь, так сосни (К-)- 5. Что ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица (К-). 6. Хочется подышать свежим воздухом. 7. Что-то нездоровится мне сегодня. 8. Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б знать могли они, что творилось с Гришею (Н.). 9. …Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин (М.).
Тема 18. Безличные глаголы. Правописание суффиксов глаголов.
155. Определите, в каких предложениях употреблен личный глагол, а в каких – личный глагол в безличном значении.
1. Пахло зацветающей рожью. 2. Растение сильно пахнет. 3. Из-за туч тянет ветром. 4. Он тянет лошадь под уздцы. 5. Темнело быстро. 6. Что-то темнело вдали. 7. С крыши капало. 8. Молоко капало на пол.
156. Укажите номера предложений с безличными глаголами в роли сказуемого.
1. Землю подморозило. 2. Все похрустывает. 3. Морозец освежает лица. 4. Пахнет ноябрем. 5. Ветерок за собой манит. 6. Нам дома не сидится.
157. Спишите, вставьте пропущенные буквы.
Надо было торопит…ся. Километра через два д…лина вдруг стала сужива…ся. Начали попада…ся глинистые сланцы. Ширина д…лины то суживае…ся метров до ста, то расширяе…ся более чем на километр. Ответвления реки образуют такой лабиринт, в котором очень легко заблуди…ся, если не держа…ся главного русла. По хребту, поросш…му лесом, надо идти осторожно, надо часто останавлива…ся, осматрива…ся, иначе легко сби…ся с пути. (В. Арсеньев)
158. Вставьте пропущенные буквы в инфинитивных формах.
Чист…ть, молв…ть, порт…ть, мыл…ться, опостыл…ть, знач…ть, спор…ть, обезлюд…ть, обезум…ть, та…ть, прав…ть, вер…ть, кашл…ть, плак…ть, езд…ть, ка…ться, замет…ть, наде…ться, завис…ть, обид…ть.
159. Вставьте пропущенные буквы. Выделите суффиксы и объясните их написание.
Санкционир…вать митинг, участв…вать в пикете, вывед…вать тайну, оказ…вать воздействие, приказ…вать подчиненному, раскруч…вать веревку, развед…вать месторождение угля, доклад…вать о результатах, исповед…вать ислам, проповед…вать добро, попотч…вать пельменями, команд…вать армией, опроб…вать новое оружие, использ…вать достижения техники.
160. Выпишите глаголы и вставьте пропущенные буквы.
(Он) подыщ…т работу, (он) дополн…т ответ, дыш…тся легко, засе…шь поле, обкле…шь обоями, вытр…шь насухо, колыш…тся знамена, народ бор…тся, снег та…т, все завис…т от обстоятельств, брод…шь по аллеям, он ненавид…т ложь, сказанного не ворот…шь, ты все мож…шь, солнце гре…т, окно заиндеве…т, слыш…шь все шорохи, хоч…тся выиграть.
161. Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание.
1) За двумя зайцами погон…шься — ни одного не пойма…шь. 2) Много буд…шь знать — скоро состар…шься. 3) Правда глаза кол…т. 4) Конь вырв…тся — догон…шь, слова сказанного не ворот…шь. 5) Руки не протян…шь, так и с полки не достан…шь. 6) Дождь вымоч…т, а солнышко высуш…т. 7) Мягко стел…т, да жестко спать. 
162. Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание личных окончаний глаголов.
1) На краю горизонта тян…тся серебряная цепь снеговых вершин. (М. Лермонтов) 2) Заунывный ветер гон…т стаю туч на край небес, ель надломленная стон…т, глухо шепч…т темный лес. (Н. Некрасов) 3) Сторож не спеша отбивал часы: удар…т раз и ждет, пока звук не раста…т в голубом воздухе. 4) Грозно смотр…т из-под туч сумрачные горы. (А. Майков) 5) На темно-сером небе кое-где мига…т звезды; влажный ветерок изредка набега…т легкой волной; слыш…тся сдержанный, неясный шепот ночи. (И. Тургенев)
Раздел 8. Синтаксис и пунктуация.
Тема 19. Словосочетание. Предложение.
163. Найдите и укажите в словосочетании главное и зависимое слово и укажите, какой частью речи является главное слово. Определите тип словосочетания.
Зимние вечера, долго рассказывает, двое саней, очень уютно, таёжный посёлок, недалеко от берега, уставший от забот, движущиеся силуэты, пойти за покупками, играя с мячом.
164. Составьте словосочетания, подбирая к словам 1-й группы главное слово, а к словам 2-й группы – зависимое слово.
1) Горный, гористый; ветреный, ветровой, ветряной; будний, будничный; дружный, дружеский, дружественный; генеральный, генеральский; гуманный, гуманистический; дипломатичный, дипломатический; дареный, даровой; конструктивный, конструкторский; почтенный, почтительный.
2) Обсуждать, осуждать; оплатить, заплатить; одеть, надеть; суметь, смочь; представить, предоставить; развиваться, развеваться; сыскать, снискать; обосновать, основать.
165. Распределите следующие словосочетания по группам в зависимости от того, что они обозначают: Предмет и его признак, действие и его признак, действие и объект действия.
Весело смеяться, зимний вечер, вести разговор, идти в потёмках, туристическая база, облако над морем, долго смотреть, синеватая мгла, смотреть на звёзды, пение артистов, задумчиво слушать, учить правило.
166. Распределите на группы именные словосочетания в зависимости от частей речи, которой выражено главное слово: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение.
Весьма привлекательный, пятеро друзей, что-то таинственное, любовь к животным, по-детски простодушный, увлекательное путешествие, несколько слов, кожаное пальто, кофе по-восточному, пять килограммов, готовый к употреблению, каждый из нас, семь нянек.
167. Прочитайте сочетания слов. Из данных вариантов сочетаний слов выберите сначала те, которые, по вашему мнению, являются словосочетаниями, а затем те, которые можно назвать предложениями:
1) лес тёмный; 2) лес потемнел; 3) тёмный лес; 4) пошли в лес; 5) сразу пошли; 6) решили и пошли; 7) в лес; 
168. Из данных предложений выпишите: а) грамматическую основу; б) словосочетания.
1. Я хотел бы пройти сто дорог, а прошёл пятьдесят; я хотел переплыть пять морей – переплыл лишь одно… (А. Макаревич.) 2. Люблю Отчизну я, но странною любовью. (М. Лермонтов.) 3. Люблю грозу в начале мая. (Ф. Тютчев.) 4. Смерч погубил урожай. Не дай погибнуть, Боже! (К. Левашов.)
169. Определите грамматическую основу в данных предложениях и охарактеризуйте интонацию предложений.
1. Вот взошла луна златая. (А. Пушкин.) 2. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. (А. Блок.) 3. Весь мир – театр, и люди в нём – актёры. (В. Шекспир.) 4. Пусть заболею, пусть даже умру – вот тогда они не простят себе, что не подарили мне щенка. (А. Линдгрен.) 5. Мудрого не обманешь, глупого не переспоришь. (Пословица.) 6. А не посидеть ли нам за чаем? (А. Чехов.) 7. Нужно было помнить всё рассказанное Дениской, чтобы понять его логику. (Е. Носов.)
170. Запишите предложения и выделите в них грамматические основы.
1. У меня сегодня радость: подарили мне щенка. (А. Барто.) 2. Возможно, папа и подарил бы мне щенка, но мама всегда была против. (А.Линдгрен.) 3. Это тебе не просто цветок, а малахитовый. (П. Бажов.) 4. Они запретили говорить о Карлсоне, но забыли запретить о нём думать, мечтать и ждать его возвращения. (А.Линдгрен.) 5. Я думаю, всё дело в отношении к нему Бетти. (А.Линдгрен.)
171. Прочитайте текст. Спишите, расставляя знаки препинания, графически их объясните. Выделите в предложениях грамматические основы, укажите, чем выражены главные члены предложения.
Кто бы мог подумать что Григорий и этого задания не выполнит. С самого утра он ходил туда-сюда придумывал разные отговорки со скучным лицом принимался за дело. Сейчас бы улететь за тридевять земель подальше отсюда! – размышлял ленивец. – Пускай вон Сашка трудится! К полудню дело так и не двинулось с места и нам пришлось помогать Гришке чтобы не отстать от остальных бригад. (Н. Носов.)
Тема 20. Простое осложненное предложения. Знаки препинания в простом предложении. Обращения, вводные слова, однородные члены предложения.
172. Найдите однородные члены. Подчеркните их как члены предложения.
1.Все вокруг пело, неслось, сверкало, перекликалось, хохотало, толкалось, куролесило. (Л. Кассиль) 2. Мне нужен стол, и стул, и полка книг в углу. (А. Кушнер) 3. На дороге валялась безобразная груда обломков: поршни, подушки, рессоры. (И Ильф и Е. Петров) 4. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви. (А. С. Пушкин) 5. Мы все чаще забываем нежные и милые слова. (Э. Асадов)
173. Перестройте предложения таким образом, чтобы обобщающее слово стояло после однородных членов. Запишите предложения, правильно расставляя знаки препинания.
1. Все перемешалось: теплынь, и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. (Б. Пастернак) 2. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи, и немногосложная управа, и законы. (Н. Гоголь)
174. Прочитайте, соблюдая интонацию однородности. Определите, какими членами предложения являются однородные члены в каждом предложении и как они между собой связаны. Начертите схемы 3, 7, 8-го предложений.
1) Внизу мерно и широко шумел прибой (Казаков). 2) То солнце спрячется, то светит слишком ярко (Крылов). 3) В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно (Казаков). 4) Поворчал он, да не посмел ослушаться (Короленко). 5) Голос слепого нищего был слаб и дрожал… (Горький).6) Она молода, изящна, любит жизнь… (Чехов). 7) Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен, изгородей и бань, вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой (Казаков). 
175. Запишите предложения под диктовку, составьте их схемы (комментированное письмо). Выпишите ряды однородных членов.
1) Сосны, берёзы, лиственницы мелькают по сторонам. (В. Песков) 2) Люди ближних сёл несли на базар овощи, хлеб, птицу, фрукты, мёд. (А. Фадеев) 3) Были это весёлые, сильные и смелые люди. (М. Горький) 4) Москва, Москва!.. Люблю тебя, как сын, как русский, — сильно, пламенно и нежно! (М. Лермонтов) 5) Перед домом разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождём, звёздами, угасали и снова вспыхнули. (А. Пушкин)
176. Выпишите из записанных на доске предложений ряды однородных членов предложения, составляя их схемы.
1) По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел алым и влажным огнем. (К. Паустовский.) 2) Лена смотрела в окно на только что освободившуюся ото льда холодную гладь залива, на рыбачьи артели с сетями на гальке, на весенние караваны гусей и уток. (А. Фадеев.) 3) В мартовскую ночь зима еще украдкой возвращает морозную тишину, колкий воздух, холодный блеск луны, хрустальную звонкость наста и тонкого ледка лужиц. (Д. Зуев.) 4) Прохор фыркал, отдувался, гоготал, сплавал на ту сторону, нарвал фиалок и царских кудрей, расцветил букет огнями желтых лилий и поплыл обратно. (В. Шишков.) 5) Море лов..т стрелы молний и в своей пучине гас..т. (М. Горький.) 6) Петр Иванович быстро и совсем неслыщно встал с земли, сунул руку в мешок и вытащил оттуда свернутую сетку. (Г. Скребицкий.) 7) По горам, в лесу огни, точно звезды, плавали, опускаясь и поднимаясь по скатам холмов. (И. Гончаров.)
177. Выпишите те предложения, в которых есть обращения.
1) Березы белоствольные растите веселей. 2) Шумит земля привольная ветвями тополей. 3) Пусть спокойно в нашей школе спит до осени звонок. 4) Здравствуй солнце здравствуй лес.
178. Спишите, расставляя знаки препинания. Вставьте пропущенные буквы.
I. 1) Мой друг отчизн… посвятим души пр…красные порывы! 2) От меня отцу брат милый поклони…ся не забудь. 3) Покажи мне шлем Иван. 4) Поэта дом опальный о Пущин мой ты первый посетил. 5) Играйте, пойте о друзья! 6) Где был ты сын? 7) Последи…я туча рассе…нной бури одна ты несё…ся по ясной лазури. 
II. 1) Не буд… товарищ слепым и глухим. Держи товарищ порох сухим. 2) Идите, слов не тратя, на красный наш костёр. Сюда миллионы братьев сюда миллионы сестёр! 3) Веди светло и прямо к работе и боям моя большая мама — республика моя. 4) Слав…те молот и стих землю молодости! 5) Пролетарии стройтесь к последней схватк… . Рабы разгибайте спины и ко¬лени. Армия пролетариев встань стройна.
179. Спиши, расставляя знаки препинания, подчеркни обращения.
I. Умчались вы дни радости моей. Мы долго кружили по просторному наполне(н,нн)ому птицами заливу и разумеется заблудились. Да в этом ты конечно был прав. Антонина Петровна должно быть и не знает что ты пр_ехал? Конечно говорить об этом было (не)приятно но я разумеется молчал. Нам по правде сказать в этот вечер и ра_влеч(?)ся-то словно бы (не)зачем.
II. Это задание он сделает должно быть в срок. Ну-ка дождик теплой влагой ты умой нас огромной рукой. Тебе поем мы песню вечерняя з_ря! К великому моему уд_влению пролетка св_рнула на нашу дорогу. Вам я думаю т_жело жить доктор? Конечно (не)пр_ятно что дома будут бе_покоиться.
III. Спой мне иволга песню пусты(р,нн)ую песню жизни моей. Весна золотобровая весна золотоносая бедовая суровая (не)пр_ставай с вопросами! Предусмотрительный Левинсон еще до приезда разведки пр_ехала она ночью выставил удале(н,нн)ое охр_нение. К счастью Печорин был погруж_н в задумчивость глядя на синие зубцы Кавказа и кажется вовсе не тор_пился в дорогу.
180. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Обозначьте обращения.
а) 1. Что дремучий лес призадумался? (А.Кольцов) 2. Эй, вратарь готовься к бою. (В.Лебедев-Кумач) 3. Присядем друзья перед дальней дорогой. (В.Дыховичный) 4. Эй, костровой за костер огневой ты отвечаешь нам головой. (З.Александрова)
б) 1. Радуй девочка людей добротой, красой своей. (О.Константинова) 2. Ты проснись Аленушка, уж восходит солнышко. (О.Константинова) 3. Еж не верь словам лисицы, лучше верь друзьям своим. (Г.Скребицкий) 4. Подождите немного леса и поля, я вернусь к вам листочком, травинкой, соломкой. (А.Юрканская) 5. Узнаю тебя рыжая по шубке пушистой, по хвосту роскошному, по поступи осторожной. (О.Константинова) 6. Роза для чего тебе шипы? (А.Юрканская)
181. Прочитайте предложения. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Проведите сравнительный анализ пар предложений и составьте лингвистический текст на тему: “Функционирование слов в предложении”.
1. Эта безлунная ночь казалось была всё так же великолепна как и прежде. (И. Тургенев.) – У Татьяны Андреевны замёрзли ресницы и поэтому ей казалось что от звезды падают на дорогу ломкие полосы света. (К. Паустовский.)
2. Когда наблюдаешь как ведёт себя человек наедине сам с собою – он кажется безумным. (М. Горький.) – Впрочем судьба наша кажется одинакова и родились мы видно под единым созвездием. (А. Пушкин.)
3. Из предыдущей главы видно в чём состоял главный предмет его вкуса и склонностей. (Н. Гоголь.) – Предположения, сметы, соображения блуждавшие по лицу его видно были очень приятны. (Н. Гоголь.)
4. Почти напротив его подвала простирался огромный пустырь городской земли…(А. Куприн.) – Зато…Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько; напротив он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постёгивал. (И. Тургенев.)
182. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, укажите вводные конструкции.
Пушкин в совершенстве владел француз…ким. читал (по)английски (по)итальянски самостоятельн… выучился читать (по)испански. Поэтому естестве(н, нн)о в библиотек… были произведения античных авторов в переводах и оригиналах всех выдающихся писателей Западной Европы. Здесь же (на)конец прочное место занимали произведения восточных литератур на француз…ком языке арабской индийской китайской.
183. Найдите вводные слова, словосочетания и предложения. Определите их функции и объясните употребление знаков препинания. Обратите внимание на сочетание вводных слов с союзами.
1. — А давно ты, верно, ездишь по Москве! — Езжу-то? -спросил старик. — Пятьдесят второй год езжу… — Значит, может быть, и меня возил, — сказал Казимир Станиславович. — Может, и возил, — ответил старик сухо (Бун.). 2. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью (Бун.). 3. Итак, повторим сначала предыдущее (Бун.). 4. Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе! (Бун.). 5. Она убеждала себя, что она, к великому будто бы счастью, не такова, как прочие, что красоту и женственность ей заменяют ум и высшие интересы (Бун.). 6. По обыкновению, я собиралась пройти через гостиную в кабинет (Ав.). 7. Должен, кстати, уведомить вас о существовании теории, по которой северные леса являются заслоном нового ледникового периода (Леон.). 8. Но инженер, видно, любил свое дело (Ф.). 9. Впрочем, инженера интересовали и многие другие явления природы и жизни, — так, например, на станции Угольной инженер купил в буфете десяток слоеных мясных пирожков (Ф.). 10. — Подкиньте мне парочку идей, — как говорил один одесский журналист, — а я уж постараюсь сделать из них шедевр (Пауст.). 11. Приходилось пристально вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом различать ближайшие избы, а может, даже не различать, лишь угадывать их на привычных местах (Расп.). 12. Не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться обратно в постель и забыться наконец, хоть ненадолго, потерянным, желанным покоем (Расп.). 13. Покорителем Сибири стал, как известно, Ермак Тимофеевич (Расп.). 14. Кто-то, видно, проходил в это время по улице (Расп.). 15. У нее, как говорят писатели, вырвался вздох облегчения? (Бел.). 16. Пусть письмо будет не отправлено. А почему бы, собственно, его не отправить? (Бел.). 17. Трап двигался к самолету, как черепаха, стюардессы, казалось, еле переставляют ноги (Бел.). 18. …Он встал в очередь к транспортному контролю. Итак, первая очередь (Бел.). 19. Что ж, если она и сейчас не узнала его, значит, она просто его забыла. А может, никогда и не запоминала (Бел.). 20. Иванов изловил себя на предвзятости. Наверное, еще сказывалась родственная обида. Честно говоря, так и должно было произойти (Бел.). 21. И все это — сочетание тумана и прекрасных звуков, видение белой лошади и запах теплой земли — обескураживало, заставляло вспоминать нечто необыкновенное и забытое, но, по-видимому, самое главное. Но что же в жизни самое главное? Он вернулся к машине и сел на заднее сиденье. По-прежнему сильно пахло влажной землей, а через дачную веранду или, может, через окно вылетали в летнюю ночь, рассыпались и таяли в темноте невыразимо прекрасные звуки (Бел.). 22. …Завел разговор о площади… Почему, дескать, ее совсем нет в программе? (Бел.).
184. Расставьте недостающие знаки препинания. Найдите вводные конструкции и объясните употребление знаков препинания.
1. Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте согласитесь могли быть дурные влияния (Ч.). 1. Он… все время говорил на своем необыкновенном языке выработанном долгими упражнениями в остроумии и очевидно давно уже вошедшем в привычку (Ч.). З.Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или быть может не любила его никогда (Ч.). 4. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и живая веселая покинула город как полагала навсегда (Ч.). 5. Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык .и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это оттого вероятно что за границей он сильно соскучился по родине (Ч.). 6. Человек он впрочем был деликатный мягкий и неглупый (Ч.). 7. — Значит у вас теперь три Анны, — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, — одна в петлице, две на шее (Ч.). 8. К счастью я больше полугода жил в Москве (Бун.). 9. Разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Редко разумеется весьма редко а сбываются (Бун.). 10. Левинсон как видно нисколько не стеснялся (Ф.). 12. Душевным покоем ласковым материнством веяло от этой женщины, — счастливой казалась ее жизнь из окна вагона! Но возможно это был и обман может быть у этой женщины умирали дети (Ф.). 13. Кажется этот простой лесной человек лучше всех понимал мои тогдашние настроенья (Леон.). 14. Кроме того по ее мнению спрос на живопись должен значительно подсократиться в будущем (Леон.). 15. Видишь ли после раненья нога у меня плохо гнется в колене (Леон.). 16. Дело пожалуй не в умилении перед твоим объектом (Леон.). 17. Видимо они уже предвидели скорые перемены в судьбе пашутинского лесничего (Леон.). 18. Он попытался изъяснить товарищу подвиг тех незаметных ученых чьим коллективным трудом в сущности и создаются коралловые острова знания (Леон.). 19. Ты прямо Прометей у меня, Гриша… по крайней мере постарайся связно изложить, что за птица терзает тебе печенку (Леон.). 20. К слову такие рубки на отбор велись до самого 1930 года (Леон.). 21. Оставалось предположить того выдающегося знатока тихоокеанских лесов, что так усердно и по неизвестным побуждениям добивался знакомства с Иваном Матвеичем, а теперь напротив нуждался в конфиденциальном, с глазу на глаз, разговоре с Грацианским (Леон.). 22. По его словам там каждый четверг собиралась самая разнообразная компания (Леон.). 23. Постный возлюбил простецкую кухню. Действительно при роскошных хрусталях и различных деликатесах основной харч носил несколько даже странный колорит (Леон.). 24. — Может быть попадете когда-нибудь в Италию, — сказал он. — Там вы всюду увидите такую пышную герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают по-моему в Новгороде Великом (Шуст.). 25. Ильинична к удивлению Дуняшки беспомощно заплакала (Ш.). 26. Она мысленно подыскивала по ее мнению наиболее убедительные доводы (Ш.). 27. Должно быть к матери в гости направилась (Ш.). 28. Ее оставили кажется все чувства кроме удивления (Зал.).
Тема 21. Сложное предложение.
185. Найдите сложные предложения, подчеркните грамматические основы. Укажите средства связи входящих в сложные простых предложений. Запишите, обозначая вид сложного предложения.
1) Нет счастья вне родины, каждый интонация пускай корни в родную землю. (И. Тургенев) 2) Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. (М. Салтыков-Щедрин) 3) Я изъездил почти всю страну, видел много мест, удивительных и сжимающих сердце, но ни одно из них не обладало такой внезапной лирической силой, как Михайловское. (К. Паустовский) 4) Истоки сыновнего чувства к отчизне лежат там, где мы рождаемся и живём. (В. Песков)
186. Из данных простых составьте сложные предложения, используя подходящее средство связи и устраняя повтор слов. Запишите полученные предложения, расставляя знаки препинания. Объясните, какие новые оттенки значения появились в сложных предложениях по сравнению с простыми, из которых они составлены.
1) В этом году мы начинаем изучать историю русской литературы. Знать историю русской литературы — потребность каждого культурного человека. 2) С именем М. В. Ломоносова мы могли бы встретиться не только на уроках химии, физики, астрономии, литературы, но и на уроках русского языка. М. В. Ломоносов — автор первой русской грамматики. 3) «Слово о полку Игореве» написано на древнерусском языке. Мы читаем «Слово о полку Игореве» в переводе.
187. Запишите предложения, расставляя недостающие знаки препинания. Укажите вид сложных предложений. Назовите пунктуационные правила, которые нашли применение в записанных вами предложениях. Составьте схемы предложений, выделенных для синтаксического разбора, чтобы объяснить расстановку знаков препинания.
1) Я узнал что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их как на холст на далёкие пространства земли и неба. 2) Я видел листву не только золотую и пурпурную но и алую фиолетовую коричневую чёрную серую и почти белую. 3) Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы неподвижно висевшей в воздухе.4 4) А когда шли дожди мягкость красок сменялась блеском.4 5) В сосновых чащах дрожали от холода берёзы осыпанные сусальной позолотой. 6) Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины красные внизу и совсем ещё зелёные на верхушках. 7) Я уверил себя что эта осень первая и последняя в моей жизни. (К. Паустовский)
188. Прочитайте, найдите простые и сложные предложения. Укажите в них грамматические основы. Определите вид каждого сложного предложения и расскажите, как связаны в нем простые. Начертите схемы 1-го и 3-го предложений.
1) Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане. 2) Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам над нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. 3) Я все думал, что вот строил человек дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. 4) Отчего нам было скучно, мы не знали. 5) Забавин оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновение ярким светом в ночи и снова погасшую. 6) Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет. 7) Иногда лыжникам попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся от былья к былью, от кочки к кочке. 
189. Прочитайте. Определите грамматические основы и начертите схемы предложений.
1) Ягненок дрожал мелкой дрожью и валился с ножек, когда его внесли в избу и опустили на пол. 2) Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело. 3) Изредка блеснет на солнце серебристой чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко реет в воздухе темный фрегат (морская птица) или белоснежный альбатрос. 4) Убеждения внушаются теорией, поведение же формируется примером. 5) Если бы я мог сбросить со счетов еще лет десять, то мне хватило бы времени написать еще и вторую повесть. 6) Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда.
190. Из простых предложений составьте три бессоюзных сложных предложения, используя различные средства связи:
1) Ночью ударил первый морозец с ветерком. 2) После тёплого лета и дождливой осени он казался с непривычки задиристым и крепким. 3) Всё вокруг побелело.
191. Спишите бессоюзные сложные предложения, вставляя пропущенные буквы и обозначая грамматические основы. Составьте схемы предложений. Обратите внимание на знаки препинания, которые ставятся между частями бессоюзного сложного предложения.
1) Голос его звучал тихо, но твёрдо, глаза бл_стели упрямо. (М. Горький) 2) Избы и дворы опустели: все ушли на огороды к_пать к_ртофель. (К. Паустовский) 3) Стояла она долго — устали ноги и глаза. (М. Горький) 4) Расп_хнули окна — запах сосен вступил в в_ранду. (В. Кочетов) 5) Целый день на небе солнышко с_яет, целый день мне душу злая грусть т_рзает. (А. Кольцов) 6) Вот мои условия: вы ныне же публично откаж_тесь от своей кл_веты и буд_те просить у меня изв_нения. (М. Лермонтов)
192. Спишите, вставляя знаки препинания и обозначая грамматические основы предложений. Укажите, какой частью речи выражено подлежащее в каждом примере. Составьте схемы бессоюзных сложных предложений.
1) Острый язык дарование длинный язык наказание. 2) Родное место мать родная а чужбина мачеха. 3) Терпение одно из жизненных сокровищ. 4) С молодыми посидеть самому помолодеть. 5) Для кого труд радость для того жизнь счастье. 6) Чужой человек в доме колокол. 7) Один в поле не воин. 
Проект «Великое озеро Байкал» | Обучонок
Данная исследовательская работа на тему «Великое озеро Байкал» посвящена изучению озера Байкал с точки зрения достопримечательности не только России, но и всего мира. Проект рассчитан для учащихся 4, 5 и 6 классов в рамках предмета окружающий мир или география.
В процессе работы над исследовательским проектом по географии «Великое озеро Байкал» учеником 5 класса была поставлена цель познакомиться с величественным озером Байкал, изучить его историю и особенности.
Предложенный проект на тему «Великое озеро Байкал» будет интересен по окружающему миру детям 4 класса, так как автором довольно интересно были изложены приобретенные им в процессе самостоятельного изучения знания об озере Байкал, которые он представил в структурированном виде, разделив работу на тематические подзаголовки.
Данный проект о великом озере Байкал может быть применен как на уроках окружающего мира в начальной школе, так и на уроках географии для учащихся постарше, а также для самостоятельного заочного путешествия по великому и красивейшему озеру Российской Федерации — озеру Байкал.
Оглавление
Введение
1. Интересная информация о Байкале.
2. Возраст озера Байкал.
3. Происхождение названия озера Байкал.
4. Вода Байкала.
5. Ветер и волны на Байкале.
6. Животный и растительный мир Байкала.
7. Население Байкала.
Заключение
Список литературы.
Введение
В 5 классе у нас появился новый предмет география, который позволяет узнавать о нашей планете много интересного, сидя за партой. На одном из уроков мы путешествовали заочно по морям, рекам, океанам и озерам. Меня заинтересовал рассказ учителя об удивительном озере Байкал.
Озеро Байкал является достопримечательностью не только России, а всего мира. Многих людей планеты это озеро привлекает своей неповторимой красотой и уникальной чистотой своих вод. Байкал обладает уникальными особенностями. Ему нет равных в мире по возрасту, глубине, запасам и свойствам пресной воды, и многообразию органической жизни.
«Байкал — кладовая чудес и загадок», «Байкал – чудо природы», «Байкал-жемчужина Сибири» читал я в книгах и интернете, и мне так захотелось увидеть это замечательное озеро и больше узнать о нем. Когда-нибудь моя мечта, надеюсь, осуществится, и я увижу Байкал своими глазами.
Я выбрал эту тему, потому что считаю ее актуальной, так как теперь я могу познакомить своих друзей и одноклассников, маму и папу с великим озером Байкал.
Цель моего проекта: знакомство с величественным озером Байкал.
Задачи проекта:
- Найти информацию и иллюстрации с помощью интернет ресурсов об озере Байкал.
- Научиться работать с программой Microsoft Office Power Point.
- Создать презентацию «Великий Байкал».
- Создать продукт – плакат с информацией о Байкале.
- Публично защитить проект.
Гипотеза: Байкал уникальное озеро мира, которому нет равных.
Проектным продуктом будет плакат и презентация на тему «Великий Байкал». Этот продукт , я считаю достигнет цели проекта, так как в ходе своей работы я сам узнал много нового и интересного о жизни на Байкале.
План моей работы:
| 16 апреля | Выбор темы и уточнение названия. Планирование. Сбор информации в интернете и библиотеке. |
| 17-19 апреля | Обработка полученной информации, консультация руководителя проекта — Цедиленковой С.И. |
| 20-22 апреля | Изготовление продукта (написание письменной части, выполнение плаката). Работа с источником информации, поиск, отбор, анализ и обобщение полученных сведений. |
| 23-26 апреля | Подготовка презентации (оформление результатов исследования, подготовка продукта к сдачи на проверку) |
| 24 мая | Защита проекта. Обсуждение результатов работы. |
Я начал свою работу с того, что стал искать литературу в интернете и библиотеке по данной теме, обратился к дополнительным источникам «электронная библиотека».
Сначала мне захотелось внимательно рассмотреть расположение Байкала на карте Мира. Затем мне стало интересно, а что знают мои одноклассники о Байкале.
Я провел опрос среди ребят нашего класса по моей теме:
- кто что-нибудь знает и слышал, читал об озере Байкал?
- кто был с родителями на берегах удивительного озера?
- кто хотел бы побывать на Байкале, полюбоваться его красотой?
- хотели ли расширить свои знания о знаменитом на весь мир озере?
Результаты опроса я представил диаграммой:
Потом я приступил к работе над проектом, стал анализировать информацию об озере.
Затем на листе А24 мне захотелось отразить основную информацию об озере Байкал. Я распечатал понравившиеся мне фотографии наклеил их и подписал. Мне нравилось оформлять листок ватмана о Байкале, я решил составить еще и презентацию для защиты проекта. В конце работы мне пришлось свести всю найденную информацию и оформить это в виде презентации.
Интересная информация о Байкале
Легендарное озеро Байкал расположено в центре Азии, на стыке Иркутской области и Республики Бурятия. Озеро в форме полумесяца вытянуто с севера на юго-запад его глубина достигает 1637 метров.
Наибольшая ширина в центральной части — 81 км. Площадь водной поверхности Байкала составляет 31500 км2. Длина береговой линии озера — около 2000 километров.
Байкал содержит 23000 кубических километров чистейшей пресной воды, что составляет 20% мировых запасов пресной воды, находящейся в незамерзшем состоянии.
«Байкал – далай» — называют озеро буряты, что означает «Байкал – море». Нет на Земле другого столь глубокого озера.
Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири. В Байкал несут свои воды 300 рек и речушек, а вытекает из него единственная река — Ангара. Но она очень многоводна, так как из озера выносится столько воды, сколько поступает.
Возраст озера Байкал
Обычно в литературе приводится возраст озера 20-25 млн. лет. На самом деле возраст Байкала точно не известен. Точно можно сказать, что Байкал очень древнее озеро. Если допустить, что возраст Байкала действительно несколько десятков миллионов лет, то это самое древнее озеро на Земле.
Считается, что Байкал возник в результате действия тектонических сил. Тектонические процессы идут и в настоящее время, что проявляется в повышенной сейсмичности Прибайкалья.
Происхождение названия озера Байкал
Проблеме происхождения слова «Байкал» посвящены многочисленные научные исследования, что говорит об отсутствии ясности в данном вопросе. Существует около десятка возможных объяснений происхождения названия. Среди них наиболее вероятным считается версия происхождения названия озера от тюркоязычного Бай-Куль — богатое озеро.
Из прочих версий можно отметить еще две: от монгольского Байгал — богатый огонь и Байгал Далай — большое озеро. Народы, жившие на берегах озера, называли Байкал по-своему. Эвенки, например, — Ламу, буряты — Байгал-Нуур, даже у китайцев было название для Байкала — Бэйхай — Северное море.
Довольно часто Байкал называют морем, просто из уважения, за буйный нрав, за то, что далекий противоположный берег часто скрывается где-то в дымке… При этом различают Малое Море и Большое море. Малое Море — то, что расположено между северным побережьем Ольхона и материком, все остальное — Большое море.
Вода Байкала
Байкальская вода уникальна и удивительна, как сам Байкал. Она необыкновенно прозрачна, чиста и насыщена кислородом. В не столь уж и древние времена она считалась целебной, с ее помощью лечили болезни. Такая высокая прозрачность объясняется тем, что байкальская вода, благодаря деятельности живых организмов, в ней обитающих, очень слабо минерализована и близка к дистиллированной.
Объем воды в Байкале около 23 тысяч кубических километров, что составляет 20% мировых и 90% российских запасов пресной воды. Ежегодно экосистема Байкала воспроизводит около 60 кубических километров прозрачной, насыщенной кислородом воды.
Ветер и волны на Байкале
Ветер на Байкале дует почти всегда. Известно более тридцати местных названий ветров. Это вовсе не означает, что на Байкале существует такое количество разных ветров, просто многие из них имеют несколько названий. Особенность байкальских ветров в том, что они почти все, почти всегда дуют вдоль берега и укрытий от них не так много, как хотелось бы.
Животный и растительный мир Байкала
Многие животные и растения больше не встречаются нигде в мире.
Всего можно насчитать больше 2600 видов обитателей.
Разнообразие и красота животного и растительного мира озера никого не оставляет равнодушным. В самом озере обитает уникальная губка (байкальский рачок), именно благодаря деятельности этого существа вода остается кристально чистой. В Байкале водятся тресковые, осетровые, лососевые, сомовые и карповые виды, а также омуль, голомянка, хариус, окунь, щука и сиг.
Но самым известным и популярным эндемиком озера можно назвать нерпу. В лесах же обитают такие сибирские животные, как медведи, волки, лисы, зайцы и соболи. Также туристы на своем пути могут встретить хорька, росомаху, горностая, сурка, белку, сохатого лося, тарбагана, кабана, изюбра и дикую козу
В озере насчитывается 58 видов рыб. Наиболее известные — омуль, сиг, хариус, таймень, осетр, голомянка, ленок. На побережье Байкала произрастает около 2000 видов растений. На берегах гнездится 200 видов птиц. В Байкале встречается уникальное, типично морское млекопитающее — байкальская нерпа. Предполагается, что она попала в Байкал из Ледовитого океана в ледниковый период по Енисею и Ангаре.
Сибирь центр промысловой охоты. Народы которые населяли лесные территории Прибайкалья, всегда занимались охотой. Прежде всего это добывание морского зверя – байкальской нерпы, обитающей только в озере Байкал. А также, крупных промысловых птиц, копытных и пушных видов, включая мелких и крупных хищных животных в окружающих озеро горно-таежных лесах.
Население Байкала
Основные национальности Байкала — Буряты. Они являются одними из коренных народов Сибири.
В общем и целом же, плотность населения не велика. На берегах Байкала проживает всего около 120 тысяч человек. Русские пришли на Байкал в 17 веке. По преданию, в 1643 году казак Курбат подошел к Малому Морю. Узнали русские о Байкале, вероятнее всего, от якутов.
Тогда и начали русские на Байкале осваивать неведомые, диковинные сибирские земли. Этот был долгий и непростой.
Шаманы.
Шаманизм — религиозное явление. Родиной шаманизма, «избранной землей» шаманов, принято считать Центральную и Северную Азию, а сакральным центром шаманов северного мира — остров Ольхон на Байка Встретить шамана – это большая удача. Шаман или шаманка – это носитель глубочайшего знания своего народа.
Кто такой шаман? Первым непременным условием для того, чтобы стать шаманом, было наличие удха — шаманского происхождения или корня. Вторым верным признаком являлось наличие шаманской болезни – сильнейшие головные боли. Избранный человек либо начинал общаться с духами и помогать людям, либо, если отказывался принять дар – вскоре умирал. Заключение
По итогам данной работы я убедился, что озеро Байкал, одно из величайших пресных озер мира, которое находится на юге Восточной Сибири. Самый крупный – остров Ольхон. Крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются неповторимым разнообразием флоры и фауны. Местные жители исторически называют озеро Байкал «священным морем».
Байкал – край небывалой сказочной красоты. Природа создала здесь свой уникальный мир, где всё живет в гармонии.
Байкал — достопримечательность не только России, а всего мира. Многих людей планеты это озеро привлекает не только своей неповторимой красотой, но и прежде всего уникальной чистотой своих вод. Байкал обладает уникальными особенностями. Ему нет равных в мире по возрасту, глубине, запасам и свойствам пресной воды, многообразию и эндемизму органической жизни.
Неповторима красота Байкала, живописные его берега и острова привлекали и привлекают туристов из нашей страны и зарубежья.
Неповторимый животный и растительный мир озера делают его «музеем живых древностей».
В 1996 году Байкал был объявлен территорией всемирного наследия ЮНЕСКО.
Таким образом, гипотеза, предполагаемая в начале исследования полностью нашла своё подтверждение: Байкал — самое уникальное озеро мира.
Результативность работы
- Узнал много интересного об озере Байкал;
- поделился приобретенными знаниями с товарищами по классу;
- вызвал у них интерес и желание заняться исследовательской работой;
- освоил программу Microsoft Office Power Point.
- научился работать с различными источниками: книгами, справочниками, журналами, интернет;
- расширил кругозор.
Чем больше мы будем знать о Байкале, тем больше будем его ценить, бережнее к нему относиться к таким удивительным местам, и может быть, моя мечта осуществится, я побываю на Байкале.
Беречь Байкал — святое дело:
Его судьба — у нас в руках!
Сама природа нам велела,
Чтоб жил Байкал родной в веках!
И верю я: Байкалом будет
России слава прирастать!
И нам потомки не забудут
За это должное воздать.
Список используемой литературы
1. Агнесов Р. Байкальской тропой. М.: 1971г
2. Большая советская энциклопедия, M. изд-во Советская энциклопедия, 1978г., Т.4
3. Горощенко В.П. Природа и люди. Хрестоматия по природоведению.Изд-во «Просвещение», 1976г.
4. Сборник стихов о Байкале. -Иркутск: Изд-во Иркут.ун-та, 1983г
5. Тахтиев В.В. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. — Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2001
Если страница Вам понравилась, поделитесь в социальных сетях:
Сочинение про Байкал (на русском языке) 2, 3, 5, 6 класс
Одна из главных достопримечательностей Российской Федерации — прекрасное озеро Байкал, что расположено на юге Восточной Сибири. Оно возникло многие миллионы лет назад в тектоническом разломе, вероятно, в результате землетрясения. К настоящему времени Байкал известен как глубочайший в мире водоём. Его берега до сих пор продолжают расширяться. В будущем Байкал может достичь масштабов целого океана. Впрочем, коренные жители издавна называли его не иначе как «море».
Озеро имеет вид длинного тонкого полумесяца и тянется вдоль границ Иркутской области и Бурятии. Увидеть его можно даже из космоса. Оно лежит в окружении горной гряды и лесных массивов. Животный и растительный мир Байкала на редкость разнообразен. В самом озере и на близлежащей территории обитают эндемичные и реликтовые виды, которых больше нигде не встретить. Среди них — тюлень нерпа, живородящая рыба голомянка, баргузинский соболь, осётр и омуль, губка, сибирский кедр, необычные ходульные деревья (лиственница и сосна).
Вода Байкала холодная, сильно насыщена кислородом. Она пригодна к употреблению и имеет минимальное количество примесей. Очистка водоёма происходит за счёт разросшейся популяции зоопланктона — крохотных, невидимых глазу рачков, которые и производят фильтрацию. Водная гладь столь прозрачна, что отдельные предметы можно различить на многометровой глубине.
Интересно, что одна лишь Ангара берёт своё начало из Байкала. Между тем, этот природный резервуар постоянно пополняет более трёхсот притоков — как ручьёв, так и крупных рек, среди которых особо выделяется Селенга. Благодаря этому запас питьевой пресной воды озера просто гигантский.
Байкал, будучи объектом наследия ЮНЕСКО, интересен для туристов и исследователей со всей планеты как зона отдыха и предмет изучения.
Сочинение Озеро Байкал
Славное море – священный Байкал, как поется в песне… Местные жители и в правду считают Байкал морем.
Давайте же разберемся, что же такое Байкал.
Байкал – это самое глубокое озеро в мире. 1642 м – такова самая глубокая величина водоема. Байкал пресноводное озеро. Запасов воды хватит обеспечить всех людей, живущих на нашей планете. Байкальская вода очень чистая, она богата кислородом и минеральными веществами.
Байкал находится на Востоке Сибири, между республикой Бурятией и Иркутском, его площадь более 31 тысячи километров. Байкал очень старое озеро. О его возрасте до сих пор спорят ученые, 25 или 35 миллионов лет существует этот водоем. В Байкал впадает множество рек, около 336, а вытекает всего лишь одна Ангара. Согласно легенде дочь Байкала, убежавшая к своему возлюбленному Енисею.
Разнообразные животные населяют Байкал и его побережья. Водные обитатели некоторых видов уникальны и нигде больше не встречаются. К таковым можно отнести рыбку голомянку. Это живородящая рыба, которая живет в глубинах Байкала, имеет прозрачное тело без чешуи, на 35 % состоит из жира. Еще здесь обитает рачок эпишура — это вид планктона, играющий важную роль в экосистеме озера, он фильтрует воду, пропуская ее через себя, очищает ее.
Байкал прекрасен в любое время года. Летом он встречает гостей своими прохладными водами, а зимой кристально чистым и прозрачным льдом.
В данный момент ситуация на Байкале плачевная, озеро заражено водорослями – спирогирой. Все берега с некогда прозрачной и чистой водой теперь зеленые и напоминают болото. В большей степени здесь сказывается человеческий фактор, многие очистные сооружения сбрасывают свои сточные воды в Байкал, разные туристические лагеря загрязняют воду. Для спирогиры это идеальные условия существования. Если так и дальше пойдет Байкал превратится в огромное болото. Что бы этого не случилось нужно построить очистные сооружения, соблюдать чистоту и порядок на побережьях.
Байкал – это наше великое достояние, которое нужно беречь.
2, 3, 5, 6 класс
Также читают:
Картинка к сочинению Про Байкал
Популярные сегодня темы
- Сочинение по картине Нестерова Лель. Весна 5, 8 класс
Михаил Васильевич Нестеров – талантливый советский художник, живописец. Один из участников уникального товарищества передвижных выставок, с помощью которых в то время деятели искусства знакомили простой
- Сочинение по картине Левитана Над вечным покоем 7, 8 класс
«Над вечным покоем» являет собой чудо художественной мысли Серебряного века. Это одна из самых знаменитых работ художника. Сам автор считал, что это самое удачное его произведение, раскрывающее его мировоззрение, его мироощущение.
- Анализ рассказа Астафьева Фотография, на которой меня нет
Сюжет автобиографического рассказа В.П.Астафьева очень прост (в глухое сибирское довоенное село Овсянка по приглашению учителя приезжает фотограф, чтобы сделать снимки школьников) но, несмотря на кажущуюся непритязательность
- Время в романе Отцы и дети Тургенева сочинение
Время, в которое живёт человек, всегда оказывает влияние на формирование его характера, на его мировоззрение. Действие романа Отцы и дети описывает жизнь русского общества за два года до отмены крепостного права
- Сочинение Анализ сказки Салтыкова-Щедрина Соседи
В своем произведении Соседи Салтыков — Щедрин рисует разницу жизни богатого и бедного человека. Превозношение богатого и безразличие к бедному проявляются уже в обращении к ним людей
Окружающий мир 3 класс «Озеро Байкал»
Слайды и текст этой онлайн презентации
Слайд 1
Озеро Байкал
Презентацию подготовила Алимова Н. Л., учитель нач. кл. г. Ивантеевки
Слайд 2
Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири на границе Иркутской области и Бурятии. Озеро протянулось с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде гигантского полумесяца. Ширина Байкала колеблется в пределах от 24 до 79 км.
Иркутская область
о. Байкал
Бурятия
Слайд 3
Байкал — одно из древнейших озер планеты, его возраст ученые определяют в 25 — 30 млн. лет. На Байкале нет никаких признаков старения, как у многих озер мира. Среди озер земного шара озеро Байкал занимает первое место по глубине (1642 м).
Слайд 4
Происхождение названия озера точно не установлено. Наиболее распространена версия, что «Байкал» — слово тюрко-язычное, происходит от «бай» — богатый, «куль» — озеро, что значит «богатое озеро».
Слайд 5
Слайд 6
На Байкале 27 островов (Ушканьи острова, остров Ольхон, остров Ярки, Модото, Едор и другие).
Слайд 7
Шаман-камень — символ Байкала, заповедная скала у истока Ангары.
Слайд 8
Байкальская вода чрезвычайно прозрачна, чиста и насыщена кислородом. Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни бывают видны на глубине 40 м. Чистейшая и прозрачная вода Байкала содержит так мало минеральных солей, что может использоваться вместо дистиллированной.
Слайд 9
Температура поверхностных слоев воды в Байкале летом +8 — +9 градусов. Зимой Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка в истоке Ангары. Толщина льда может достигать 2 м.
Слайд 10
На побережье Байкала произрастает около
2000 видов растений.
Слайд 11
Вода Байкала уникальна. В Байкале водится более 2630 видов и разновидностей животных и растительных организмов, 2/3 которых встречаются только в этом водоеме. Такое обилие живых организмов объясняется большим содержанием кислорода во всей толще байкальской воды.
Слайд 12
Рачок эпишура составляет до 80% всего планктона озера и является важнейшим звеном в пищевой цепи водоема. Он выполняет функцию фильтра: пропускает через себя воду, очищая ее.
Слайд 13
Наиболее интересна в Байкале голомянка – это прозрачная рыба без чешуи и плавательного пузыря, рыба живородящая, тело которой содержит до 30 % жира. Рост ее достигает от 15-20 см. Она удивляет биологов ежедневными передвижениями из глубин на мелководье. Живут голомянки 4-5 лет. Питаются ракообразными и молодью рыб.
Слайд 14
В озере насчитывается 58 видов рыб. Наиболее известные — омуль, сиг, таймень, осетр, хариус, налим, щука и др.
Байкальский омуль
Байкальский сиг
Обыкновенный таймень
Байкальский осетр
Хариус
Слайд 15
В Байкале встречается уникальное, типично морское млекопитающее — байкальская нерпа. Нерпа — это символ Байкала, единственный в мире тюлень, который живет в пресной воде. Распространена нерпа по всему Байкалу.
Предполагается, что она попала в Байкал из Ледовитого океана в ледниковый период по Енисею и Ангаре.
Слайд 16
Байкал уникален среди озер тем, что на большой глубине здесь произрастают пресноводные губки.
Слайд 17
Тайга подходит вплотную к самому Байкалу и поэтому здесь довольно разнообразен животный мир.
Слайд 18
На Байкале водится 236 видов птиц. Из них 29 водоплавающих, главным образом различные виды уток. На скалистых островах и в устьях притоков Байкала в большом количестве селятся чайки.
Слайд 19
В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
23 варианта мини-сочинений по окружающему миру 4 класс
Сочинение Как я могу помочь природе
Все мы часть природы, ведь когда-то, все мы жили исключительно в уединении с природой. Но и сейчас, несмотря на то, что большинство из нас живет в городах, мы все также, любим, выбираться на свежий воздух, на пикник, в лагерь, поход, на рыбалку или просто прогуляться по лесу.
Мы активно исследуем природные явления, проводим различные эксперименты, но наша главная задача не навредить. Ведь природа при постоянном давлении сама себя не излечит.
Ведь если продолжать загрязнять окружающую среду мы больше никогда не сможем оценить красоту наших лесов, рек, озер, болот и лугов.
Обратите внимание
Все мы любим, устраивать пикник на природе, а после иногда забываем убрать за собой. Не забывайте: на то чтобы выбросить бутылку вам понадобится пара минут, а чтобы она разложилась сама надо примерно 100 лет.
И не думайте сжигать пластиковый мусор, ведь при этом выделяется множество вредных веществ. Гораздо проще просто выбросить ее в специальный контейнер.
Большинство из нас проводят лето в деревне: не рубите деревья, а если так уж случилось, ну посадите там что-нибудь.
Как же могу помочь природе конкретно я? В одиночку я могу немногое. Например, если ветер сломает ветки на маленьком дереве, я аккуратно отпилю сломанные ветки и уберу их, а ранки дерева замажу пластилином. Если в лесу я увижу брошенный мусор, то я подберу его и выброшу в мусорный контейнер.
Но я могу помочь природе, не только исправляя ошибки, но и экономя ее ресурсы, а именно: воду, газ, собирать макулатуру и металлолом. Кстати, вовремя закрывая кран за сутки, я могу сохранить 10 литров воды. Старые газеты и журналы я сдаю в макулатуру. Пластик и стекло в специальные контейнеры.
Все мы зависим от природы и поэтому должны оберегать ее. Для общего развития можно изучить Красную книгу, чтобы нечаянно не уничтожить редкий вид какого-нибудь растения.
Всем нам нужна природа, ее красота, и вообще чтобы можно было где-нибудь отдохнуть.
Но, увы, поодиночке мы не справимся, надо действовать вместе, а если есть и такие, кто не хочет или не может защищать природу, просто не уничтожайте ее.
2,3, 4, 5, 6, 7 класс
← Про Байкал ← Я сижу на берегу моря, озера, реки↑ Про природуПланета Земля → Мой любимый уголок природы →
- Образ и характеристика Андрия в повести Тарас Бульба Гоголя сочинениеЯрчайшим образом человека, сжигаемого любовной страстью, которая станет причиной его предательства и страшного конца, предстаёт перед читателем образ главного героя повести Гоголя
- Сочинение Анализ рассказа Макар Чудра ГорькогоМакар Чудра одно из произведений раннего творчества Горького, в котором молодой писатель поднимает философские вопросы свободы, идеала и смысла жизни.
- Характеристика и образ Руслана в поэме Пушкина Руслан и Людмила сочинениеРуслан – это великий богатырь всея Руси со всеми присущими чертами характера. Он и сильный, и умный, и выносливый, и изобретательный, и порядочный
- Жюли Карагина в романе Война и мир сочинение образ характеристикаЖюли Карагина играет второстепенную роль в романе-эпопеи Л.Н. Толстого Война и мир. Так как в данном романе присутствуют две семьи — Карагиных и Курагиных
- Сочинение Красота души человекаЧто такое красота души человека? Прочитав вопрос, наверное каждый задумается над этим. Ведь красота, это то, что мы видим, что нам нравится. А душу мы увидеть не можем.
Источник: https://sochinimka.ru/sochinenie/pro-prirodu/kak-ya-mogu-pomoch-prirode-2-3-4-5-6-7-klass
Как я могу помочь природе (сочинение) | Свободный обмен школьными сочинениями 5-11 класс
Задавали ли вы когда-нибудь себе вопрос: «А как я, конкретный человек, могу помочь природе?»
Говорить общие фразы о важности взаимодействия человека и природы, о том, что мы – это неотъемлемая частичка природной среды, о потребительском отношении к ней и даже о серьезных экологических проблемах – довольно легко. А вот что-то делать, пусть не во вселенских масштабах, но постоянно – довольно сложно.
Начнем с самого простого. Побыл на лоне природы – убери весь мусор за собой. Трудно? Нет. Но почему же тогда в лесу, на берегу речки или озера, на обочинах дорог – горы пластиковой посуды после пикников, консервные банки, выброшенные бутылки и так далее? Не стесняйся говорить взрослым о том, что, оставляя мусор, они вредят природе. Сам показывай пример бережного отношения к ней.
Важно
Всем известна Красная книга, вмещающая на своих страницах исчезающие виды флоры и фауны. На школьных уроках и внеклассных мероприятиях много говорится об охране растений и животных. Но опять-таки начни с себя. Не рви первые весенние цветы, как бы этого не хотелось. Ведь можно просто полюбоваться ими, вдохнуть их аромат и оставить расти дальше.
Зачем портить такую красоту? Букет сорванных цветов быстро завянет, а вред природе уже нанесен. Не ломай ветки деревьев и кустарников. Ведь ей наложить «гипс» невозможно. А само растение может зачахнуть, да и красоту свою потеряет. Просто, а природе помогаешь, сохраняя ее «детей». Оказывается, помогать природе можно, не нанося ей вред. Элементарно – да.
Почему же мы часто не задумываемся об этом?
А уж если поставишь своей целью посадить дерево, куст, цветы, то еще и, пусть на чуть-чуть, но увеличишь природный потенциал. Будет расти твое деревце на радость окружающим, а ты еще и гордость от этого испытаешь.
Пришли холода. Помоги своим «братьям меньшим», птицам и животным, подкормив их. С благодарным веселым чириканьем будут прилетать пернатые существа под твое окошко.
А еще задумайся о том, что надо экономить электроэнергию, газ, воду, ибо запасы их не бесконечны. Начни это делать прямо сейчас.
Перед вами реальные простые примеры, как каждый конкретный человек может помочь природе. А еще, мне кажется, что матушку-природу надо любить, искренне и нежно, как любим мы, к примеру, своих родителей.
Ведь когда любишь и уважаешь человека, то никогда не причинишь ему вреда. Так и с природой: нужно любить и ценить ее за гармонию, красоту и совершенство. Вместе с любовью приходит естественное желание помочь, не причинять боли и вреда.
А потом и более глубокое чувство единения с природой, истинное осознание себя ее неотъемлемой частицей.
Источник: https://resoch.ru/kak-ya-mogu-pomoch-prirode-sochinenie/
- Автор: Свободная тема
- Произведение: Сочинение на тему «Как я могу помочь природе»
- Это сочинение списано 59 422 раз
Задавали ли вы когда-нибудь себе вопрос: «А как я, конкретный человек, могу помочь природе?»
Говорить общие фразы о важности взаимодействия человека и природы, о том, что мы – это неотъемлемая частичка природной среды, о потребительском отношении к ней и даже о серьезных экологических проблемах – довольно легко. А вот что-то делать, пусть не во вселенских масштабах, но постоянно – довольно сложно.
Начнем с самого простого. Побыл на лоне природы – убери весь мусор за собой. Трудно? Нет. Но почему же тогда в лесу, на берегу речки или озера, на обочинах дорог – горы пластиковой посуды после пикников, консервные банки, выброшенные бутылки и так далее? Не стесняйся говорить взрослым о том, что, оставляя мусор, они вредят природе. Сам показывай пример бережного отношения к ней.
Всем известна Красная книга, вмещающая на своих страницах исчезающие виды флоры и фауны. На школьных уроках и внеклассных мероприятиях много говорится об охране растений и животных. Но опять-таки начни с себя. Не рви первые весенние цветы, как бы этого не хотелось. Ведь можно просто полюбоваться ими, вдохнуть их аромат и оставить расти дальше. Зачем портить такую красоту? Букет сорванных цветов быстро завянет, а вред природе уже нанесен. Не ломай ветки деревьев и кустарников. Ведь ей наложить «гипс» невозможно. А само растение может зачахнуть, да и красоту свою потеряет. Просто, а природе помогаешь, сохраняя ее «детей». Оказывается, помогать природе можно, не нанося ей вред. Элементарно – да. Почему же мы часто не задумываемся об этом?
А уж если поставишь своей целью посадить дерево, куст, цветы, то еще и, пусть на чуть-чуть, но увеличишь природный потенциал. Будет расти твое деревце на радость окружающим, а ты еще и гордость от этого испытаешь.
Пришли холода. Помоги своим «братьям меньшим», птицам и животным, подкормив их. С благодарным веселым чириканьем будут прилетать пернатые существа под твое окошко.
А еще задумайся о том, что надо экономить электроэнергию, газ, воду, ибо запасы их не бесконечны. Начни это делать прямо сейчас.
Перед вами реальные простые примеры, как каждый конкретный человек может помочь природе. А еще, мне кажется, что матушку-природу надо любить, искренне и нежно, как любим мы, к примеру, своих родителей. Ведь когда любишь и уважаешь человека, то никогда не причинишь ему вреда. Так и с природой: нужно любить и ценить ее за гармонию, красоту и совершенство. Вместе с любовью приходит естественное желание помочь, не причинять боли и вреда. А потом и более глубокое чувство единения с природой, истинное осознание себя ее неотъемлемой частицей.
Посмотрите эти сочинения
- Сочинение на тему «О чем шептались осенние листья» Было туманное осеннее утро. Я шел по лесу, погруженный в раздумья. Я шел медленно, не спеша, а ветер развевал мой шарф и свисающие с высоких ветвей листья. Они колыхались на ветру и будто бы о чем-то мирно говорили. О чем шептались эти листья? Быть может, они шептались об ушедшем лете и жарких лучах солнца, без которых теперь они стали такими желтыми и сухими. Быть может, они пытались позвать прохладные ручьи, которые смогли бы напоить их и вернуть к жизни. Быть может, они шептались обо мне. Но только шепот […]
- Сочинение про Байкал (на русском языке) Озеро Байкал известно на весь мир. Известно оно тем, что является самым большим и глубоким озером. Вода в озере пригодна для питья, поэтому оно очень ценно. Вода в Байкале не только питьевая, но еще и лечебная. Она насыщена минералами и кислородом, поэтому ее употребление положительно влияет на здоровье человека. Байкал находится в глубокой впадине и со всех сторон окружен горными хребтами. Местность возле озера очень красивая и имеет богатую флору и фауну. Еще, в озере проживает много видов рыб – почти 50 […]
- Сочинение на тему «Моя родина — Беларусь» Я живу в зеленой и красивой стране. Она называется Беларусь. Ее необычное имя говорит о чистоте этих мест и о необычных пейзажах. От них веет спокойствием, простором и добротой. И от этого хочется что-то делать, наслаждаться жизнью и любоваться природой. В моей стране очень много рек и озер. Они нежно плещутся летом. Весной раздается их звонкое журчание. Зимой зеркальная гладь манит к себе любителей катания на коньках. Осенью по воде скользят желтые листья. Они говорят о скором похолодании и предстоящей спячке. […]
- Сочинение про рябину Осенняя красавица в ярком наряде. Летом рябина незаметна. Она сливается с другими деревьями. Зато осенью, когда деревья одеваются в жёлтые наряды, её можно заметить издалека. Яркие красные ягоды привлекают внимание людей и птиц. Люди любуются деревом. Птицы лакомятся его дарами. Даже зимой, когда повсюду белеет снег, рябина радует своими сочными кистями. Её изображения можно встретить на многих новогодних открытках. Художники любят рябину, потому что она делает зиму веселее и красочней. Любят дерево и поэты. Её […]
- Почему я выбрала профессию повара? (сочинение) Есть множество замечательных профессий, и каждая из них, несомненно, является необходимой нашему миру. Кто-то строит здания, кто-то добывает полезные стране ресурсы, кто-то помогает людям стильно одеваться. Любая профессия, как и любой человек — совершенно разные, однако все они непременно должны кушать. Именно поэтому появилась такая профессия, как повар. С первого взгляда может показаться, что кухня — область несложная. Что трудного в том, чтобы приготовить поесть? Но на самом деле искусство готовки — одно их […]
- Сочинение на тему «Я горжусь своей Родиной» С самого детства родители говорили мне, что наша страна — самая большая и сильная в мире. В школе на уроках мы с учителем читаем много стихотворений, посвященных России. И я считаю, что каждый россиянин должен, обязан гордиться своей Родиной. Гордость вызывают наши бабушки и дедушки. Они воевали с фашистами для того, чтобы мы сегодня смогли жить в тихом и спокойном мире, чтобы нас, их детей и внуков, не затронула стрела войны. Моя Родина не проиграла ни одной войны, а если дела были плохи — Россия все равно […]
- Сочинение по пословице «Язык мой – друг мой» Язык… Сколько значения несет в себе одно слово из пяти букв. С помощью языка человек с раннего детства получает возможность познавать мир, передавать эмоции, сообщать о своих потребностях, общаться. Возник язык в далеком доисторическом периоде, когда появилась потребность у наших предков, во время совместного труда, передать свои мысли, чувства, желания своим сородичам. С его помощью мы теперь можем изучать любые предметы, явления, окружающий мир, а со временем усовершенствовать свои знания. У нас появилась […]
- Сочинение-рассуждение на тему: «Ученье свет, а неученье – тьма» С детства мы ходим в школу и изучаем разные предметы. Некоторые считают, что это ненужное дело и только забирает свободное время, которое можно потратить на компьютерные игры и что-то еще. Я думаю по-другому. Есть такая русская пословица: «Ученье свет, а неученье – тьма». Это значит, что для тех, кто узнает много нового и стремится к этому, впереди открывается светлая дорога в будущее. А те, кто ленится и не учится в школе, останутся всю свою жизнь во тьме глупости и невежества. Люди, которые стремятся к […]
- Сочинение про интернет на русском языке Сегодня, интернет есть почти в каждом доме. В интернете можно найти много очень полезной информации для учебы или для чего-нибудь другого. Многие люди смотрят в интернете фильмы и играют в игры. Также, в интернете можно найти работу или даже новых друзей. Интернет помогает не терять связь с родственниками и друзьями, которые живут далеко. Благодаря интернету с ними можно связаться в любую минуту. Мама очень часто готовит вкусные блюда, которые нашла в интернете. Еще, интернет поможет и тем, кто любит читать, но […]
- Сочинение на тему «Имя существительное» Наша речь состоит из множества слов, благодаря которым можно передать любую мысль. Для удобства использования все слова поделены на группы (части речи). Каждая из них имеет свое название. Имя существительное. Это очень важная часть речи. Оно обозначает: предмет, явление, вещество, свойство, действие и процесс, имя и название. Например, дождь – это явление природы, ручка – предмет, бег – действие, Наталья – женское имя, сахар – вещество, а температура – это свойство. Можно привести много других примеров. Названия […]
- Сочинение на тему «Что такое мир?» Что такое мир? Жить в мире — это самое важное, что может быть на Земле. Ни одна война не сделает людей счастливыми, и даже увеличивая собственные территории, ценой войны, они не становятся богаче морально. Ведь ни одна война не обходится без смертей. И те семьи, где теряет своих сыновей, мужей и отцов, пусть даже зная, что они герои, все равно никогда не насладятся победой, получив потерю близкого. Только миром можно достичь счастья. Только мирными переговорами должны общаться правители разных стран с народом и […]
- Сочинение «Про бабушку» Мою бабушку зовут Ирина Александровна. Она живет в Крыму, в поселке Кореиз. Каждое лето мы с родителями ездим к ней в гости. Мне очень нравится жить у бабушки, ходить по узким улицам и зеленым аллеям Мисхора и Кореиза, загорать на пляже и купаться в Черном море. Сейчас моя бабушка на пенсии, а раньше она работала медсестрой в санатории для детей. Иногда она брала меня к себе на работу. Когда бабушка надевала белый халат, то становилась строгой и чуточку чужой. Я помогала ей измерять детям температуру — разносить […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Зачем нам нужен речевой этикет?» Вся наша жизнь регулируется определенными сводами правил, отсутствие которых может спровоцировать анархию. Только представьте, если отменят правила дорожного движения, конституцию и уголовный кодекс, правила поведения в общественных местах, начнется хаос. То же касается и речевого этикета. На сегодня многие не придают большого значения культуре речи, к примеру, в социальных сетях все больше можно встретить неграмотно пишущих молодых людей, на улице – неграмотно и грубо общающихся. Я считаю, что это проблема, […]
- Сочинение на тему «Зачем человеку нужен язык?» С давних пор язык помогал людям понимать друг друга. Человек неоднократно задумывался над тем, зачем он нужен, кто его придумал и когда? И почему он отличается от языка животных и других народов. В отличие от сигнального крика животных, с помощью языка человек может передать целую гамму эмоций, свое настроение, информацию. В зависимости от национальности, у каждого человека свой язык. Мы живем в России, поэтому наш родной язык – русский. На русском говорят наши родители, друзья, а также великие писатели – […]
- Сочинение на тему «ВОВ 1941-1945» Был прекрасный день — 22 июня 1941 года. Люди занимались своими обычными делами, когда прозвучала страшная весть — началась война. В этот день фашистская Германия, которая завоевывала до этого момента Европу, напала и на Россию. Никто не сомневался в том, что наша Родина сможет победить врага. Благодаря патриотизму и героизму наш народ и смог пережить это страшное время. В период с 41 по 45 годы прошлого века страна потеряла миллионы человек. Они пали жертвами безжалостных сражений за территорию и власть. Ни […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Моя Россия» Родная и самая лучшая в мире, моя Россия. Этим летом я с родителями и сестрой ездил отдыхать на море в город Сочи. Там, где мы жили, было ещё несколько семей. Молодая пара (они недавно поженились) приехали из Татарстана, рассказывали, что познакомились, когда работали на строительстве спортивных объектов к Универсиаде. В соседней с нами комнате жила семья с четырьмя маленькими детками из Кузбасса, папа у них шахтёр, добывает уголь (он называл его «чёрное золото»). Ещё одна семья приехала из Воронежской области, […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба?» Дружба – это взаимное, яркое чувство, ни в чем не уступающее любви. Дружить не только нужно, дружить просто необходимо. Ведь ни один человек в мире не может прожить всю жизнь в одиночестве, человеку, как для личностного роста, так и для духовного просто необходимо общение. Без дружбы мы начинаем замыкаться в себе, страдаем от непонимания и недосказанности. Для меня близкий друг приравнивается к брату, сестре. Таким отношениям не страшны никакие проблемы, жизненные тяготы. Каждый по-своему понимает понятие […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Мой дом – моя крепость» Мой дом – моя крепость. Это правда! Он не имеет толстых стен и башен. Но в нем живет моя маленькая и дружная семья. Мой дом – это простая квартира с окнами. От того, что моя мама всегда шутит, а папа ей подыгрывает, стены нашей квартиры всегда наполняются светом и теплом. У меня есть старшая сестра. Мы не всегда с ней ладим, но я все равно скучаю по смеху сестры. После школы мне хочется бежать домой по ступенькам подъезда. Я знаю, что открою дверь и почувствую запах мамы и папиного крема для туфель. Перешагну […]
- Поэзия 60-х годов 20 века (сочинение) Поэтический бум шестидесятых годов 20 века Шестидесятые годы 20 века — это время подъема российской поэзии. Наконец наступила оттепель, были сняты многие запреты и авторы смогли открыто, не боясь репрессий и изгнаний, выражать свое мнение. Сборники стихов стали выходить настолько часто, что, пожалуй, такого «издательского бума» в области поэзии не было никогда ни до, ни после. «Визитные карточки» этого времени — Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Н.Рубцов, и, конечно же, бард-бунтарь […]
- Сочинение-рассуждение на тему «Чтение – вот лучшее учение!» Взрослые любят повторять слова русского поэта А.С. Пушкина «Чтение — вот лучшее умение». Меня научили читать в 4 года. И я очень люблю читать разные книжки. Особенно настоящие, которые напечатаны на бумаге. Мне нравится сначала рассмотреть картинки в книжке и представлять, о чем в ней рассказывается. Потом я начинаю читать. Сюжет книги меня захватывает полностью. Из книг можно узнать много интересного. Есть книги-энциклопедии. В них рассказывают обо всем что есть в мире. Из них самые занимательные о разных […]
Сочинение на тему: «Чем я могу помочь природе»
Подобный материал:
- Сочинение на тему «Что я могу сделать для того, чтобы остановить распространение вич-инфекции, 49.74kb.
- Кабакова Елена Евгеньевна моу дод детская школа искусств №2, г. Курган введение сочинение, 76.18kb.
- Уроков по творчеству А. А. Иванова Урок на тему: «Покаяние», 77.35kb.
- Сочинение на тему «Памятный день летних каникул», 8.93kb.
- Карабут Галина Викторовна учитель русского языка и литературы гоу сош №1 Рекомендации, 80.23kb.
- Индивидуальная проверочная работа по литературе Ответ на вопрос как сочинение-рассуждение, 31.32kb.
- Сочинение «Я люблю тебя, Россия», 30.67kb.
- Сочинение на тему: «Как органическая химия сможет помочь человеку в будущем, 41.82kb.
- Эта статья посвящена дисграфии. Задача статьи помочь тем, чем можно помочь: дать представление, 243.43kb.
- Сочинение Мой папа самый лучший, 12.54kb.
Сочинение на тему:
«Чем я могу помочь природе»Сочинение ученицы 8 класса МОУ-ООШ с. Ястребовка Лавренко СветланыПрирода — колыбель человеческой жизни, наша родная стихия. Никто не сможет жить без воды, земли, воздуха, пищи. Когда подумаешь о неотъемлемой красоте заката или восхода солнца, о весеннем звонком журчанье ручья, о аромате молодых клейких листочков, о красках осеннего леса,— станет ясно, что нам нужно что-то еще, кроме ежедневных потребностей — дышать, пить и есть. Нам нужна красота природы, её сила и поддержка. В планах по «освоению» природы надо предусматривать главное: не причинять ей вреда. «Благодаря» человечеству природа стала нуждаться в особой помощи и поддержке людей. Помочь ей может любой из нас — было бы желание. Сейчас об этом думают инженеры, ученые, все население нашей Земли. Почему в наше время больших открытий и достижений проблема охраны природы стала такой важной и необходимой? Если мы вовремя не окажем помощь природе, она умрет. Что же тогда произойдет на Земле? Земля погибнет. И в этом будет полная вина человечества. Как же я могу помочь природе, защитить её. Это сначала кажется все легко и просто. Нет, это очень трудоемкая работа, которая требует не пять и даже не 10 лет, она требует всю жизнь. Чтобы помогать природе, нужны знания и умения. Получить их можно из книг, опыта других людей, собственных наблюдений. Окружающая нас природа полна интереснейших фактов, глубочайших тайн и любопытнейших загадок. В настоящее время я могу лишь немногое. Например, подкармливать и даже спасать животных, попавших в беду; бороться с мусором – ведь это огромная проблема 21 века; так же я могу изготавливать кормушки и домики для птиц; оказывать помощь больным деревьям и кустарникам. На месте старых, погибших растений я могу посадить новые и в дальнейшем за ними ухаживать. Если вдруг на деревьях я увижу ранки, то обязательно замажу их воском, глиной или пластилином. Иногда бывают случаи, когда дует сильный ветер, и деревья ломаются. Если такое произойдет, то я уберу поваленные деревья, которые уже нельзя спасти, а у остальных осторожно удалю сломанные ветви, кое-где замажу ранки и поставлю подпорки. Одно из направлений природоохранной деятельности – сохранение богатств природы: экономное использование воды, газа, бумаги, тепла, электричества; сбор металлолома и макулатуры. Чтобы сохранить хоть частичку природных богатств все людям необходимо соблюдать следующие правила:
Сочинение на тему: «Чем я могу помочь природе»
Сохрани ссылку в одной из сетей:
Сочинение на тему:
«Чем я могу помочь природе»
Сочинение ученицы 8 класса
МОУ-ООШ с. Ястребовка
Лавренко Светланы
Природа — колыбель человеческой жизни, наша родная стихия. Никто не сможет жить без воды, земли, воздуха, пищи.
Когда подумаешь о неотъемлемой красоте заката или восхода солнца, о весеннем звонком журчанье ручья, о аромате молодых клейких листочков, о красках осеннего леса,— станет ясно, что нам нужно что-то еще, кроме ежедневных потребностей — дышать, пить и есть. Нам нужна красота природы, её сила и поддержка.
В планах по «освоению» природы надо предусматривать главное: не причинять ей вреда. «Благодаря» человечеству природа стала нуждаться в особой помощи и поддержке людей. Помочь ей может любой из нас — было бы желание. Сейчас об этом думают инженеры, ученые, все население нашей Земли.
Совет
Почему в наше время больших открытий и достижений проблема охраны природы стала такой важной и необходимой? Если мы вовремя не окажем помощь природе, она умрет. Что же тогда произойдет на Земле? Земля погибнет. И в этом будет полная вина человечества.
Как же я могу помочь природе, защитить её. Это сначала кажется все легко и просто. Нет, это очень трудоемкая работа, которая требует не пять и даже не 10 лет, она требует всю жизнь. Чтобы помогать природе, нужны знания и умения. Получить их можно из книг, опыта других людей, собственных наблюдений. Окружающая нас природа полна интереснейших фактов, глубочайших тайн и любопытнейших загадок.
В настоящее время я могу лишь немногое. Например, подкармливать и даже спасать животных, попавших в беду; бороться с мусором – ведь это огромная проблема 21 века; так же я могу изготавливать кормушки и домики для птиц; оказывать помощь больным деревьям и кустарникам.
На месте старых, погибших растений я могу посадить новые и в дальнейшем за ними ухаживать. Если вдруг на деревьях я увижу ранки, то обязательно замажу их воском, глиной или пластилином. Иногда бывают случаи, когда дует сильный ветер, и деревья ломаются.
Если такое произойдет, то я уберу поваленные деревья, которые уже нельзя спасти, а у остальных осторожно удалю сломанные ветви, кое-где замажу ранки и поставлю подпорки.
Одно из направлений природоохранной деятельности – сохранение богатств природы: экономное использование воды, газа, бумаги, тепла, электричества; сбор металлолома и макулатуры. Чтобы сохранить хоть частичку природных богатств все людям необходимо соблюдать следующие правила:
Мыть овощи и фрукты в большой кастрюле с водой, а посуду в раковине. Ведь,если не мыть под открытым краном, можно за один раз сохранить около 45-60 литров воды.
Поливать цветы и деревья утром и вечером, т. к. в это время испарение гораздо меньше, чем днем.
Закрывать воду, когда чистишь зубы. Оказывается,это экономит за раз порядка 10 литров воды.
Отдавать прочитанные журналы и книги знакомым или в библиотеку.
Не выбрасывать игрушки, одежду и другие вещи. Есть люди, которым эти вещи еще пригодятся.
Если каждый из нас будет придерживаться этих правил, природа нам будет благодарна.
В будущем я хочу стать – ветеринарным врачом. Я мечтаю открыть свою клинику, а впоследствии – приют для бездомных, больных животных. Я их буду лечить.
Также я хочу создать свой сайт, куда буду размещать информацию об этих животных. Я уверена, что найдутся люди, которые захотят взять себе домашнего питомца.
Обратите внимание
Я буду отслеживать дальнейшую жизнь моих подопечных, у которых наверняка будут хорошие хозяева. Это будет тоже своеобразный вклад в защиту природы.
Берегите природу, защищайте её! Ведь любая помощь природе приносит радость, удовлетворение, счастье.
- Сочинение
«Все говорят, что наш детский труд — это учение Потом, когда вырастем, — наш труд — работа на благо страны По-моему, такие громогласные слова не помогают тем, кто не хочет учиться». - Документ
Если бы Бог предложил мне на выбор в правой руке всю истину, а в левой единое вечное стремление к истине, соединённое с постоянными заблуждениями, я принял бы во внимание, что сама истина существует только для Бога, и почтительно попросил - Документ
Язык — продукт общественной деятельности, это отличительная деятельность общества. А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку членораздельная речь? Во-первых, для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями при всякого рода совместной - Реферат
Сразу чтобы было всё ясно: раскрыть тему мне не удалось. Тем не менее, позволю себе назвать это сочинение работой, так как некоторый круг проблем и выводов всё-таки был очерчен. - Сочинение
Аннотация. Книга В. Слуцкого «Сочинение без мук» адресована школьникам и абитуриентам, которые хотели бы самостоятельно научиться писать сочинения. Автор – учитель литературы, много лет занимающийся репетиторством (подготовкой абитуриентов
«Как помочь природе» сочинение
Природа — колыбель человеческой жизни, наша родная стихия. Никто не сможет жить без воды, земли, воздуха, пищи. Когда подумаешь о неотъемлемой красоте заката или восхода солнца, о весеннем звонком журчанье ручья, о аромате молодых клейких листочков, о красках осеннего леса,- станет ясно, что нам нужно что-то еще, кроме ежедневных потребностей — дышать, пить и есть. Нам нужна красота природы, ее сила и поддержка. В планах по «освоению» природы надо предусматривать главное: не причинять ей вреда. «Благодаря» человечеству природа стала
нуждаться в особой помощи и поддержке людей. Помочь ей может любой из нас — было бы желание. Сейчас об этом думают инженеры, ученые, все население нашей Земли. Почему в наше время больших открытий и достижений проблема охраны природы стала такой важной и необходимой? Если мы вовремя не окажем помощь природе, она умрет. Что же тогда произойдет на Земле? Земля погибнет. И в этом будет полная вина человечества.
Как же я могу помочь природе, защитить ее. Это сначала кажется все легко и просто. Нет, это очень трудоемкая работа, которая требует не пять и даже не 10 лет, она требует всю жизнь. Чтобы помогать природе, нужны
знания и умения. Получить их можно из книг, опыта других людей, собственных наблюдений. Окружающая нас природа полна интереснейших фактов, глубочайших тайн и любопытнейших загадок.
В настоящее время я могу лишь немногое. Например, подкармливать и даже спасать животных, попавших в беду; бороться с мусором — ведь это огромная проблема 21 века; так же я могу изготавливать кормушки и домики для птиц; оказывать помощь больным деревьям и кустарникам. На месте старых, погибших растений я могу посадить новые и в дальнейшем за ними ухаживать. Если вдруг на деревьях я увижу ранки, то обязательно замажу их воском, глиной или пластилином. Иногда бывают случаи, когда дует сильный ветер, и деревья ломаются. Если такое произойдет, то я уберу поваленные деревья, которые уже нельзя спасти, а у остальных осторожно удалю сломанные ветви, кое-где замажу ранки и поставлю подпорки. Одно из направлений природоохранной деятельности — сохранение богатств природы: экономное использование воды, газа, бумаги, тепла, электричества; сбор металлолома и макулатуры. Чтобы сохранить хоть частичку природных богатств все людям необходимо соблюдать следующие правила:
Мыть овощи и фрукты в большой кастрюле с водой, а посуду в раковине. Ведь, если не мыть под открытым краном, можно за один раз сохранить около 45-60 литров воды.
Поливать цветы и деревья утром и вечером, т. к. в это время испарение гораздо меньше, чем днем.
Закрывать воду, когда чистишь зубы. Оказывается, это экономит за раз порядка 10 литров воды.
Отдавать прочитанные журналы и книги знакомым или в библиотеку.
Не выбрасывать игрушки, одежду и другие вещи. Есть люди, которым эти вещи еще пригодятся.
Если каждый из нас будет придерживаться этих правил, природа нам будет благодарна.
В будущем я хочу стать — ветеринарным врачом. Я мечтаю открыть свою клинику, а впоследствии — приют для бездомных, больных животных. Я их буду лечить. Также я хочу создать свой сайт, куда буду размещать информацию об этих животных. Я уверена, что найдутся люди, которые захотят взять себе домашнего питомца. Я буду отслеживать дальнейшую жизнь моих подопечных, у которых наверняка будут хорошие хозяева. Это будет тоже своеобразный вклад в защиту природы.
Как можно помочь природе
Инструкция
Начните помогать природе с обыденных дел. Обнаружив в своих карманах ненужную бумажку, не выбрасывайте ее прямо на улице. Дойдите до ближайшей урны или выкиньте ее дома. То же самое следует делать с окурками, использованными жвачками и любым другим мусором.
Наводя порядок на своем участке, собирайте мусор, сухую траву и опавшие листья в предназначенные для этого мешки, которые потом выбрасывайте в контейнеры. Ни в коем случае не жгите его. За лето все растения собирают в себя много ядов и соединений тяжелых металлов, которые с дымом поднимаются в воздух, оседают на земле и в легких человека.
Особенно опасно жечь полимерные материалы (резина, краски, полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда), ведь при горении они образуют опасные токсические вещества, способствующие развитию многих серьезных заболеваний.
Покупайте товары в экологичной упаковке. Отдайте предпочтение продуктам в стекле или бумажных пакетах.
Их переработка происходит гораздо быстрее и безопаснее, чем, например, пластиковой и полиэтиленовой тары. И старайтесь не приобретать товары в лишней упаковке.
Используйте тару повторно. Пластиковые стаканчики можно приспособить под рассаду, коробки – под хранение посуды или других вещей. Ну а пластиковые пакеты вообще практически бессмертны.
Отдайте ненужные вещи другим людям. Одежда, игрушки или старая мебель может всегда кому-нибудь пригодиться. Так вы поможете не только природе, но и нуждающимся людям.
Экономьте воду и электроэнергию. Решив искупаться, выберите вместо ванны душ. Во время чистки зубов выключайте кран, ведь пока вы работаете щеткой, много воды выливается абсолютно зря. Умываясь или отмывая посуду, делайте маленький напор воды.
Выключайте ненужные электрические приборы от сети.Возможно, благодаря таким мелочам ваши дети смогут увидеть многие виды растений и животных вживую, а не на картинках в книжке, дышать более чистым воздух и без страха купаться в море.
Источники:
Важно
У многих людей вызывают невероятное сочувствие немощнеы старики, дети, которым требуется дорогостоящая операция, матери-одиночки, живущие на мизерное пособие. Таким людям нередко хочется помочь, и способов сделать это — немало.
Помогать нуждающимся можно материально. Например, собрать необходимую сумму денег на операцию.
Или организовать своеобразный фонд помощи, разместить призыв о помощи в социальных сетях, чтобы неравнодушные к чужому горю люди откликнулись и пожертвовали для нуждающихся деньги или вещи.
В общественных местах можно установить специальные урны для пожертвований, а также открыть банковский счет. Кроме денег, стоит собрать теплую одежду и обувь, учебники, другие нужные вещи, продукты питания.
Станьте донором. Можно регулярно сдавать кровь, также современная медицина практикует пересадку яйцеклеток, костного мозга, печени. Такое донорство не нанесет вреда вашему здоровью, зато поможет спасти жизнь нуждающимся людям.Кроме этого помощь бывает моральной. Уделите внимание детям из детских домов, малышам в больницах, страдающим тяжелыми заболеваниями.
Поиграйте с ними, устройте небольшое театральное представление вместе с ребятами, помогите научиться играть на музыкальных инструментах или мастерить какие-нибудь вещи. Поддержите одиноких стариков в домах престарелых или живущих с вами по соседству. Помогите им прибрать квартиру, приготовить обед, сходить за продуктами.
Обсудите с ними последние новости или их любимый сериал. Такая помощь порой бывает намного нужнее, чем материальная.
Есть такая народная мудрость: «Не давай голодному рыбу. Дай ему удочку, пусть сам наловит». И в самом деле, далеко не всегда материальная помощь нуждающимся бывает во благо.
Например, если регулярно спонсировать деньгами и одеждой многодетную семью, где мама и папа не работают, со временем они привыкнут, что им все приносят сердобольные люди. Такой семье лучше помочь другим способом. Если у вас есть такая возможность, устройте многодетного отца на работу, пусть обеспечивает свою семью сам.
Совет
А матери подскажите, как можно подрабатывать сидя с детьми дома. Если для этого ей необходимо будет поучиться на каких-нибудь курсах, предложите посидеть с ее детьми, пока она будет на занятиях.
Не стоит подавать милостыню и попрошайкам на рынках или у храмов. Во-первых, большинство из них все равно потратит ваши деньги на спиртное. А во-вторых, некоторые попрошайки «работают» не на себя, все средства они отдают так называемому «хозяину».
Жаль бывает лишь стариков, которые на самом деле выходят с протянутой рукой от нужды. Им можно оказать следующую помощь.
Вместо монет, дайте им, например, ведро семечек и объясните, что их можно продать, на часть заработанной суммы взять еще товара, а оставшееся использовать на свое усмотрение.
Помогать нуждающимся – благое дело. Главное, чтоб эта помощь была оказана вовремя и людям, которым на самом деле это необходимо.
Не все люди при первых признаках заболевания, например, таких как насморк, торопятся в аптеку. Кое-кто старается обойтись без лекарств, прибегая к их употреблению лишь в крайнем случае. Чтобы избавиться от насморка, можно принимать достаточно эффективные средства, не являющиеся лекарственными.
Выделение слизи из носовых ходов – естественный процесс при ОРВИ или ОРЗ. По их цвету легко определяется характер инфекции.
Если они прозрачные – это признак вирусного заболевания, густая зеленая слизь свидетельствует о наличии бактериальной инфекции. При вирусной природе болезни вам будет сложно подобрать лекарственное средство.
Выделение слизи следует рассматривать как одну из попыток организма защититься.
Обратите внимание
Наилучший выход – попытаться облегчить состояние больного настолько, чтобы организм смог самостоятельно справиться с заболеванием.
Чтобы вылечить насморк, в аптеке приобретите физраствор и каждый час капайте средство в ноздри. Дозировку соблюдайте ту, что указана в приложенной к препарату инструкции.
Можно проводить орошение носовых полостей – для этого средство от насморка надо перелить в бутылочку из-под спрея, снабженную разбрызгивателем.
Физраствор можно сделать самостоятельно, растворив в литре кипяченой воды чайную ложку соли. Это, конечно, не совсем тот же состав, что и у аптечного, в который соли вводятся последовательно и добавляется глюкоза. Но в качестве временной меры можно приготовить физраствор в домашних условиях и промывать им нос.
Чтобы быстро избавиться от насморка, мало только избавляться от накапливающейся слизи. Организм необходимо поддерживать, принимая достаточное количество витамина С. Должен быть настроен питьевой режим – частое употребление жидкости намного ускорит выздоровление. Питье надо употреблять теплым – чем ближе к температуре тела, тем лучше. Так жидкость быстрее усвоится организмом.
Полезно регулярно проводить в помещении, где находится больной, влажную уборку, почаще проветривать комнату. Больному следует одеваться потеплее, но не настолько, чтобы вспотеть.
Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-122346-kak-mozhno-pomoch-prirode
Сочинение на тему берегите природу
Ищите синонимы на sinonim.org
, чтобы сочинение не совпадало с тем, что в интернете. Нажмите 2 раза на любое слово в тексте.
На uchim.org есть несколько сочинений на тему берегите природу. Выбирайте, какое нравится!
Берегите природу — сочинение за 6 класс
Я очень люблю отдыхать на природе. Ходить в лес, плавать в речке. Но в последнее время мы так загрязнили моря и реки, леса и степи, что становится страшно за будущие поколения. В данное время много говорят об охране природы.
В школах ввели предмет экологию. На этих уроках обсуждают ситуацию в окружающем мире, о том, как легко нарушить баланс в природе, а вот восстановить нарушенное очень сложно.
Природа сама восстанавливается, но очень медленно, поэтому люди должны беречь и охранять тот мир, в котором живут.
Совет
Люди в погоне за престижностью и деньгами истребили многочисленных видов животных, некоторые виды которых уже невозможно восстановить, или же остались единицы у некоторых ценителей природы.
Хищник, преследуя животное, хочет одного — наесться. Он не убьет больше, чем ему нужно. И в этом есть гармония, равновесие. Человек же уничтожает все, что видит, ему нужно все больше и больше.
И в результате он истребит все живое.
Я считаю что, если каждый человек будет соблюдать чистоту в своем дворе, в лесу, где гуляет, на предприятии, на котором работает, вокруг всё изменится! Я надеюсь, что люди одумаются, перестанут разрушать землю, на которой живут и поймут, что наша планета существует не для одноразового использования.
Мне страшно представить, что безмятежному счастью общения человека с природой угрожает опасность. Еще страшнее от мысли, что человек сам часто становится угрозой природе. Ведь большой урон начинается с малого.
Природа — это краса нашей Земли. Она дает нам пищу, кислород, а леса — древесину. Природу нужно беречь, а мы наоборот уничтожаем ее.
Во-первых, люди за год срубают более двух миллионов деревьев, а, чтобы выросло одно дерево, нужно ждать от двадцати до пятидесяти лет.
Во-вторых, нередко мы разводим костры. Из-за этого часто случаются пожары. Погибают миллионы растений. В-третьих, во время пожара животным приходится уходить. Потом люди вкладывают миллионы денег в фонды по защите лесов и восстановлению флоры и фауны.
https://uchim.org/sochineniya/na-temu-beregite-prirodu — uchim.org
Обратите внимание
В-четвертых, за последние десятилетия в ходе освоения месторождений нефти и газа безвозвратно истреблялись леса, животные.
Мы — хозяева нашей природы, а она — кладовая солнца со всеми ее сокровищами. И мы обязаны ее сохранить. Ведь, разрушая одно звено, мы разрушаем целую цепочку. Так давайте же не будем разводить костры в лесах, не будем убивать животных, ломать ветки деревьев и загрязнять реки и озера!
Популярные сочинения
- Образ поэта в лирике Пушкина сочинение
Александр Сергеевич Пушкин — это, бесспорно, наиглавнейший и самый обожаемый писатель России. На его творческом процессе родилось много поколений лучших ценителей родной письменности. - Сочинения по творчеству Короленко
Владимир Галактионович Короленко родился в середине 19 века, в 1853 году, и прожил часть 20 века; ушел из жизни в 1921. Его родина Украина, город Житомир. Родители представители передового дворянства - Сочинение на тему Свобода
Свобода – достаточно широкое понятие, которое нужно рассматривать с разных сторон. Она бывает разная, и люди по-разному трактуют и понимают смысл свободы. Однако многие согласятся с тем, что человек считается свободным тогда
Сочинение О Байкале 4 Класс – Telegraph
>>> ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ <<<
Сочинение О Байкале 4 Класс
Опубликовано Галимова Назира Фанисовна
вкл 01.10.2018 — 15:27
Чтобы пользоваться предварительным просмотром создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com
В проекте представлены сочинения на тему «Озеро Байкал».
Байкал – одно из старейших и величайших озёр в мире. Оно самое глубокое озеро, его максимальная глубина – 1367м, а также самое большое по объёму чистой пресной воды. В Байкал впадает 336 рек и ручьев. Озеро расположено на юге Сибири. Из-за удивительной формы полумесяца – озеро поделено на три части: южную, северную и среднюю. Оно очень долгое и огромное, что по поверхности тянется на 600 километров. Его северно-западная часть находится в Иркутской области, а юго-выстоянная в республике Бурятия. В озере обитает множество живых существ. Многие из них водятся только в этом озере, один из них – Байкальский тюлень, единственный в мире пресноводный тюлень.
О Байкале всего не расскажешь, его надо видеть. Там природа предстаёт перед всеми в виде прекрасных гор, лугов, тайги и воздуха, наполненного запахами моря, скал и цветов, в виде кристально прозрачной воды, бездонного синего неба, ослепительно белых облаков и жаркого солнца, ночью уступающих место безумной россыпи звезд. Там величественные утесы, в которых само Время создало удивительные гроты и пещеры, загадочные наскальные рисунки — творения далеких предков, уютные бухты и заливы.
У каждого человека есть мечта. Я люблю мечтать. Когда я была маленькой, мои мечты были сказочными и смешными, но я взрослею, и мечты становятся серьезными. Сейчас я мечтаю побывать на Байкале.
Как-то на одном из уроков по окружающему миру, учительница рассказала нам об озере Байкал. Байкал – это уникальное творение природы. Оно самое глубокое и самое большое в мире. Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни и различные предметы видны на глубине 40 м. Эти данные поразили меня. Я пришла домой и рассказала об этом бабушке.
Моя бабушка сказала, что она была на Байкале, и красота Байкала заворожила ее. Озеро окружают величественные горные хребты. А на побережье соседствуют полупустыня и тундра, тайга и каменная степь. Природа Байкала уникальна!
О Байкале можно рассказывать очень долго , но вспоминаются замечательные слова писателя Валентина Распутина: «Разве возможно выразить словом хоть приблизительно что-нибудь достойное его! Любые сравнения, любые слова будут лишь слабой и блеклой тенью!».
Как ты красив, наш батюшка Байкал!
Среди лесов, песчаных дюн и скал Стоишь, не зная горестей и бед Уж четверть сотни миллионов лет.
Озеро Байкал – уникальное озеро. Когда я увидел фотографии озера, мне захотелось узнать о нём больше. Прочитав много книг, посмотрев документальные фильмы, я был восхищён. Байкал заворожил меня не только своей внешней красотой, но и богатой флорой и фауной. Может поэтому нерпам, попавшим предположительно из Северного Ледовитого океана, Байкал стал родным домом. Может поэтому даже сама природа хранит его. Она окружила его лесами, скалами, дюнами, как будто хотела сохранить его девственность.
Но, к сожалению или к счастью, человек узнал о существовании этого самого глубокого озера России. К сожалению потому, что жадность человека не имеет границ, мы не умеем пользоваться правильно дарами природы. Нам нужно всё сразу и много. Только человек может одновременно восхищаться природой, отдыхать на лоне природы и вредить ей. А к счастью, потому что я не видел ничего подобного. Озеро Байкал – это удивительное царство. Да, да, именно царство. Будет жаль, если мы не сможем сохранить первозданную красоту этого озера – сапфира России.
У меня появилась мечта, увидеть Байкал воочию. Мне кажется, даже если посмотреть на это дивное озеро и подышать прибрежным воздухом, почувствуешь прилив сил, а если искупаться?
Я хочу обратиться к своим сверстникам, к уда не посмотри — наше будущее зависит от сохранения природы, экологии и трезвых умов нашего молодого поколения. Чтобы было осознания надобности сохранения природы такой, какая она есть.
А своё сочинение хочу закончить словами русского писателя Фазиля Искандера: « Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без нравственности, не имеет никакой цены ».
Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных присуща только этой местности. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем. Байкал находится в центре Азиатского континента на границе Иркутской области и республики Бурятия в Российской Федерации.
Озеро протянулось с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде гигантского полумесяца. Ширина Байкала колеблется в пределах от 24 до 79 км. Дно Байкала на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод — на 455,5 метра выше. Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными хребтами и сопками. При этом западное побережье -скалистое и обрывистое, рельеф восточного побережья — более пологий.
Вода в Байкале холодная. Температура поверхностных слоёв даже летом не превышает +8…+9 °C, Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни и различные предметы бывают видны на глубине 40 м. Это обычно бывает весной, когда вода в озере синего цвета. Летом же и осенью, когда в прогретой солнцем воде развивается масса растительных и животных организмов, прозрачность её снижается до 8 — 10 м, и цвет становится сине-зелёным и зелёным.
Чистейшая и прозрачнейшая вода Байкала содержит так мало минеральных солей, что может использоваться вместо дистиллированной. Водная масса Байкала оказывает влияние на климат прибрежной территории. Зима здесь бывает мягче, а лето — прохладнее. Наступление весны на Байкале задерживается на 10 — 15 дней по сравнению с прилегающими районами, а осень часто бывает довольно продолжительная.
Славный Байкал — он огромный, как море, Сколько таится в огромном просторе! Чистые воды, высокие скалы, Редкие рыбы и минералы.
Наталья Сухомлина
Байкал является уникальным озером в мире. Оно самое глубокое и удивительно красивое из всех существующих озёр. Расположено на самой окраине северной Азии и имеет удлиненную форму, что протянулась по поверхности земли на 630 км. Еще одна особенность отличающая Байкал от других крупных озер планеты в том, что амплитуда прогибания земной коры под Байкалом доходит до 12 км 800м. Это превышает почти на 2 км самую большую глубину океанского ложа, Марианский желоб. Таких глубоких впадин на земле больше не обнаружено.
Геологи считают, что начало возникновения озера было где-то 30–35 млн. лет тому назад. И до сегодняшнего дня оно сохранило свою тектоническую активность, о чем свидетельствуют более 2000 землетрясений в год.
Байкал неповторим растительностью на берегах, ландшафтом и даже климатом. Термальные источники здесь соседствуют с кедровыми лесами, лисы с гнездами чаек и журавлей, бурые медведи с байкальской нерпой. Уникально озеро и своей прозрачностью, сотни рек и речушек через хвойные дебри несут в Байкал чистую горную воду. В него течет три сотни рек, а вытекает только одна- Ангара.
На Байкале насчитывается 35 островов. Крупнейший из них остров Ольхон. Суровый, дикий и удивительно красивый пейзаж Байкала привлекает внимание не только геологов, но и туристов. Байкал удивительно напоминает море, огромными размерами и глубинами, жестокими штормами, крутыми, скалистыми берегами, поэтому в старину Байкал почтительно называли только морем. Можно часами стоять на его берегу и неотрывно смотреть на игру воды и неба. Даже тот, кто живет тут постоянно и видит Байкал ежедневно и ежечасно не может сказать, что видел его хотя бы дважды одинаковым. Горы, реки, леса, природные стихии, растительные и животные миры, все самое лучшее, что есть в Сибири, отразилось в этом красивом озере–море.
Барсучья кладовая. Александр Барков
Учимся рисовать горный пейзаж акварелью
Сочинение про Байкал (на русском языке) 2, 3, 5, 6 класс
Сочинения о Байкале | Образовательная социальная сеть
Озеро Байкал (доклад, 4 класс , окружающий мир) | ДоклаДики
Сочинение на тему: «Озеро Байкал » — Природа Мира
10 предложении сочинение Байкал — Школьные Знания.com
Сочинение про Байкал (на русском языке) 2, 3, 5, 6 класс
Сочинение про Байкал (на русском языке) | Свободный обмен…
Сочинение про Байкал (на русском языке) 2, 3, 5, 6 класс
Сочинение на тему байкал 4 класс | AlphaCat.ru
Сочинение на тему Озеро Байкал
Озеро Байкал . Сообщение для 4 класса . Окружающий мир
Окружающий мир 4 класс Как подготовить сообщение про озеро…
Сообщение о Байкале кратко (описание для детей) ? [Есть ответ]
Сочинение на тему Озеро Байкал
Потрясающее своим величием озеро « Байкал » | Яндекс Дзен
Крупнейшие Спортивные Сооружения России Реферат
Курсовая Работа В Сша
Введение Реферата Вечный Двигатель
Как Правильно Написать Курсовую
Сочинение На Тему Моя Будущая Профессия Психолог
Озеро Байкал — факты, история, интересные места
Разговор о Байкале нельзя не начать с общеизвестной банальности: это самое глубокое озеро на земле.
Что в этом такого для обычного туриста? В общем-то – ничего. Не считая мифической ауры, которая сформировалась вокруг Байкала именно на этой почве.
С практической точки зрения интересны отчеты о глубоководных погружениях и скрытый от нас мир подводной жизни.
Частичку этого мира можно найти в музее Байкала, где а аквариумной зоне можно увидеть настоящих хозяев и обитателей подводных глубин.
Еще раз напомним о глубинах: максимальная достоверно известная на сегодняшний день глубина озера — 1642 метра.
Чтобы понять, сколько это, сравним и известными архитектурными точками: чтобы достичь дна, понадобится поставить один на один 13 Петропавловских соборов, или три Останкинские телебашни.
Но не только максимальная, но и так называемая «средняя» глубина озера является рекордом – почти 750 метров.
Это в три раза больше, чем максимальная глубина Ладожского озера и в пять раз больше, чем глубина Онеги.
И еще более феноменальное сравнение: каждый пятый литр пресной воды сосредоточен именно в Байкале.
То есть, все вместе взятые реки и озера мира всего лишь в 5 раз больше, чем одно это озеро.
Не удивительно, что его называют морем.
Кстати, то, что Байкал официально считается озером – заслуга европейских догматиков-географов.
Нормальные люди, которые принимают природу такой, какая она есть называют Байкал морем реально.
Так, по-китайски Байкал, это — Бэй-Хай, что переводится — северное море.
Первые, пришедшие на берег русские поселенцы тоже называли Байкал – Ламу, что означало просто «море». Они видели мощь Байкальской стихии своими глазами и называли вещи своими именами.
В 1675 году одно из первых описаний озера сделал русский посланник Николай Спафарий, в своих путевых записках по дороге в Китай: «чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая».
Это потом появились кабинетные географы, и поставили всё с ног на голову. 
Море-озеро приютило более 2600 видов рыб и животных, больше 1000 видов флоры.
Неизвестно, сколько живности таится в глубине, но ясно точно, — человек не сумел добраться до всего.
Из-за больших глубин в огромном озере довольно мало островов.
Их всего 27, и самый крупный – Ольхон.
Его площадь всего лишь в два раза меньше, чем вся территория Санкт-Петербурга.
Основные точки распространения цивилизации на Байкале – район истока Ангары (как ближайшая точка к крупному городу Иркутску.
С другой стороны озера – район Баргузин, развитие которого определяет влияние Уран-Удэ.
Север озера обжит совсем мало. Единственный крупный населенный пункт – Северобайкальск – город, появление которого было связано с Байкало-Амурской магистралью.
БАМ лишь немного качается берега Байкала. А вот другая, первая железная дорога, соединившая всю Российскую империю из конца в конец проходит по южному берегу.
Это — знаменитая Транссибирская магистраль.
Тончайшая ниточка жизни на огромных просторах Сибири.
Когда-то, чтобы уничтожить мощную армию Колчака, оказалось достаточно просто закупорить эту артерию.
Транссибирская магистраль выходит к Байкалу в районе поселка Алгасолка, и идет вдоль берега через Байкальск и Тахой. А в районе поселка Боярский отворачивает в сторону, огибая дельту Селенги в направлении Улан Удэ.
Любопытный факт из географии озера.
Имея самые большие запасы воды на планете, Байкал отдает их очень неохотно, через единственную, вытекающую из озера, реку.
Кажется, что своем начале Ангара даже не река – а огромны разлом в поверхности планеты, уходящий до самого Иркутска. На самом деле это результат работы человека.
Постройка гидроэлектростанции вблизи Иркутска поднял уровень воды в Ангаре на 30 метров.
Помимо экологического влияния, подъем воды привел к затоплению части Кругобайкальской железной дороги, превратив ее в тупиковую ветку и туристический аттракцион.
Что интересно, совсем в другой части озера, за полтысячи километров, есть река Верхняя Ангара, наоборот, впадающая в озеро.
Как получилось, что две очень непохожие и по мощи и по структуре реки оказались объединены общим названием, история умалчивает.
Ведь названия появились несколько сотен лет назад, когда не было никаких спутниковых снимков…
Огромная ровная водная поверхность в окружении высоких сопок создает на Байкале эффект аэродинамической трубы.
Ветер на озере дует почти всегда. Ветер – такая всеобъемлющая составляющая байкальского края, что существует больше тридцати их местных названий.
Почти все они идут вдоль берега, и укрытий от них не очень много. Потому так ценятся здесь многочисленные, защищенные сопками бухты.
Именно в таких местах возникают центры жизни и туристической инфраструктуры.
Северо-западный ветер называют горным. Северо-восточный разными вариантами: Баргузин, Верховик, (или Ангара). Юго-западный ветер на Байкале – Култук. Юго-восточный — Шелонник. Однако ветер не определяет появление волнения на Байкале.
А вот волнение озере не связано напрямую с ветром.
Высокая волна может возникнуть и в полный штиль, и может достигать высоты четырех метров.
Однако успокоим, туристов.
Летом сильной волны не бывает, и, наоборот, часто наблюдается полный штиль.
Спокойствие и чистота воды сделали Байкал местом притяжения дайвингистов. Вода просматривается на 40 метров, а причудливые формы подводных скал стимулируют к продолжительным подводным приключениям.
Зато весной и осенью стихия просыпается, и пробует на прочность человеческие постройки на берегу.
Суровая природа защищает озеро от человека. Да и человеку гораздо проще охранять те места, которые не оказываются на острие своих экономических интересов.
Потому прибайкалье – рекордсмен по числу и размеру заповедников.
На самом побережье Байкала их три:
- Баргузинский заповедник
- Байкало-Ленский заповедник
- Байкальский заповедник
Есть два национальных парка: (Прибайкальский и Забайкальский), и шесть заказников: ( Фролихинский, Кабанский, Прибайкальский, Степнодворецкий, Верхнеангарский, Энхэлукский).
Человек настолько поверхностно приблизился к освоению этих мест, что, например, на остров Ольхон электичество провели только в 2006 году.
С точки зрения местных жителей это — недостаток. Но, через призму общечеловеческой цивилизации?..
Можно только приветствовать, что сама природа охраняет Байкал от вмешательства человека.
Сочинение Озеро Байкал кратко
Байкал… «Священное море» России возрастом двадцать пять миллионов лет. Дикая и неподступная красота пейзажей, прозрачная глубина холодного озера будоражат мою детскую мечту. И вот я здесь. Перед моим взором раскрывается никем и ничем непокоренная прелесть этого места.
Я не спеша иду вдоль берега и слышу, как волны озера разбиваются о булыжники. На возвышенностях распластались изумрудным ковром абсолютно различные виды деревьев: сосны, лиственницы. Байкал является сокровищницей флоры и фауны России. Многие объекты этого места занесены в Красную книгу России. Здесь можно наблюдать и удивительное явление – ходульные деревья. Если отключить разум и предаться фантазии, можно заметить, что они похожи на одеревеневших людей.
Необычайно милым представителем фауны является нерп. От этих удивительных животных практически невозможно оторвать взгляда. Да и вообще, красоты Байкала трудно оценить лишь разумом и взглядом. Эту природу надо чувствовать всем своим нутром, целиком и полностью отдаться ей. Просто закрыть глаза и слушать звук ветра, шелест деревьев, крики птиц; чувствовать запах лишайников, мхов, озера.
Условия здесь не мягче, чем, к примеру, в Сибири. Но от этого Байкал не перестает быть менее притягательным. А какие там закаты и рассветы! Сидишь на берегу и видишь, как лучи солнца озаряют все озеро, проникают в самую его глубь. И кажется, что они проходят и через тебя, наполняя твое тело светом и теплом.
Если пройти вглубь лесов, можно увидеть на ветвях деревьев разноцветные ленточки. Это люди завязывают их, загадывая желание. Мне кажется, что основным желанием людей является вернуться сюда снова. На одном из деревьев есть и моя лента – небесно-синего цвета, как сам Байкал. И я знаю, что эта лента – частица меня, и я обязательно сюда вернусь еще раз. Никакие заморские курорты не смогут потягаться с природой озера Байкал – дикой, непокоренной, неотесанной, настоящей.
Я растворяюсь в этом месте, каждая клеточка и частица моей души и тела остается здесь: в этих камнях, в кронах деревьев, в бликах солнца, в прозрачной глубине озера. И вот сейчас, в тысячах километрах от Байкала, я закрываю глаза, и передо мной встает незабываемая картина: вечернее озеро в красных лучах уходящего солнца. Это прекрасное, но немного грустное зрелище. Но я знаю, как солнце встанет утром и снова осветит воды Байкала, так и я, снова вернусь сюда.
2, 4, 8 класс
Озеро Байкал
Сейчас читают:
- Сочинение на тему Мой выходной день
Не буду скрывать, выходные я очень сильно люблю и с нетерпением их всегда жду. Я расскажу вам, как я провожу выходные со своей семьей. В пятницу я быстро и радостно бегу домой, кушаю, переодеваюсь и могу сразу пойти погулять с друзьями в футбол.
- Характеристика и образ Хлестакова из Ревизора сочинение
«Ревизор» — одно из самых известных произведений, принадлежащее перу Николая Васильевича Гоголя. С помощью такого приема как гротеск, описываются многие пороки общества того времени, особенно внимание уделяется проблеме чинопочитания.
- Один день из жизни Обломова сочинение
В самом начале данной поэмы автор показывает окружающим самый простой и непримечательный день главного героя Обломова. Проснувшись после ночи утром, Илья Ильич мыслил лишь об одном, что нужно подыматься с постели, но стоит заметить он не спешит вставать,
- Тема народа в романе Л. Н. Толстого Война и мир сочинение
Конечно, самыми главными любых военных действиях считаются главнокомандующие и полководцы, которые собственно говоря принимают все важные решения. Однако, не один из них не смог бы добиться успеха не имея своей армии, которая как правило верно и
- Сочинение на тему Нужна ли сатира сегодня 7 класс
Нужна ли нам сегодня сатира, так едко обличающая пороки общества и наставляющая наш социум в нелёгкие жизненные моменты и в стадиях надлома гражданского общества? Мы с вами очень часто задаёмся подобным вопросом об актуальности этого явления,
- Сочинение на тему Жестокость 11 класс ЕГЭ рассуждение
Жестокость – это качество человеческого характера, которое позволяет совершать плохие, безнравственные поступки, не сочувствовать и помогать людям, а, напротив, обижать их. Оно относится к самым худшим свойствам человека,
Озеро Байкал — Энциклопедия Нового Света
| Озеро Байкал | |
|---|---|
| Шаман-Камень острова Ольхон | |
| Координаты | 53 ° 30′N 108 ° 12 53,5, 108,2 |
| Тип озера | Континентальное рифтовое озеро |
| Первичные источники | Селенга, Чикой, Хилох, Уда, Баргузин, Верхняя Ангара |
| Первичные оттоки Ангара | |
| Площадь водосбора | 560 000 км² (216 000 кв. Миль) |
| Страны бассейна | Россия |
| Максимальная длина | 636 км (395.2 мили) |
| Макс.ширина | 79 км (49,1 мили) |
| Площадь поверхности | 31 494 км² (12 159,9 квадратных миль) |
| Средняя глубина | 758 м (2487 футов) |
| Макс.глубина | 1637 м (5371 фут) |
| Объем воды | 23600 км 3 (5700 куб. миль) |
| Время пребывания (в озерной воде) | 350 лет |
| Длина берега 1 | 2100 км (1300 миль) |
| Высота поверхности | 456 м (1496 футов) |
| Острова | 22 (Ольхон) |
| Населенные пункты | Иркутск |
| 1 Длина берега — неточная мера, которая не может быть стандартизована f или в этой статье. | |
Озеро Байкал (русский: о́зеро Байкал Озеро Байкал , произносится [ˈozʲɪrə bʌjˈkɑl], бурятский: Байгал нуур Baygal nuur ) находится в южной части Иркутской области на севере и западе России, между Республика Бурятия на юго-восток, недалеко от города Иркутска. Также известный как «Голубой глаз Сибири», он содержит больше воды, чем все Великие озера Северной Америки вместе взятые. Озеро Байкал высотой 1 637 метров (5 371 фут) представляет собой самое глубокое озеро в мире и самое большое пресноводное озеро в мире по объему, содержащее примерно 20 процентов всех поверхностных пресных вод в мире.
Как и озеро Танганьика, озеро Байкал образовалось в древней рифтовой долине и поэтому имеет форму длинного полумесяца с площадью поверхности (31 500 км²), которая вдвое меньше, чем у озера Верхнее или озера Виктория. Байкал является домом для более 1700 видов растений и животных, две трети которых встречаются только в зоне озера. ЮНЕСКО включила озеро Байкал в список Всемирного наследия в 1996 году. Ему более 25 миллионов лет, и оно было объявлено самым старым озером в мире. Успешное погружение мини-подводных лодок «Мир-1» и «Мир-2» на самое глубокое место Байкала 29 июля 2008 года на глубину более одной мили открыло перспективу новых открытий древней озерной жизни.
География и гидрография
Полуостров Святой №
Озеро Байкал, известное как «Северное море» в исторических китайских текстах, находилось на тогдашней территории Сиону. Озеро Байкал было вне поля зрения общественности, пока российское правительство не построило Транссибирскую железную дорогу между 1896 и 1902 годами. Для живописной петли, огибающей озеро Байкал, потребовалось 200 мостов и 33 туннеля. В процессе строительства F.K. Дриженко возглавил гидрогеографическую экспедицию, которая подготовила первый подробный атлас контуров глубин Байкала.Атлас продемонстрировал, что в Байкале больше воды, чем во всех Великих озерах Северной Америки вместе взятых — 23 600 кубических километров (5662,4 кубических миль), что составляет около одной пятой всей пресной воды на Земле. [1] По площади поверхности значительно более мелкие Великие озера Верхнее, Гурон и Мичиган в Северной Америке, а также относительно мелкое озеро Виктория в Восточной Африке превосходили его. Известный как «Галапагосские острова России», его возраст и изоляция привели к появлению одной из самых богатых и необычных пресноводных фауны в мире, представляющих исключительную ценность для эволюционной науки. [2]
Озеро Байкал расположено в рифтовой долине, созданной Байкальской рифтовой зоной, где земная кора разрывается. [3]
Бассейн Енисея, озера Байкал и населенных пунктов Диксон, Дудинка, Туруханск, Красноярск, Иркутск.
При длине 636 км (395,2 миль) и ширине 79 км (49,1 миль) озеро Байкал имеет самую большую площадь поверхности из всех пресноводных озер в Азии (31 494 км²), являясь самым глубоким озером в мире (1637 метров, ранее измеренное в 1620 метров).Дно озера составляет 1 285 метров ниже уровня моря, но ниже этого уровня находится около 7 километров (4,3 мили) наносов, из-за чего дно рифта находится примерно на 8–9 километров (более 5 миль) ниже поверхности: самый глубокий континентальный рифт на Земля. [3] С геологической точки зрения, рифт, молодой и активный, расширяется примерно на два сантиметра в год. Зона разлома испытывает частую сейсмическую активность. В этом районе появляются новые горячие источники и каждые несколько лет случаются сильные землетрясения. Он впадает в Ангару, приток Енисея.
Знаете ли вы?
Озеро Байкал в Южной Сибири, Россия — самое глубокое озеро в мире
Его возраст, оцениваемый в 25–30 миллионов лет, делает его одним из самых древних озер в геологической истории. Это уникальное место среди больших озер, расположенных в высоких широтах, его отложения не загрязнены преобладающими континентальными ледниковыми покровами. Исследования керновых отложений в США и России в 1990-х годах дают подробные сведения о климатических изменениях за последние 250 000 лет. Геологи ожидают, что в ближайшем будущем керны отложений будут длиннее и глубже.Озеро Байкал было подтверждено как единственное пресноводное озеро с прямыми и косвенными доказательствами существования газовых гидратов. [4]
Озеро полностью окружено горами, с Байкальскими горами на северном берегу и тайгой, технически охраняемой как национальный парк. Он состоит из 22 островов; Самый большой, Ольхон, имеет длину 72 километра (44,7 мили). Озеро имеет до трехсот тридцати впадающих рек, основные из которых впадают непосредственно в Байкал: Селенга, река Баргузин, река Верхняя Ангара, река Турка, река Сарма и река Снежная.Река Ангара служит его единственным выходом для дренажа. [1] Несмотря на большую глубину, вода в озере имеет отличную насыщенность кислородом по всей толще воды по сравнению со стратификацией, которая наблюдается в таких водоемах, как озеро Танганьика и Черное море.
Ольхон, самый большой остров на Байкале, является четвертым по величине островом в мире, окруженным озером.
Дикая природа
Омуль Рыба на Листвянке.
По степени биоразнообразия озеро Байкал превосходит все, за исключением нескольких озер.В озере Байкал обитает более 2500 видов растений и разновидностей животных, из которых более 80 процентов являются эндемичными. Байкальская нерпа (Phoca sibirica) , встречающаяся на всей территории озера Байкал, представляет собой один из трех полностью пресноводных видов тюленей в мире, а другой является двумя подвидами пресноводных кольчатых нерп. Омуль (Coregonus autumnalis migratorius), небольшой эндемичный лосось, может быть наиболее важным местным видом. [5] Местные жители ловят и курят лосося, продавая его на рынках вокруг озера.
Особого внимания заслуживают два вида голомянки или байкальской масличной рыбы ( Comephorus baicalensis и C. dybowskii ). Эти полупрозрачные рыбы с длинными плавниками, обитающие на глубине от 700 до 1600 футов, служат основной добычей для байкальского тюленя, представляющего самую большую биомассу рыб в озере. Масляная рыба Байкала прославилась тем, что при быстром выводе из-под высокого давления глубокой воды распадается на лужу масла и костей. Байкальский хариус (Thymallus arcticus baicalensis), — быстро плавающий лосось, популярный среди рыболовов, и байкальский осетр (Asipenser baerri baicalensis) — оба представляют собой важные эндемичные виды, имеющие коммерческую ценность.
Охотники обычно выслеживают и отстреливают медведя и оленя вдоль берегов Байкала.
Исследования
Исследование ледяного покрова на озере
Несколько организаций проводили естественные исследования на озере Байкал, в основном правительственные или группы, связанные с правительственными организациями.
В июле 2008 года Россия направила два небольших подводных аппарата «Мир-1» и «Мир-2» для спуска на дно озера Байкал на 1592 м (5223 фута) для проведения геологических и биологических испытаний своей уникальной экосистемы.В погружениях на «Мир» принял участие российский ученый и федеральный политик Артур Чилингаров, руководитель миссии. [6]
Экологические проблемы
Озеро зимой, вид со стороны туристического курорта Листвянка. Лед становится достаточно толстым, чтобы выдержать пешеходов и снегоходы.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
Озеро летом, вид из Больших Котов на юго-западном берегу.
Промышленники построили Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) в 1966 году на берегу моря.БЦБК отбеливает бумагу хлором, сбрасывая отходы в Байкал. Несмотря на многочисленные протесты, БЦБК все еще действует. Активисты-экологи стремятся сделать загрязнение менее вредным, чем прекратить производство БЦБК, поскольку остановка завода приведет к исчезновению рабочих мест, жизненно важных для местной экономики.
Нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан
Российские нефтепроводы Государственная компания «Транснефть» планировала построить магистральный трубопровод, который должен был пройти в пределах 800 метров (2620 футов) от берега озера в зоне значительной сейсмической активности.Активисты-экологи в России, Гринпис, оппозиция трубопроводу Байкал и местные жители решительно выступили против этих планов, потому что случайный разлив нефти нанесет значительный ущерб хрупкой окружающей среде озера. Президент России Владимир Путин вмешался, приказав компании рассмотреть альтернативный маршрут на 40 километров (24,9 миль) к северу, чтобы избежать таких экологических рисков. [7] Транснефть согласилась изменить свои планы, убрав трубопровод от озера Байкал. Работы по трубопроводу начались через два дня после того, как президент Путин согласился изменить маршрут в сторону от озера Байкал. [8]
Центр по обогащению урана
В 2006 году правительство России объявило о планах строительства первого в мире Международного центра по обогащению урана на существующей ядерной установке в Ангарске, в 95 км от берега озера. Критики утверждают, что это может привести к катастрофе для региона, призывая правительство пересмотреть свое решение. [9]
Центр по обогащению урана был открыт в Ангарске в декабре 2010 года. [10]
Туризм
Инвесторы из туристической индустрии были привлечены к озеру Байкал, так как доходы от энергоресурсов вызвали экономический бум.Это представляет собой экономическую выгоду для местных жителей, но может нанести вред территории озера Байкал. Виктор Григоров, владелец «Гранд Байкала» в Иркутске, городе с населением около 600 000 человек, входит в число инвесторов, которые планировали построить три гостиницы, создав 570 рабочих мест. В 2007 году правительство России объявило Байкальский регион особой экономической зоной. На популярном курорте Листвянка находится семиэтажная гостиница «Маяк». Росатом планирует построить лабораторию на Байкале совместно с международным урановым заводом и инвестировать 2 доллара.5 млрд в области и создать 2000 рабочих мест в городе Ангарск. [11] Ущерб от отелей на озере Байкал, внесенном в список Всемирного наследия, представляет собой угрозу окружающей среде.
Примечания
- ↑ 1.0 1.1 Озеро Байкал Факты Озеро Байкал . Проверено 28 января 2020 года.
- ↑ Озеро Байкал Центр всемирного наследия ЮНЕСКО . Проверено 28 января 2020 года.
- ↑ 3,0 3,1 Карла Хелфферих, Странности озера Байкал. Alaska Science Forum , 12 июля 1990 г. Дата обращения 28 января 2020 г.
- ↑ Т.В. Матвеева и др., Накопление газовых гидратов в подземных отложениях озера Байкал (Восточная Сибирь) Geo-Marine Letters 23 (3 -4) (2003): 289. Проверено 28 января 2020 года.
- ↑ Дебора Берд, Озеро Байкал: самое глубокое и самое старое озеро Земли EarthSky , 4 июня 2019 года. Проверено 28 января 2020 года.
- ↑ Русский мини- Подводная лодка всплыла после рекордного погружения в сибирском озере Новости , 29 июля 2008 г. (на английском языке) Проверено 28 января 2020 г.
- ↑ Путин приказал перенести нефтепровод BBC News , 26 апреля 2006 г. Дата обращения 28 января 2020 г.
- ↑ Начинаются работы на российском трубопроводе. BBC News 28 апреля 2006 г. Проверено 28 января 2020 г.
- ↑ Спасение Священного моря New Internationalist , 2 мая 2008 г. Проверено 28 января 2020 г.
- ↑ Россия открывает первый в мире запас низкообогащенного урана Международное агентство по атомной энергии , 17 декабря 2010 г. Проверено 28 января 2020 г.
- ↑ Том Эсслемонт, «Жемчужина Сибири» привлекает инвесторов BBC News , 7 сентября 2007 г. Дата обращения 28 января 2020 г.
Список литературы
- Кожов М. М. Озеро Байкал и его жизнь. Monographiae biologicae, v. 11. Гаага: W. Junk, 1963. OCLC 660805
- Маттиссен, Питер и Бойд Нортон. Байкал: Священное море Сибири. Сан-Франциско: Книги Клуба Сьерра, 1992. ISBN 0871565846
- Томсон, Питер. Священное море: Путешествие на Байкал. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 0195170512
- Ван Ренсберген, П. и др., 2002. Подозерные грязевые вулканы и холодные просачивания, вызванные диссоциацией газовых гидратов в озере Байкал. Геология 30 (7): 631-634.
Внешние ссылки
Все ссылки получены 27 января 2020 г.
| Объекты всемирного наследия в России | ||
|---|---|---|
| Центральный Сихотэ-Алин | ||
Источники
Энциклопедия Нового Света писатели и редакторы переписали и дополнили статью Википедия
в соответствии со стандартами New World Encyclopedia .Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с указанием авторства. Кредит предоставляется в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на участников New World Encyclopedia, , так и на самоотверженных добровольцев Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:
История этой статьи с момента ее импорта в Энциклопедию Нового Света :
Примечание. могут применяться ограничения на использование отдельных изображений, на которые распространяется отдельная лицензия.
Ученые считают, что причиной являются водовороты
ЗАКРЫТЬ
Огромные кольца, образующиеся на замерзшем озере Байкал в Сибири, которые десятилетиями озадачивали ученых, представляют скрытую опасность для местных жителей.
Buzz60
Основные моменты истории
- Большинство колец появляются в марте или апреле и имеют диаметр от 3 до 4 миль.
- Некоторые кольца были недолговечными, их хватало на день или два. Другие сохранялись неделями или даже месяцами.
- Ледяные кольца также были приписаны тщательно продуманным розыгрышам и даже действиям инопланетян.
Странные ледяные кольца в сибирском озере Байкал вызывали у ученых недоумение на протяжении десятилетий, но теперь загадка, по всей видимости, разгадана.
Ответ: Кольца образованы теплыми круговыми потоками воды подо льдом, называемыми водоворотами.
Сильные течения вихрей растапливают лед на краю, а более слабые держат центр в замороженном состоянии.
«Результаты наших полевых исследований показывают, что … есть теплые водовороты, которые циркулируют по часовой стрелке под ледяным покровом», — сказал Алексей Кураев, гидролог из Тулузского университета, в заявлении НАСА.
Ледовое кольцо шириной почти 2 мили было замечено на Байкале 1 апреля 2016 года. (Фото: MODIS / NASA)
«В центре вихря лед не тает, даже если вода теплая, потому что «токи слабые, — сказал он. — Но на границе водоворотов токи сильнее, и более теплая вода приводит к быстрому таянию».
Во время полевых работ Кураев и его коллеги пробурили скважины возле ледовых колец и установили датчики, способные измерять температуру и соленость воды на глубине до 700 футов.Обычно вода в водоворотах была на 2–4 градуса по Фаренгейту теплее, чем окружающая вода.
Большинство колец появляются в марте или апреле и имеют диаметр от 3 до 4 миль — слишком большие, чтобы их можно было распознать с земли, но их легко увидеть со спутников, расположенных выше. Некоторые кольца были недолговечными, их хватало на день или два. Другие сохранялись неделями или даже месяцами.
Многие ученые думали, что гигантские ледяные кольца образовались в результате выбросов метана со дна озера, но новое исследование предполагает иное.
Ледовые кольца озера Байкал в Сибири несколько десятилетий озадачивали ученых. (Фото: MODIS / NASA)
Ледяные кольца также были приписаны многочисленным причинам, включая атмосферные или биологические эффекты, тщательно продуманные мистификации и даже действия инопланетян, сказал Гизмодо.
Озеро Байкал — самое большое и самое глубокое пресноводное озеро в мире, согласно Gizmodo. Здесь обитает множество видов рыб, которых больше нигде в мире не встретишь, и даже популяция пресноводных тюленей.
Исследователи все еще изучают причину возникновения водоворотов на Байкале, но полагают, что это, вероятно, связано с ветрами, реками, впадающими в озеро, а также формой береговой линии и дна озера.
Исследование Кураева было опубликовано в конце прошлого года в журнале «Лимнология и океанография».
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/02/05/ice-rings-siberia-scientists-think-eddies-cause/4667792002/
The Deepest Озеро в мире, движущееся к глубокой беде — Секция среды обитания рыб Американского рыболовного общества
Озеро Байкал, возраст которого составляет около 25 миллионов лет, в нем содержится 20 процентов мировых запасов пресной воды, расположено в довольно отдаленном районе дикой природы России (Skylarov et al., 2015). Это огромное озеро носит титул самого большого, самого глубокого и старейшего пресноводного озера на нашей планете. К сожалению, необъятность Байкала может быть тем, что привело к его гибели. Хотя жители России ценят озеро как источник воды, экономическую выгоду и культурный ресурс, они годами увеличивают попадание в озеро загрязняющих веществ. Из-за этого загрязнения озеро Байкал демонстрирует удручающие признаки эвтрофикации и потепления, а также сокращение числа эндемичных видов.
Географическое положение озера Байкал в России. Изображение с http://earthsky.org/earth/what-is-the-worlds-deepest-lake
Существует заблуждение, которое, кажется, приходит в голову людям, когда они смотрят на большой водоем. Это заблуждение состоит в том, что вода бесконечна и всеобъемлюща, и поэтому маловероятно, что на нее будет воздействовать какое-либо человеческое влияние. Однако это далеко от истины. Все водоемы чувствительны к антропогенному или антропогенному влиянию и разрушению.Это разрушение главным образом проявляется в эвтрофикации — повышенном поступлении питательных веществ в водоем, что, в свою очередь, приводит к усилению роста растений и водорослей и, в конечном итоге, к осаждению. Кислородное истощение является результатом увеличения поступления питательных веществ, что приводит к росту растений. Хотя эвтрофикация может быть естественным процессом, действия человека значительно ускоряют этот процесс. Более теплая вода содержит меньше кислорода, поэтому последствия кислородного истощения, вызванного эвтрофикацией, в водах озера Байкал усугубляются в сочетании с изменением климата.Новое исследование показало, что за 60-летний период температура поверхности воды летом повысилась на 2,4 ° C (Изместьева и др., 2015). Повышение температуры приводит к таянию вечной мерзлоты вокруг озера Байкал. Это таяние приводит к выбросам промышленных загрязнений, включая полихлорированные бифенилы (ПХБ) и диоксины, в воздух и водосборы, окружающие озеро Байкал (Moore et al., 2009). Эти токсины попали в вечную мерзлоту с окружающих промышленных предприятий и целлюлозного завода (Moore et al., 2009). Повышенная температура также может быть связана с повышенной опасностью для организмов, которые называют Байкал своим домом.
Для организмов, обитающих в озере Байкал, существуют различные последствия, связанные с повышением температуры, загрязнением и эвтрофикацией. Промышленные химикаты и загрязнение влияют на байкальских тюленей, поскольку они являются хищниками на пике пищевой цепи в озере и, следовательно, склонны к накоплению загрязняющих веществ в их ворвани (Nakata et al., 1995). Повышенное поступление питательных веществ и химикатов также привело к образованию токсичного цветения водорослей в мелководных заливах озера Байкал (Белых и др., 2015). Цветение водорослей приводит к гипоксическим условиям, которые приводят к гибели рыб, а также к потере местного фитопланктона, который является лучшим источником пищи для планктоноядных рыб и зоопланктона.
Озеро Байкал — уникальная жемчужина в нашем мире природы. Помимо своей эстетической красоты, озеро также вносит ценный биологический, культурный и экономический вклад в жизнь общества. Что касается биологического вклада, озеро Байкал дает возможность изучить эндемичные виды и их адаптацию к глубоководному обитанию в пресноводных средах озер.Кроме того, состав донных отложений и современные растительные животные, обитающие в озере Байкал, позволяют заглянуть в историю озера вместе с потенциальной эволюцией видов. Это лишь один из многих не включенных в список вкладов, которые Байкал вносит в наш мир. Именно по этим причинам сохранение озера Байкал является абсолютной необходимостью, чтобы самое большое и старейшее озеро в мире процветало и оставалось здоровым для многих будущих поколений.
Кристально чистые воды Байкала.Изображение с http://www.lifefoc.com/photos/server3/lake_baikal.jpg
Список литературы
Белых О.И., Гладких А.С., Сороковикова Е.Г., Тихонова И.В., Бутина Т.В. 2015.
Идентификация токсичных цианобактерий в озере Байкал. Доклады биохимии и биофизики. 463 (3): 349-353
Изместьева, Л. Р., Мур, М. В., Хэмптон, С. Е., Ферверда, К. Дж., Грей, Д. К., Ву, К. Х.,
Пислегина Х.В., Кращук Л.С., Шимараева С.В., Силов Э.A. 2015. Физические и биологические тенденции в масштабах всего озера, связанные с потеплением в Байкале. Журнал исследований Великих озер.
Мур М.В., Хэмптон С.Е., Изместьева Л.Р., Силов Е.А., Пещкова Е.В., Павлов Б.К.
- Изменение климата и «священное море» мира — озеро Байкал, Сибирь. Биология. 29: 5. 405-417.
Наката, Х., Танабе, С., Тацукава, Р., Амано, М., Миядзаки, Н., и Петров, Э.А. 1995.
Стойкие хлорорганические остатки и кинетика их накопления в байкальской нерпе (Phoca sibirica) из озера Байкал, Россия.Environ. Sci. Technol. 29: 2877-2885.
Скляров Е.В., Склярова О.А., Лавренчук А.В., Меньшагин Ю. V. 2015. Природные загрязнители Северного Байкала. Environ. Earth Sci. 74: 2143-2155.
Авторы фотографий
Изображение 1: http://www.lifefoc.com/travel/lake-baikal-russian-federation/
Фотография 2: http://americangeo.org/geography-of-the-day/geography-of-the-day-15-facts-about-lake-baikal/
Фотография 3: http: //www.placestoseeinyourlifetime.com / замороженное озеро-байкал-в-сибири-1665/
Гигантские ледяные кольца Байкала
В течение нескольких десятилетий ученые и астронавты, наблюдающие за озером Байкал, замечали гигантские кольца в весеннем льду одного из старейших и самых глубоких озер в мире. Российские исследователи впервые заметили их на спутниковых снимках в начале 2000-х годов, но именно после того, как астронавты на Международной космической станции сфотографировали два ледовых кольца в апреле 2009 года, это явление стало темой международных исследований и восхищения.
Хотя кольца привлекают спекуляции и несколько теорий заговора, десятилетия спутниковых данных и полевых исследований пролили свет на то, почему они образуются. «Результаты наших полевых исследований показывают, что до и во время проявления ледовых колец есть теплые водовороты, которые циркулируют по часовой стрелке под ледяным покровом», — пояснил Алексей Кураев, гидролог из Тулузского университета. «В центре водоворота лед не тает, даже если вода теплая, потому что течения слабые.Но на границе водоворота течения сильнее, и более теплая вода приводит к быстрому таянию ».
Во время полевых работ Кураев и его коллеги из Франции, России и Монголии пробурили скважины возле ледовых колец и развернули датчики, способные измерять температуру и соленость водяного столба на глубине до 200 метров (700 футов). Обычно вода в водоворотах была на 1-2 градуса по Цельсию (от 2 до 4 градусов по Фаренгейту) теплее, чем окружающая вода. Они также обнаружили, что водовороты имеют линзовидную форму, что является обычным явлением в океане, но редко встречается в озерах.
Исследовательская группа все еще изучает причины возникновения водоворотов, но анализ метеорологических и гидрологических данных показывает, что они обычно начинаются осенью, до того, как лед покрывает озеро. Вероятно, они образуются из-за постоянных ветров и притока воды из некоторых рек. Форма береговой линии и дна озера также играет роль в определении того, где образуются и перемещаются водовороты.
На снимке со спутника Landsat вверху страницы показано ледяное кольцо в центральной части озера 1 апреля 2016 года.Это кольцо было особенно хорошо изучено, потому что рядом находились Кураев и его коллеги, которые проводили измерения льда и подстилающей воды. Тонкий лед кольца кажется более темным и прозрачным, чем более белый и толстый лед, окружающий его.
Это конкретное кольцо было больше, чем просто научной диковинкой; это представляло серьезную опасность, потому что зимой россияне часто проезжают по льду, чтобы перебраться через озеро. Фактически, за несколько недель до того, как был сделан снимок со спутника, фургон прорвался и затонул вдоль края этого ледового кольца; водитель и пассажиры скрылись и были спасены.Через несколько дней второй фургон (фото выше) прорвался и застрял у восточной границы ледового кольца.
Чтобы лучше понять, где и как часто образуются гигантские ледяные кольца, ученые проанализировали все доступные спутниковые снимки озера Байкал с 1969 года и определили десятки колец. Большинство из них появилось в марте или апреле и имело диаметр от 5 до 7 километров (от 3 до 4 миль) — слишком большие, чтобы их можно было распознать с земли, но их легко увидеть сверху. Некоторые кольца были недолговечными, их хватало на день или два.Другие сохранялись неделями или месяцами.
Кольцо на изображении в верхней части страницы сформировано у мыса Нижнее Изголовье, одного из самых распространенных мест, где встречаются кольца. Из 57 колец, обнаруженных на Байкале, около 13 образовались именно здесь. По словам Кураева, это, вероятно, связано с тем, что подводный каньон имеет тенденцию «улавливать» водовороты в этой области. «Люди часто ездят по прямой линии между мысом Нижнее Изголовье и мысом Хобой, — сказал он, — но мы настоятельно рекомендуем им выбрать более южный маршрут, чтобы избежать частых ледовых колец в этом опасном регионе.”
25 апреля 2019 года спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) на спутнике НАСА Terra получил изображение (вверху) самых последних ледовых колец Байкала, обнаруженных спутниками.
В течение ряда лет одной из самых обсуждаемых теорий как в научном сообществе, так и в средствах массовой информации было то, что газовые гидраты — ледяная форма метана, обнаруженная на дне озера, — могут играть определенную роль. Работа Кураева и его коллег говорит об обратном. Прочесывая архивы спутниковых изображений Landsat и MODIS в поисках свидетельств существования колец, ученые определили несколько неглубоких частей озера, где условия не подходят для газовых гидратов.Они также обнаружили гигантские кольца на спутниковых снимках озера Хубсугул в Монголии и Телецкого озера в республике Алтай в России, которые мельче озера Байкал и, как известно, не имеют выбросов газа.
Изображения NASA Earth Observatory, сделанные Лорен Дофин с использованием данных Landsat из Геологической службы США и данных MODIS из NASA EOSDIS / LANCE и GIBS / Worldview. Фотография принадлежит Александру Бекетову, использована с разрешения. По рассказу Адама Войанда.
Священное озеро Сибири | CBC News
Сибирское озеро Байкал очень холодное, дикое и уникально красивое.
Лед практически не содержит осадка и примесей, его прозрачность напоминает лист стекла.
Первый шаг, который вы делаете на замерзшей поверхности, вы боретесь с ощущением, что можете врезаться в самую холодную воду в мире внизу.
На самом деле лед обманчиво толстый — более метра — и достаточно прочен, чтобы выдержать цементовоз.
«Когда они приходят сюда, люди удивляются и спрашивают: ‘Почему мы не приходили сюда раньше?’ — сказал Игорь Поботкин, один из многих гидов, путешествующих по озеру.
Встроенные белые пузырьки метана придают льду артистичности.
Пузырьки метана, внедренные во лед озера Байкал, создают гипнотический эффект. (Дмитрий Козлов / CBC)
Пузырьки метана, внедренные во лед озера Байкал, создают гипнотический эффект.(Дмитрий Козлов / CBC)
Четкие геометрические глыбы на берегу создают красивые призмы, когда сквозь них светит солнце. Вокруг нас туристы восхищаются, когда ходят по нему. Некоторые зашнуровывают коньки. Многие позируют для селфи в Instagram, чтобы произвести впечатление на друзей дома.
«У нас самый большой каток в мире, самый чистый лед, самый большой запас чистой воды, и все это привлекает людей», — сказал Поботкин CBC News.
«Сейчас настоящий бум.«
ЧАСЫ | Дрон снимает потрясающие виды на Байкал:
Когда-то отчаянно бедное и глухое озеро Байкал внезапно стало одним из самых популярных мест в России.
Но некоторые здесь считают, что популярность слишком высока для экологии региона. Более того, попытка найти правильный баланс вызвала ожесточенную борьбу с правительственными чиновниками, пытающимися управлять ростом.
Мы в 5000 км к востоку от столицы, Москвы, на западной стороне Байкала.
Озеро в форме полумесяца, протянувшееся на 640 километров, примерно в два раза длиннее озера Онтарио, но лишь примерно на треть ширины.
Необъятность Байкала оценивается не только по территории, которую он покрывает, но и по его огромной глубине.
Дно озера в некоторых местах спускается дальше, чем любой другой пресноводный водоем — более 1600 метров, что в четыре раза превышает глубину самой глубокой части озера Верхнее.
Корабли на воздушной подушке пересекают льды Байкала. (Дмитрий Козлов / CBC)
Корабли на воздушной подушке пересекают льды Байкала. (Дмитрий Козлов / CBC)
Байкал также является самым старым озером в мире — образовалось 25 миллионов лет назад.
Это делает его древним по сравнению с Великими озерами, которые были заполнены только 15 000 лет назад или около того после последнего ледникового периода.
Если и есть символ туристического бума, охватившего Байкал, то это хивус , (произносится как хи-воос) или судно на воздушной подушке на русском языке.
Всего несколько лет назад на озере почти не было вирусных инфекций.
Теперь они стали популярным средством передвижения, десятки припаркованы на льду у туристического городка Листвянка, главных ворот Байкала.
Всего за несколько часов они могут пронести туристов мимо захватывающих пейзажей на сотни километров береговой линии.
«Их не хватает», — сказал Поботкин. «Нам нужно больше инвестиций в эту сферу транспорта — он действительно востребован».
Лед Байкала метровой толщины может казаться тонким, как лист стекла. (Дмитрий Козлов / CBC)
Лед Байкала метровой толщины может казаться тонким, как лист стекла.(Дмитрий Козлов / CBC)
Туристическое агентство Иркутска сообщает, что за год до пандемии, 2019 год, озеро Байкал посетило 1,8 миллиона человек, а связанные с туризмом мероприятия принесли в экономику региона более 116 миллионов канадских долларов.
Число иностранных посетителей, особенно из Китая, неуклонно растет, увеличившись примерно на 40 процентов за год до пандемии.
Все началось с посещения летом, когда люди приезжали в походы, посещали горячие источники и наслаждались пляжами озера.
Но, по данным туристического агентства, в последнее время резко вырос и зимний «ледяной» туризм, удвоившись из года в год.
В связи с закрытием большинства международных границ в 2021 году иностранные гости в этом сезоне были заменены состоятельными россиянами, которые обменивали зимние каникулы на склонах Альп на поездку на Байкал.
Елена Иванова и ее партнер Анатолий Тереха впервые в этом году посетили Байкал.(Коринн Семинофф / CBC)
Елена Иванова и ее партнер Анатолий Тереха впервые в этом году посетили Байкал. (Коринн Семинофф / CBC)
«Я думаю, что это лучший праздник на свете», — сказала 34-летняя Елена Иванова, которая пришла в модном лыжном костюме с меховым капюшоном. Они с партнером впервые приехали на Байкал.
«Я очень благодарен за эту часть COVID-19, потому что у нас есть возможность путешествовать и увидеть нашу большую невероятную страну.«
Наплыв посетителей изменил традиционную ресурсную экономику Байкала и обогатил многих людей, живущих на его берегах.
За одно десятилетие обнищавшие бывшие рыбацкие деревни наполнились новым богатством и целеустремленностью.
Многие молодые люди, выросшие в этом районе, теперь предпочитают остаться, пытаясь зарабатывать на жизнь в своих родных общинах, а не уезжать куда-то еще.
Потрясающие ледяные образования обрамляют берег Байкала.(Дмитрий Козлов / CBC)
Потрясающие ледяные образования обрамляют берег Байкала. (Дмитрий Козлов / CBC)
Но прибытие такого количества туристов также поставило под сомнение способность Байкала справляться с проблемами.
Загрязнение, особенно отходами жизнедеятельности человека, из-за отсутствия канализационной инфраструктуры стало серьезной проблемой.
На первой береговой линии, которая когда-то считалась закрытой для строительства, внезапно появились отели и коттеджи.
Местные растения и дикая природа находятся под угрозой, говорят экологи.
И есть новые, ожесточенные разногласия и недоверие по поводу того, чье видение будущего развития и туризма этого чуда природы в конечном итоге победит.
Стоя на Байкале — самом глубоком озере в мире
О Байкал, самом глубоком озере в мире, как я могу начать вас описывать? Как и в любой современной истории любви, я сначала обнаружил вас в Интернете (точнее, на Pinterest), а затем, когда я понял, что буду проезжать мимо вас по дороге через Сибирь, я подумал, что могу остановиться и поздороваться, но Я понятия не имел, насколько вы великолепны на самом деле! Серьезно, эти фотографии не передают твою красоту.
Возможно, именно это подумал Дэн, когда впервые встретил меня после того, как шесть месяцев преследовал мой блог ?! (Правдивая история.)
Зимнее посещение Байкала было поистине впечатляющим событием.
Вообще-то даже на бумаге Байкал впечатляет. Это самое большое (по объему) пресноводное озеро в мире и самое глубокое озеро в мире, глубина которого составляет 5387 футов. Если этого недостаточно для посещения, озеро Байкал также считается самым старым озером в мире (более 25 миллионов лет) и содержит более 1700 различных растений и животных, две трети из которых не встречаются больше нигде в мире!
Поскольку озеро Байкал находится в паре часов от Иркутска, мы с Дэном решили провести две ночи в Листвянке, небольшом городке на южной оконечности озера.Листвянка выглядела так, будто летом она, вероятно, была забита туристами, но когда мы были там, она была почти мертвой.
В феврале мы не видели много людей в Листвянке, но Дэн подружился с этим очаровательным щенком!
Я без проблем ходил по замороженным прудам и озерам, но, выходя на Байкал, у меня сильно пошатнулись колени! Поскольку вода такая прозрачная, местами мы могли видеть далеко в озере, и мне действительно казалось, что лед может просто уступить дорогу, и меня затянет до самого дна.Это было нелепо, учитывая, что я хорошо видел, что лед был невероятно толстым, но я полагаю, что стоять на вершине самого глубокого озера в мире должно быть немного устрашающе.
В какой-то момент вдалеке проехало судно на воздушной подушке, и лед треснул, и, боже мой, я понятия не имел, что могу двигаться так быстро по льду. Мы с Дэном так быстро вернулись, чтобы приземлиться.
стоять на самом глубоком озере в мире было совершенно нереально!
Хотел бы я запечатлеть, насколько прозрачна вода на фотографиях, но я думаю, вам всем просто придется лично посетить озеро!
Я бы с радостью остался на озере весь день, но было невероятно холодно и ветрено, поэтому в конце концов мы сбежали в поисках горячего шоколада.Но мы обязательно вернемся к закату!
И это был самый красивый закат, который я когда-либо видел. Извините, Боракай, но на песчаных пляжах нет ничего на глыбах льда, когда дело доходит до отражения пурпурных и золотых лучей заходящего солнца.
Мы поехали на микроавтобусе с Центрального рынка Иркутска до Листвянки за 120 рублей (2 доллара). Фургоны отправляются примерно каждые 20 минут.
Мы останавливались в хостеле «Белка», уютном деревянном домике на холме с видом на озеро.Мне он очень понравился, и я даже не могла поверить, что наш двухместный номер с двумя кроватями был таким дешевым. Я настоятельно рекомендую остановиться там, но имейте в виду, что это 15-20 минут ходьбы в гору (это было немного сложно на ледяной тропе с тяжелыми рюкзаками) и здесь нет Wi-Fi. Проверить текущие цены и наличие свободных номеров можно здесь.
Если вы хотите остановиться в отеле в Листвянке, я слышал удивительные вещи о гостевом доме «Малина», из которого открывается прекрасный вид на Байкал (и у них есть Wi-Fi!). Проверьте текущие цены и наличие свободных номеров здесь
Вы были на Байкале? Вы бы поехали зимой?
Джеймс Кэмерон ныряет под Байкал
МОСКВА (Рейтер) — Свой день рождения режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон провел под водой.
Джеймс Кэмерон отвечает на вопрос репортера во время пресс-конференции на Seoul Digital Forum 2010 13 мая 2010 г. REUTERS / Jo Yong-Hak
Кэмерон, которому в понедельник исполнилось 56 лет, нырнул под поверхность самого глубокого озера в мире на подводном аппарате, который он использовал для съемок крушения Титаника, сообщил Фонд сохранения озера Байкал.
Кэмерон поднялся на борт подводного аппарата Мир-1 и провел несколько часов в водах Байкала, сообщила российская группа.
Мир-1, длиной менее 8 метров (26 футов), является одним из двух подводных аппаратов, которые Кэмерон использовал для съемок Титаника при подготовке к блокбастеру 1997 года.Россия использовала судно в 2007 году для установки российского флага на морском дне у Северного полюса.
В понедельник его пилотировал Анатолий Сагалевич, директор технического совета фонда охраны природы, который пригласил Кэмерона в его первый визит на Байкал и подарил ему выносливые часы «гидронавта».
Серповидное озеро в Сибири, примерно в 5000 км (3000 миль) к востоку от Москвы, является старейшим и самым глубоким озером в мире, по данным ЮНЕСКО, включенной в список Всемирного наследия.