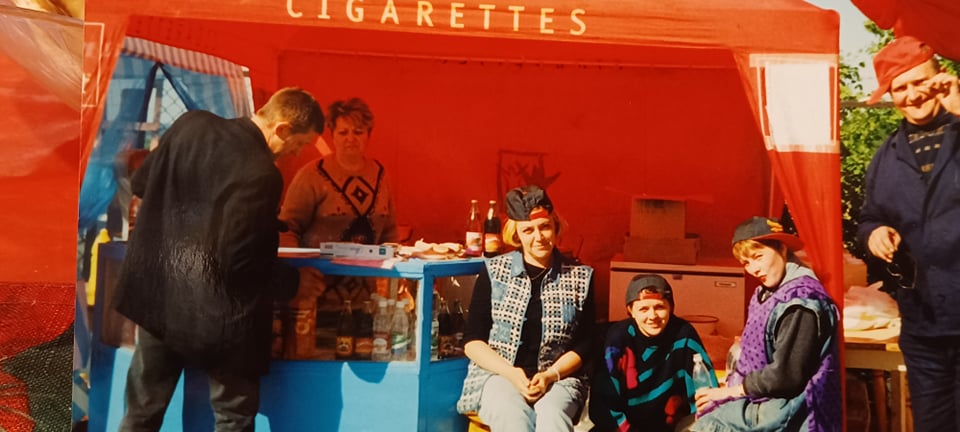Ó ìåíÿ âñå ñòàòüè, êàê ïðîäîëæåíèå îäíîé î èçó÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà. Äðîáëþ, ÷òîáû íå ðàçäóâàòü äî íåïðèëè÷èÿ îáú¸ì áóêâèö, õîòÿ, óâëåêàþñü íå çàìå÷àÿ… È íè÷åãî íå ìîãó ïîäåëàòü, âåñü ÿçûê áåç èñêëþ÷åíèÿ íàäî èçó÷àòü çàíîâî. Òàê óæ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî áåð¸øüñÿ çà êàêîå-íèáóäü ñëîâî, íàïðèìåð — «îïàëà», à ïî õîäó óçíà¸øü çíà÷åíèå ÿçûêó (êîòîðûé âî ðòó). Íåò, ÿ, êîíå÷íî æå, ñëûøàë, ÷òî «ÿçûê áåç êîñòè» è èì ìîëîòÿò. Íî ïðè ÷¸ì òóò ðûáà ïàëòóñ? À îíà îäíîãî ñåìåéñòâà ñ «ßçûêîì-ðûáîé» Ñðåäèçåìíîìîðñêîé. À êàêàÿ ìåæäó íèìè ñâÿçü, ÿ è ïðåäñòàâèòü íå ìîã. Äàëüøå áîëüøå, íåîæèäàííî óçíà¸øü, îòêóäà âçÿëèñü çíàìåíèòûå òàïî÷êè, åñëè ïåðâûé âñòàë. Ñëîâî çà ñëîâî öåïëÿåòñÿ è òàê ïðîèñõîäèò âñåãäà, íåâîçìîæíî íå îñòàíîâèòüñÿ, íå ïðîïóñòèòü. Êòî íå ïðî÷¸ë ñòàòüþ î òîì, êòî òàêèå ïîëîâöû è êðèâè÷è, íàïîìíþ âêðàòöå ñþæåò, èìåííî îò ïîëîâöà è ðå÷êè Ïàëàòà, ïåðåø¸ë ê îïàëå. Óæå ïðåêðàñíî ïðåäñòàâëÿÿ çíà÷åíèå êîðíÿ «ïàë», âäðóã ïîäóìàëîñü, à ÷òî ïèøóò çà îïàëó? Òîëüêî êàïíóë è ïîíÿë, ÷òî ýòî êëàä. Áëàãîðàçóìíî ðåøèë ðàçäåëèòü òåìó, õîòü îíè è êðåïêî ñâÿçàíû íèòüþ âðåìåíè, àêè ïàëàòà, îïàëà è çëîé ïîëîâåö.
Êòî òàêèå ïîëîâöû (êèï÷àêè è êóìàíû), çàîäíî è êðèâè÷è ðàçîáðàëñÿ â ñòàòüå «Ïîëîâåö. Çíà÷åíèå è ïðîèñõîæäåíèå ëîâåö…», ýòî òå æå ñàìûå ïîëî÷àíå — ïîëîâ÷àíå. Êëþ÷åâûå ñëîâà, êîòîðûå îíè îñòàâèëè ïîòîìêàì: ïîëîí (ïëåí), ïîëê, ïîëå, ïàë è åù¸ òûñÿ÷à. Íàïîìíþ: ïîëî÷àíå — ïîëîöêèå êðèâè÷è, íàñåëÿâøèå òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Âèòåáñêîé, ñåâåð Ìèíñêîé îáëàñòè, ÷àñòü ñîâðåìåííîé Ðîññèè.  ëåòîïèñè óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî êðèâè÷è ïðîèçîøëè îò ïîëî÷àí. Ïîëîâåö — êàëüêà ÿçû÷íèê, íî òðóäíîñòü ñîñòîÿëà íå â òîì, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî îíè ÿçû÷íèêè, à ÷òî ïîëîâöû íèêàêèå íå ñòåïíÿêè — ñëàâÿíå ñ îñåäëûì îáðàçîì æèçíè. Êðóïíåéøèìè ïîñåëåíèÿìè êðèâè÷åé-ïîëî÷àí ÿâëÿëèñü Ïîëîöê (862), Âèòåáñê (974), Ëóêîìëü (1078), Èçÿñëàâëü (985), Óñâÿòû (1021), Êîïûñü (1059), Ìèíñê (1067), Îðøà (1067), Äðóöê (1078), Ëîãîéñê, Ñìîëåíñê, Èçáîðñê. Èç èçâåñòíûõ èñòîðè÷åñêèõ ãåðîåâ Äîëãîðóêèé, Áîãîëþáñêèé, Íåâñêèé — áûëè æåíàòû íà ïîëîâ÷àíêàõ, ñîîòâåòñòâåííî è âñÿ ëèíèÿ ïîòîìêîâ ïî êðîâè — ïîëîâåöêàÿ. Åñëè áû íå îäíî íî. Ïîëîâåö — íå íàöèîíàëüíîñòü, õîòü îá ýòîì è ìíîãî ãëóïîñòåé â ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðå, ïðè÷èñëÿÿ êóìàíîâ, êèï÷àêîâ è ïîëîâöåâ ê îäíîìó íàðîäó. Âòîðîé ìîìåíò, íå ìåíåå âàæíûé, íàäî âíèìàòåëüíåå ïðèñìîòðåòüñÿ ê ëè÷íîñòè «ïîëîâåöêèõ õàíîâ», îíè äîëæíû îòêðûòüñÿ èññëåäîâàòåëþ ñîâåðøåííî ñ äðóãîé ñòîðîíû (ëóíû) ïîçíàíèÿ èñòîðèè.
Íà òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ ïîëî÷àí ñôîðìèðîâàëîñü Ïîëîöêîå êíÿæåñòâî. Çåìëè ïîëî÷àí ïðîñòèðàëèñü ïî îáîèì áåðåãàì Çàïàäíîé Äâèíû äàëåêî îò Ïîëîöêà âïëîòü äî Áàëòèéñêîãî ìîðÿ è ãðàíè÷èëè ñî ñìîëåíñêèìè êðèâè÷àìè, ïñêîâñêèìè è èëüìåíñêèìè ñëîâåíàìè. À âîåâàëè ñ íèìè êèåâëÿíå ñî âðåì¸í Àñêîëüäà, ïîêà Îëåã íå ïðèíÿë Êèåâ âî âëàäåíèå è ïðàâëåíèå.  Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñè óïîìÿíóò ïîõîä íà ïîëî÷àí Àñêîëüäà è Äèðà ïîä 865 ãîäîì: « âîåâàøà Àñêîëäú è Äèðú ïîëî÷àíú è ìíîãî çëà ñúòâîðèøà». Ïîñëå Êðåùåíèÿ àêòèâíóþ áîðüáó ñ ïîëîâöàìè ïðîäîëæèë Ìîíîìàõ, à ðàçãðîìèëè ïîëîâöåâ ìîíãîëî-òàòàðû. Ïîëîâöû èñ÷åçëè ïî÷òè áåññëåäíî, óêàçûâàþò èñòîðèêè â îäíó äóäó ñ òåîëîãàìè, îäíàêî, åñëè âíèìàòåëüíî ïðèãëÿäåòüñÿ, òî îòûñêàòü ìîæíî äîáðóþ ïîëîâèíó ñðåäè íàñ è ñåé÷àñ. Íà îñíîâå ïîëîöêîãî äèàëåêòà ñôîðìèðîâàëèñü ñåâåðíûå è ñåâåðî-çàïàäíûå áåëîðóññêèå ãîâîðû (çàïàä Áðÿíñêîé îáëàñòè), à Ìàñëåíèöó ïðàçäíóåì äðóæíî è ïîâñåìåñòíî. «Ïî íîâåéøèì äàííûì ñðàâíèòåëüíîé ëèíãâèñòèêè, ïîëî÷àíå ãîâîðèëè íà ïîëîöêîì äèàëåêòå êðèâè÷ñêîãî ïëåìåííîãî ÿçûêà», ñîîáùàåò ñïðàâî÷íèê. Äîñòàòî÷íî ðàññìîòðåòü ïðîçâèùå, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ÿ è ñäåëàë. Ïîëîâöû — êóìàíå (cumani, comani íà ëàòèíèöå), ÷òî ìîãóò îçíà÷àòü? Êîíè — êàìîíè? Âñ¸ ãîðàçäî ïðîùå: coma — êîñà (áîëã, ñåðá), âîëîñû, âàëàñû, âîëîññÿ, vlasy… Íó, à ñâèäåòåëü òîìó ðå÷êà Ïàëàòà: ïàë + àòà (ñåêñ è îòåö). Ïàìÿòíèê ñëîâó ïîëîâåö — ýòà ðåêà Ïîëîòà. Ïî-áåëîðóññêè Ïàëàòà — íà÷àëî å¸ â Íåâåëüñêîì ðàéîíå Ïñêîâñêîé îáëàñòè Ðîññèè, ïðàâûé ïðèòîê Çàïàäíîé Äâèíû, ó ñëèÿíèÿ — ãîðîä Ïîëîöê.
Èòàê, ê òåìå. Ïåðâûì äåëîì çàãëÿíó â ñëîâàðè è âèêèïåäèþ: Èçíà÷àëüíî «îïàëà» ãíåâíîå ñëîâî öàðÿ (âåëèêîãî êíÿçÿ), àäðåñîâàííîå ïðîâèíèâøåìóñÿ ïîääàííîìó, â êîòîðîì ãíåâ ìîíàðõà ñðàâíèâàåòñÿ ñ èñïåïåëÿþùåé ìîëíèåé. Ïîíÿòèå îá îïàëå, âèäèìî, ïîÿâèëîñü â îáèõîäå ñ íà÷àëîì ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Èíîñòðàííûå íàáëþäàòåëè Êîíðàä Áóññîâ è Ñòàíèñëàâ Íåìîåâñêèé îïèñàëè öåðåìîíèþ öàðñêîé îïàëû, óïîòðåáëÿâøóþñÿ â êîíöå XVI — íà÷àëå XVII âåêà òàê. Ñíà÷àëà îïàëüíîìó îáúÿâëÿëè åãî âèíó, ïîñëå ÷åãî ïîäâåðãàëè ãðàæäàíñêîé êàçíè — âûùèïûâàëè âîëîñû èç áîðîäû. Ýòî çíà÷èëî íàíåñòè ÷åëîâåêó ñòðàøíîå áåñ÷åñòüå. Âïàâøèé â íåìèëîñòü ñàíîâíèê äîëæåí áûë íîñèòü ÷¸ðíûå îäåæäû è âûêàçûâàòü ñìèðåíèå, ñíèìàÿ øàïêó ïåðåä âñòðå÷íûìè. Äà óæ. Èçó÷àþ ñëåäñòâèÿ, íèêàê íå ìîãó íàéòè çíà÷åíèÿ ñëîâà îïàëà. Ñìàõèâàåò íà îïàë ñâèíüè ñîëîìîé, óäàëåíèå âîëîñÿíîãî ïîêðîâà, åù¸ íàçûâàþò ñìîëåíèå — îñìîëèòü òóøó. «Êóð â îùèï» òîæå ïîäõîäèò. Åñëè òû çíàåøü, ÷òî òàêîå êóð (ïåòóõ ïî- äð.ðóññêè) è ùèïà÷ (âîð âûñøåé êâàëèôèêàöèè, ýëèòà óãîëîâíîãî îáùåñòâà, êàðìàííèê), ïåðåä òîáîé îòêðûâàåòñÿ èçóìèòåëüíîå ïî êðàñîòå èçðå÷åíèå. Íî ìåíÿ èíòåðåñóåò èçíà÷àëüíîå çíà÷åíèå — «îïàëà» è îò÷åãî ïðîèçîøëî ñëîâî? Êàê ýòî ïî-ðóññêè, ýòèìîëîãèÿ? Âîò-âîò. Ïåðåõîæó ïî ññûëêå: Îïàëà ðåêà íà ïîëóîñòðîâå Êàì÷àòêà, ñåëî… Îïàëà íåìèëîñòü ñî ñòîðîíû ìîíàðõà èëè èíîãî ìîãóùåñòâåííîãî è âëèÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà. Âñ¸. Íî ìíîãî êîñâåííûõ íàì¸êîâ: ïàëà÷ îò ñëîâà ïàë (êîãî, ñäåëàòü ïàëà÷îì, èëè æåñòîêèì ìó÷èòåëåì; -ñÿ, ñòàòü òàêèì). Áåñïàìÿòíàÿ ñîáàêà — ñòàòüÿ «Áåñïàìÿòíàÿ ñîáàêà» â 3-ì òîìå «Ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî ñëîâàðÿ Áðîêãàóçà è Åôðîíà» — «ñîáàêà æàäíàÿ äî àçàðòíîñòè». Ðîäñòâåííûå ñëîâà ïàëó-îïàëå îïàëçûâàòü, îïîëçàòü, îïîëçòè ÷òî èëè âîêðóã, îêîëî ÷åãî, ïîëçòè îáõîäîì, êàê îáîéòè, îáúåõàòü. Ñðàâíè — íà êðèâîé êîçå íå ïîäúåõàòü. Æóê îïîëç ëóæó. Èëè êàê î íåïðî÷íîì îñíîâàíèè — ñïîëçàòü, îòêîñ, áåðåã îïîëçàåò. Ñòåíà îïîëçëà. ×òî íà òåáå ïîÿñ âñå îïîëçàåò? Øóáà îïîëçëà, ìåõ îïîëç, îáëåç, âûëåç. À ðàç òàê, òî ëüçÿ-íåëüçÿ, ïîëåçíîå è ñþäà æå ëåñ — ïûòàþñü ðàçìûøëÿòü. Âîò ó Äàëÿ: îïîëçåíü è îïîëçèíà æåí. îáâàë, îñàäêà çåìëè, íà áåðåãó èëè íà îâðàãå, îò ïîäìîþ äîæäÿìè èëè ðîäíèêàìè. Òîëêîâûé ñëîâàðü Óøàêîâà (1935-1940): Ïå÷åðñêèé ìîíàñòûðü â Íèæíåì íåêîãäà îñåë îïîëçíåì è ïîãèá â Âîëãå. Îòêîñ äàë îïîëçèíó. Ðåáåíîê îïîëçàë âñþ êîìíàòó. Äîïîëíþ åù¸ îäíèì òåðìèíîì, î êîòîðîì ñëîâàðè çàáûëè: Ïàëåîëîã — ñòàðü¸, âåòõîñòü + ó÷åíèå, ñðàâíè ñ êîíñòðóêöèåé ñëîâà ôèëîëîã, à óæ ÿ íà òåáÿ çàïàë, òàêè è ïåðåâîäà íå òðåáóåò. Êàê è ïàë¸íàÿ (âîäêà, ïîéëî) íå íàñòîÿùàÿ è îïàñíàÿ äëÿ çäîðîâüÿ. «Íàñ êàæäûé äåíü îïàëà îæèäàåò, òþðüìà, Ñèáèðü, êëîáóê èëü êàíäàëû.» Ïóøêèí. Êàê â âîäó ãëÿäåë.
Ïî îäíîé èç âåðñèé, íàçâàíèå ïðîèñõîäèò îò áàëòèéñêîé îñíîâû pal, palt, ëèò. pala «áîëîòî», ëèò. palios «çàáîëà÷èâàþùååñÿ îçåðî», ëàòûø. palts, palte «ëóæà, äîæäåâîé ïîòîê». Ïî äðóãîé âåðñèè, íàçâàíèå ñâÿçàíî ñ ôèí. paltta, paltto, ëèâ. paald, ñààì. puolda «îáðûâ, ñêàò, êðàé, âîçâûøåííîñòü», ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî îáðûâèñòûìè áåðåãàìè ðåêè… Êàê âñåãäà, íà ëèõîì êîíå è âïåðåäè ôèëîëîãîâ ðîññèÿí — áàëòû. Áàëòû îò ñëîâà òîïîð. Íè÷åãî ëè÷íîãî, ýòî ïðÿìîé ïåðåâîä: áàëò = òîïîð ïî-ðóññêè è ïî-òàòàðñêè áàëòà (ñð. Áàëäà ó Ïóøêèíà).
Îò «áàëòèéñêîé îñíîâû» pal/pala ìîæíî âûâåñòè ñïàë/ñïàëà/îïàëà, íî áàëòèéñêàÿ ëè îíà, îñíîâà? À â ñëîâå ïàëüòî — palte — ðàññìîòðåòü «ëóæó», à â palts — ïàëòóñà… Ïåðåâîä: pal te — íåæíûé, Íåæí³ — íàïîìèíàåò èìÿ ãîðîäà Íåæèí è íåæíîñòü òåëà ðûáû. Ïî-áåëîðóññêè ýòî «Ïÿø÷îòíû» (íåæíî, ñåðá.) èëè: ïÿø ÷îòíû — Äàæå ïåøêîì — ×àê è ïåøêå (ñåðá) — Dokonce i p;;ky (÷åõ) — äî êîíöà è ïåøêè. Òåðìèí ïðèîáðåòàåò òåîëîãè÷åñêèå îáîðîòû, çíà÷åíèå «ïåøêè» ñì. ñòàòüþ î çíàêå «ïñè» â ïñèõîëîãèè. À äåëåíèå íà ÷¸ò è íå÷åò (êîíåö è íà÷àëî) — ñòàòüþ «Íîëü è Ñóÿ èç èñòîðèÿ ôèãóðû…», òàì ÿ çàäàâàëñÿ âîïðîñîì, ïî÷åìó íóëü — ÷¸òíîå ÷èñëî? Ïîòîìó ÷òî âîêðóã íåãî (ñïðàâà è ñëåâà) ðàñïîëîæåíû åäèíèöû — òàêîé îòâåò íàóêè.
Èíòåðåñíî, à ðûáà ïàëòóñ (ðîä ëó÷åï¸ðûõ ðûá), ÷òî ìå÷åò èêðó íà ãëóáèíå ñâûøå 300 ì, òîæå îò âûñûõàþùåãî áîëîòà? Ïàëòóñû, òàêæå ïàëòóñîâûå («ìîðñêîé ÿçûê») èëè ñåìåéñòâî êàìáàëîâûõ. Âèä ëó÷åï¸ðûõ ðûá — ñåìåéñòâà ñîëååâûõ (ëàò. Solea solea). ß ïðîáîâàë êàì÷àòñêîãî ïàëòóñà íà Êàì÷àòêå è ÿçûê èñïàíñêîãî óëîâà â Èñïàíèè, â ÷¸ì ðàçíèöà? Íàø ïàëòóñ — ýòî îãðîìíàÿ æèðíàÿ ðûáà îäíà èç ñàìûõ äîðîãèõ íà ïðèëàâêå, à ÿçûê Ñðåäèçåìíîìîðñêîé — ýòî 30-40 ñì â ðàçìåðå, ðûáêà âñÿ êîñòèñòàÿ è ãîòîâàÿ æàðåíàÿ ñ ãàðíèðîì ñòîèò 12 åâðî, â ìàãàçèíàõ — 8 åâðî ñâåæàÿ. Íî âêóñíàÿ çàðàçà! Ýòî ðàçíûå ðûáû ïî âíåøíåìó âèäó è ðàçìåðó, íî îäíîãî ñåìåéñòâà è ïëîñêèå. ×òî âêëàäûâàëîñü â èìÿ, êàêîâî çíà÷åíèå?
Solea solea (ëàò) — Áîòèíîê, ñàïîã (Äîìàøíÿÿ îáóâü) — Áîò, áîò (Òýïö³ê³, áåëîð) — Bota, bota (Ba;kory, ÷åõ) — copati (Äîìàøíÿÿ îáóâü, ñëîâåí) — òàïî÷êè (óêð). ×òî ìîãó ñêàçàòü îïðåäåë¸ííî, òàêè òàïî÷êè íå áîëîòî. Áîòèíîê, íàîáîðîò — çàùèòà îò âëàãè. Íî ÿçûêîì áîòàþò è, ïðè÷¸ì ïî ôåíå, à áîòâà óõîäèò íà êîìïîñò. Âîò îíî îòêóäà! Èëè íàîáîðîò, ñíà÷àëà áîòàëè, à ïîòîì è ðûáó-ëîïàòó îáîçâàëè áîòèíêîì. Ëîïàòíèê, êîòîðûé ðàáîòàë íà ëîïàòå çåìëåêîïîì (copati) ñòàë êîøåëüêîì èëè ïîëèöåéñêèì êîïîì (êîòîðûé ðàñêàïûâàåò ïî äåëó). ßñíî, ãëàâíîå — ëîãè÷íî. Ïî-ñëîâåíñêè copa — ÷àøêà, òî åñòü ñîñóä äëÿ æèäêîñòè. Áîòèê — íåáîëüøîãî ðàçìåðà ñóäíî, ñ êîòîðîãî íà÷èíàë ϸòð.
À òåïåðü ñðàâíèòå «áàëòèéñêóþ îñíîâó pal» ñî ñëîâîì ïàëëåòû (ïîääîíû äåðåâÿííûå ïîä êàêîé-íèáóäü ãðóç), âîò òóò âîäîé ñîâåðøåííî íå ïàõíåò. Ïîòîìó ÷òî îíà íå èìååò çàïàõà. Åñëè ñ îäíèì «ë» ïèøåòñÿ, òî èìååò — Ïàëåòà (áëþäî) — èñïàíñêèé íàöèîíàëüíûé äåëèêàòåñ, ñûðîâÿëåíûé ñâèíîé îêîðîê (àíàëîã õàìîíà, íî èç ïåðåäíèõ íîã). Òî, ÷òî ó íàñ íàçûâàåòñÿ… ëîïàòêà! Ïî ïóòè íàõîäèøü äëÿ ñåáÿ ñòîëüêî ìíîãî íîâûõ ñëîâ, íî íè ñëîâà çà íóæíóþ ýòèìîëîãèþ… Åù¸ âàðèàíò: «Ïàëåòà óïàêîâàííàÿ ñêëàäñêàÿ åäèíèöà, îáðàçîâàííàÿ ïîääîíîì äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ, è ðàñïîëîæåííûì íà í¸ì òîâàðîì». Òî æå ñàìîå, ÷òî è íîãè â òàïî÷êàõ, ãäå îíè èëè Âû — «ñêëàäñêàÿ åäèíèöà». Ñûðîñòè íå îáíàðóæåíî è â ýòîì ñëó÷àå, íàîáîðîò, «åäèíèöà» íàä¸æíî îò íå¸ çàùèùåíà. Èùåì äàëüøå (êîïàåì).
Ïàëëåòà — ñóùåñòâèòåëüíîå, íåîäóøåâë¸ííîå, æåíñêèé ðîä, 1-å ñêëîíåíèå (òèï ñêëîíåíèÿ 1a ïî êëàññèôèêàöèè À. À. Çàëèçíÿêà). Çàìå÷àòåëüíî. À ÷òî óâàæàåìûé àêàäåìèê äóìàåò çà êîðåíü? Èçóìèòåëüíî! Ó íåãî êîðåíü: -ïàëëåò-; îêîí÷àíèå: -à. È çà ýòî ïëàòÿò äåíüãè? Äà, ïðè÷¸ì ïðèëè÷íûå äåíüãè è ýòî èçó÷àþò â øêîëå. Áàëòû ðîññèÿí îáñêà÷óò îäíîçíà÷íî. ׸-òà ìíå ðàñõîòåëîñü áûòü è ðàáîòàòü àêàäåìèêîì, ñ äðóãîé ñòîðîíû, â èíòåðåñàõ èñòèíû, íå ïðàâäû, íî êðèâäû… Çàáîòàëñÿ, õîòåë ñêàçàòü, ÷òî äàæå ïàë è òîò — ñëîæíî íàçâàòü êîðíåì: ïàë = ï + àë, à óæå äàëüøå ìîæíî èçîáðåòàòü êîëåñî, àëòûí è ÷òî äóøå óãîäíî. Ýòî ïàëüöû, ïàëàòà, ïàëëåòà, îïàëà è ò. ï. â ðàçíûõ çíà÷åíèÿ ðàçíûì íàðîäàì ïðè îäíèõ çâóêàõ, èëè ë¸ãêèì èñêàæåíèåì óäàðåíèÿ â ñëîâå. Åñòü ïîäîçðåíèå, ÷òî ïîñòðîåíèå ÿçûêà îò êîðíåé ýòî êàêîé-òî áëóä, àáñîëþòíî íè êîìó íå íóæíûé. Ðàñò¸ò äåðåâî (ñòåáåë¸ê ëè), âîò ó íåãî åñòü êîðåíü, ñåìåíà è ïëîäû. Ïîíþõàë, îòêóñèë — íå ïîíðàâèëîñü, âûïëþíóë. Êàêîé êîðåíü ó ÷åëîâåêà? Âåòõèé è ñòàðûé (âåê), à ó æåíùèíû? Ïóòü ïîçíàíèÿ ïëîäà (ïî äåðåâó) ïðèìåðíî òîò æå, òû óæå íå õî÷åøü, à òåáÿ óãîâàðèâàþò — çà ìàìó ëîæå÷êó, çà ïàïó… Ñ êàêîé öåëüþ èëè äëÿ ÷åãî ìû èçó÷àåì êîðíè è ôîíåòèêó ñ ìîðôåìàìè â øêîëàõ? Èíòåðåñíûé âîïðîñ. Êîãäà ïîãîí íå áûëî, íà ïåòëèöå áûëà øïàëà — ÷èí îôèöåðà. Ìíå áîëüøå èíòåðåñíî, ïî÷åìó òàê? Èëè ïî÷åìó âûñîêèé ÷åëîâåê øïàëà (×åòûðíàäöàòèëåòíèé Ñåðûé òàêàÿ øïàëà.  àâòîáóñå ñòîèò âñå âçðîñëûå íèæå åãî). Òî æå, ÷òî ôîôàí, óäàð ñðåäíèì ïàëüöåì ïî ãîëîâå: Ñîâñåì îáíàãëåë, íåäîðîñëü, ðîò çàêðîé, à íå òî ñåé÷àñ øïàëó îòïóùó! Îáùàåìñÿ, íå çíàÿ ðîäíîãî ÿçûêà ïðè íàëè÷èè ìíîæåñòâà ñëîâàðåé, îäèí äðóãîãî òîëùå.
Ðàçëè÷íûå ñëîâàðè (à èõ ó íàñ åñòü!) äàþò ïðîèçâîäíîå îò opaliti «îáæå÷ü»; ñåðäèòüñÿ, îïàëüíûé (äð.-ðóññê. îïàëúêà «ãíåâ»). Äåðæàòü â ÷¸ðíîì òåëå. Îáùåñëàâÿíñêîå ñëîâî îò ãëàãîëà îïàëèòè, îáðàçîâàííîãî ïðèñòàâî÷íûì ñïîñîáîì îò ïàëèòè; ñð. ïëàìÿ, ïîëåíî, ïåïåë è òàê äî çîëû è øïàëû. À îïàë íå òîëüêî íàçâàíèå ñèãàðåò, íî è öåííûé êàìåíü, êîåãî ëó÷øèé âèä áëàãîðîäíûé èëè ìîëî÷íûé îïàë, ìëå÷íîé áåëèçíû, ñ îãíèñòûì, ðàäóæíûì îòëèâîì. Îò ;palus «êàìåíü» < «âåðõíèé êàìåíü» < «âåðõ ãîðû», ñóô. ïðîèçâîäíîãî îò ;pa. À «óïà» ïî-÷óâàøñêè ìåäâåäü, ïî-ðóññêè — Íàäåæäà, ó áàëòà — âîäà. ÎÏÀËÈÂÀÒÜ (ó Äàëÿ) îïàëÿòü, îïàëèòü ÷òî, îáæå÷ü, ïðèæå÷ü ñíàðóæè. Ñî ñâèíüè íå ñûìàþò øêóðû, à øåðñòü îïàëÿþò, ñìîëÿò. Ëåã÷å ñóéñÿ íà ñâå÷ó: îïàëèøü âîëîñà! Îïàëèòü ñòîëáû, êîìëè ñòîëáîâ, îáæå÷ü, îáóãëèòü. Îïàëêà ñâèíüè, îñìîëåíüå. Îïàëêà ïàñòáèù, ñèá. ïàë, ïîæåã âåòîøè ïî âåñíå. || Îïàë, îïàëåííîå ìåñòî, ÷àñòü, ëèáî âåùü; îáæîã. Âñòàðü, öàðñêàÿ îïàëà âëåêëà çà ñîáîþ ññûëêó è êîíå÷íîå ðàçîðåíüå. Îïàëüíûé, îïàëåííûé, ïîäïàâøèé ãíåâó, îïàëå. Îïàëüíîå èìåíüå, îïàëüíîãî áîÿðèíà. Íà îïàëüíûé òîâàð ìíîãî êóïöîâ, íà çàïðåòíûé». Ñëîâî îïàë;òè — îáæèãàòü, îïàëÿòü (ñð. ïàëàòè — ìåñòî ñïàòü, êðîâàòü). Ïàë, îïàë è ñìîëåíèå ñáëèæàåòñÿ ñ íàçâàíèåì ãîðîäà Ñìîëåíñê, îñíîâàííîãî ïîëîâöàìè-êðèâè÷àìè.  äîïåòðîâñêîé Ðóñè: ãíåâ, íåìèëîñòü öàðÿ ê ïðîâèíèâøåìóñÿ áîÿðèíó, âåëüìîæå. Èêîíà Êóïèíà Íå-îïàë-èìàÿ ïîÿâëÿåòñÿ íà Ðóñè â 16 âåêå, ïðèìåðíî â ýòî âðåìÿ. Ðóññêî-òàòàðñêèé ñëîâàðü > áûòü â îïàëå ïàòøà òàðàôûííàí æ;áåðë;í; — ïåðàñëåä ç áîêó öàðà (áîê èëè êóïåö — î áîãå); ïåðåñë³äóâàííÿ ç áîêó êîðîëÿ (óêð), progon od strane kralja è ò.ä. Ïîëîâöû èñ÷åçëè, èãî ïðîøëî, ïîòîì êðåùåíèå ÂÊË â 17 âåêå, ïðèñîåäèíåíèå Ëåâîáåðåæüÿ, çàòåì ðàñêîë öåðêâè ïîñëå íåóäà÷íîãî îáúåäèíåíèÿ â îäíî ëîíî è çíàìåíèòûå 12 óêàçîâ Ñîôüè î ñòàðîâåðàõ, ïîòîì ϸòð îáúåäèíÿåò çåìëè è ñòðîèò ñòîëèöó ìèðà íà Íåâå. Òî åñòü âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ ñëîâà «îïàëà» â ðóññêîé ëèòåðàòóðå ñîâïàäàåò ñ ñîáûòèÿìè ñìåíû äèíàñòèè è äàëüíåéøåãî «îáúåäèíåíèÿ çåìåëü» â õîäå Ñåâåðíîé âîéíû Ïåòðîì. Ñèÿ ïåðâàÿ çíàìåíèòàÿ áîÿðñêàÿ îïàëà èçóìèëà âåëüìîæ, äîêàçàâ, ÷òî ãíåâ ñàìîäåðæöà íå ùàäèò íè ñàíà, íè çàñëóã äîëãîâðåìåííûõ. Í. Ì. Êàðàìçèí, «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî: Òîì 6», 18111818 ã. Íåëþáîâü âñÿêîãî ðîäà ê ÷åìó èëè êîìó-ëèáî: Èçäàâíà ÷òåíüå ðàçëþáèë, // Îäíàêî æ íåñêîëüêî òâîðåíèé // Îí èç îïàëû èñêëþ÷èë. À. Ñ. Ïóøêèí, «Åâãåíèé Îíåãèí», 18271828 ã. Ê óäèâëåíèþ, íå îáíàðóæèë (ïëîõî èñêàë?) ñáëèæåíèÿ ãëàãîëîâ — çàïàëèòü è ðàñòîïèòü (ïå÷êó), ÷òî îäíî è òî æå ïî ñìûñëó.
Òåì íå ìåíåå, ïðîäîëæó çà ñâî¸, êàêîå îòíîøåíèå èìååò ïîääîí-óïàêîâêà ê ïàëó? Îêàçûâàåòñÿ, ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå, íàõîæó â äðóãîì ìåñòå. «Ïàëëåòà — ìåòàëë., óñòàð. ñïåêàòåëüíàÿ ñòàëüíàÿ èëè ÷óãóííàÿ òåëåæêà ñ áîêîâûìè áîðòàìè è êîëîñíèêàìè âìåñòî äíà. Ëåíòî÷íàÿ ìàøèíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàìêíóòóþ öåïü äâèæóùèõñÿ ñïåêàòåëüíûõ òåëåæåê-ïàëëåò, ïåðåìåùàþùèõñÿ ïî ðåëüñàì. Íà ñòàëüíîé ðàìå êàæäîé ïàëëåòû ìîíòèðóþò òðè ðÿäà êîëîñíèêîâ». À. Ï. Ãîðêèí, «Òåõíèêà: Ñîâðåìåííàÿ èëëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 2006 ã. «Âî âðåìÿ ïåðåâîðà÷èâàíèÿ ïàëëåò ïðè îáðàòíîì äâèæåíèè îòâåðñòèÿ î÷èùàþòñÿ ïî ïðèíöèïó äâèæåíèÿ íîæíèö». Ô. Ì. Ëîñêóòîâ, Ñ. ß. Ïåòêåð, «Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí», 1963 ã. Èç ÷åãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî «ñïåêàòåëüíàÿ» — íå óâëàæíÿþùàÿ. Íè÷åãî ÿ áîëüøå íå íàø¸ë, íî ñìûñë òàêîé æå, ÷òî è òàïî÷êè, ÷òîáû äåðæàòü íîãè â òåïëå (ãîëîâó â õîëîäå). Êàê ó Æþëü-Âåðíà, òàì ÷åëîâåê âñ¸ âðåìÿ äâèæåòñÿ íà ñåâåð, íå ïîíèìàÿ, çà÷åì è ïî÷åìó, íî òàê âäîëáèëè ñ äåòñòâà. È âîò îí ÷åøåò ïî «îñè æèçíè» ñ Êàèðà äî Ïèòåðà (ÿ ôàíòàçèðóþ äàëüøå), è âûøå è áëèæå ê ïîëþñó ïîìå÷àÿ òåððèòîðèþ. Ïîòîìó ÷òî ñåâåðà: ñå âåðà? Äà, ñàì ñåáå è îáúÿñíÿþ, êàê è â ñëó÷àå ñ ïàëîì-îïàëîì. Áîëãàðñêèå ñèãàðåòû «Îïàë» (Opal) â Ñîþçå ñòîèëè 35 êîï, íàêóðèâøèñü, ñòàëè ïèñàòü — âðåäíî äëÿ çäîðîâüÿ. Ñëîæíî íå ñîãëàñèòüñÿ, åñëè Îïàë — «êàìåíü» (â òðàíñêðèïöèè ÷åðåç äð.-ãðå÷. ;;;;;;;; è ëàò. îðàlus). Êàìåíü âðåäåí äëÿ çäîðîâüÿ.
Äàæå êîíñòðóêöèÿ ñëîâà ïîä-äîí îäèíàêîâà ñ ïàë-ëåòîé. Ëåòà — ðåêà, âîò òóò åñòü ñûðîå ìåñòî ïðîìåæ áåðåãîâ. Èçó÷àþ äàëüøå: «Ïðîèñõîäèò îò ôðàíö. palette, äàëåå îò ?? — äâà âîïðîñà». Òóïèê íàóêè ðàçðåøàåòñÿ ïðîñòî: palette — ïàëèòðà, ïàë³òðà (ëîïàñòü). Ðàñêðûâàÿ òåðìè: palet te — óêðàñèòü òåáÿ, ïàë³òü òåáå — ñðàçó ïîø¸ë ðàçãîâîð… À «ïàë³òü òåáå» — êóðèòå òåáÿ, ïàë³öü öÿáå — êóðèòü îò ñëîâà «êóð». ×òî òàêîå êóð ýòî ìû óæå â êóð-ñå (äð. ðóññêèé — ïåòóõ; cur — ñâÿùåííèê, èñï.), Èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ — íå îò êóðèöû? Íåò, íîãè îò ïåòóõà, êàê íå êðóòè å¸ áåäíóþ ê ëåñó çàäîì ñåáå ïåðåäîì… È â ëþáîé äðóãîé ïîçå — äðåâåñèíà áóäåò îïàë¸ííàÿ. Îêóðåííûå ñâàè — ñòîëáû ïîä èçáó, îáóãëåííûå äî ÷åðíîòû — íå ãíèþò â çåìëå. Åâðåè, ïî÷åìó-òî, ñåáÿ ïîçèöèîíèðóþò ÷¸ðíûìè (ñî ñëîâ ðàââèíà Èçðàèëÿ), ñ ýòîé ïîçèöèè èñòîðèÿ ×åðíèãîâñêîãî êíÿæåñòâà â ïðîòèâîñòîÿíèè ñ Ðóñüþ Áåëîé âèäèòñÿ áîëåå îò÷¸òëèâî. Åñëè óâèäèòå êàðòèíêó èçáóøêè, à íà íîæêàõ — øïîðû, çíà÷èò ðèñîâàë ÷åëîâåê çíàþùèé. Íîãè ïåòóõà èìåþò ïÿòü ïàëüöåâ, à êóðèöû — ÷åòûðå… Ïî ñòðîåíèþ ñòóïíè ïòèöû ìîæíî áåç îøèáêè èçó÷èòü âñþ íàøó èñòîðèþ íà ëàòèíèöå, òàì ÷òî íè êîñòî÷êà, òî êëàäåçü äëÿ èññëåäîâàòåëÿ. Èñïàíöû íàçûâàþò å¸ áëàíêî, îíè äàâíî èçãíàëè åâðååâ (òî åñòü âòîðîçàêîíèå). Åñòü î÷åíü èíòåðåñíûé íàó÷íûé ñïîð, ó êóðèöû è ïåòóõà — ëàïû èëè íîãè? Íî ýòî óæå äðóãàÿ òåìà, õîòü è «ïàë» òàì åñòü, íî çà èçáóøêó ëó÷øå íàïèñàòü îòäåëüíî, áîëåå ïîäðîáíî, âåäü ïîëîâèíà âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè äóìàåò çà êóðèöó, âòîðàÿ çà îïàë, à êàê æå äåòè?
Ïîðà çàêðóãëÿòüñÿ, ÷òî â ñòàòüå íàêîïàë è çàïîìíèëîñü, òàê ýòî «êîðåíü: -ïàëëåò-;» îò íàóêè, êîòîðûé ëó÷øå íå âñïîìèíàòü ïåðåä ñíîì. Áåçóñëîâíî, òàïî÷êè — îò ðûáû, ðàçâå ÿ, êîãäà-íèáóäü óçíàë áû ïðîèñõîæäåíèå ïîñëîâèöû, íå èçó÷àÿ «ïàë»? Èëè ïàëèòü — êóðèòü. ×òî áîòèíîê è ïîëóáîòèíîê — äîìàøíÿÿ îáóâü, ÿ äîãàäûâàëñÿ. Êñòàòè, â ðóññêîì ÿçûêå ïðàâèëà îäåòü/íàäåòü è îáóòü/ðàçóòü, êàê áû ñêàçàòü ïðîùå, äî êîíöà íå äîâåäåíû. Ê ïðîöåññó îáóâêè íàäî âåðíóòüñÿ ñïåöèàëüíî (â îòíîøåíèè íåîäóøåâë¸ííûõ ñ îäóøåâë¸ííûìè ïðåäìåòàìè), ñðàâíèâàÿ ñ ïðîöåññîì îäåâàíèÿ. Åñòü íþàíñû, âñïîìèíàÿ ðóññêèå è ãåðìàíñêèå îáû÷àè, î êîòîðûõ ÿ îïèñûâàë ñòàòü¸é íèæå (î ïîëîâöàõ è ÷åðåâè÷êàõ îò öàðèöû — Ãîãîëÿ). ßçûê ÷òî ëîïàòà (à ëîïàòíèê — êîøåë¸ê) ïîëó÷èëîñü ïî õîäó. ×òî îïàëà ñëîâî ïðîèçâîäíîå îò ïàë (ïàë = ï + àë), è îíî èçíà÷àëüíî ïðèìåíÿëîñü è óïîòðåáëÿëîñü â âîïðîñàõ âåðîèñïîâåäàíèÿ, à ïîçæå ïðèîáðåëî áûòîâîé õàðàêòåð, òî î÷åâèäíî. Íàïðèìåð: îïëàòà, ïëà÷, ïàëîâíèê (÷åðïàê), ïàëüìà, øïàëà, ïàëîìà (ãîëóáü, èñï.). Èëè èìåíà: Ïëàòîí, Ïàëåñòèíà, Ïàëîìà (èìÿ), Íî è ïàëà÷. Èíòåðåñíûå ïðèìåðû ó Äàëÿ, îí ïðèâîäèò ê îïàëå — îïàëà÷èòü è ïàëà÷à. Îïàëåíüå, îïàëèòü, îïàëÿòü. Î÷åíü ìíîãî ñëîâ ñîçâó÷íûõ ñ îïàëà, òîëüêî íåò åäèíñòâåííîãî, èç-çà ÷åãî? Ïðè÷èíà, ñëåäóåò ïîëàãàòü, ðåëèãèîçíûå ðàçíîãëàñèÿ. Îäíàêî ñëîâî ýòî áûëî äî õðèñòèàí, òóò è ê áàáêå íå õîäè. Âñå ñâîè ÿçû÷åñêèå ñëîâà è òåðìèíû ëþäè ïðèìåíÿëè â îòíîøåíèè êàêèõ-òî íîâûõ ñîáûòèé, äåéñòâèé, âåùåé. Ïðåêðàñíî îòäàâàÿ îò÷¸ò â êàêèõ æèòåéñêèõ ñèòóàöèÿõ ìîæíî ïðèìåíèòü ñëîâî ïåðåïàëêà (ðóãàíü, áðàíü), íå ïîíèìàåì åãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
ßçûê áåç êîñòè è ìîæíî ìîëîòü íåóñòàííî, åñëè ñðàâíèâàòü ñ ïàëòóñîì, òàê è åñòü. Ðûáà. Ïðîñòî êóñîê æèðà. Ìíå äàâíî íå äàâàëà ïîêîÿ îäíà ôðàçà â «Ñëîâå î ïîëêó», êîãäà òîïèëè ðóññêèé æèð íà äíå Êàÿëû… Êàê ýòî âîçìîæíî? «È, ïàäåñÿ Êîáÿêú âú ãðàäå Êiåâå, âú ãðèäíèöå Ñâÿòúñëàâëè. Òó Íåìöè è Âåíåäèöè, òó Ãðåöè è Ìîðàâà ïîþòú ñëàâó Ñâÿòúñëàâëþ! êàþòü Êíÿçÿ Èãîðÿ, èæå ïîãðóçè æèðú âî äíå Êàÿëû, ðåêû Ïîëîâåöêiÿ, Ðóñêàãî çëàòà íàñûïàøà». Êàê ìîæíî óòîïèòü æèð? È êàê èì ýòî óäàâàëîñü, íå ïðåäñòàâëÿþ… Êòî-íèáóäü ïðîáîâàë òîïèòü æèð â âîäå? Íå ïðèâÿçûâàÿ ê ìàñëó êàìíÿ. Ïîäåëèòåñü îïûòîì…
Ñïàñèáî.
02.12.2021, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Ïðîäîëæåíèå ñòàòüè:
ßçûê è èñòèíà åäèíû. Ýòèìîëîãèÿ ÿçûêà
http://proza.ru/2021/12/04/665
Ïîëîâåö. Çíà÷åíèå è ïðîèñõîæäåíèå ëîâåö…
http://proza.ru/2021/11/29/1507
Íîëü è Ñóÿ èç èñòîðèÿ ôèãóðû…
http://proza.ru/2021/10/22/1650
×òî îçíà÷àåò ñèìâîë ïñè?
http://proza.ru/2021/11/11/1342
* ôîòî: ðåêà Ïàëàòà
- Глава первая. Как изменяются языки
- 1. Языки похожие и непохожие
- 2. Какие языки похожи друг на друга?
- 3. Язык и время
- 4. Об изменениях в языке: изменения значений слов
- 5. Еще об изменениях в языке: изменения в произношении слов
- 6. Отступление: как изменялось произношение слов в русском языке
- 7. Еще об изменениях в языке: изменения в грамматике
- 8. Что мы узнали об изменениях в языке?
- Глава вторая. Родство языков и языковые семьи
- 1. Как возникают родственные языки?
- 2. Как определить родственные языки?
- 3. Звуковые соответствия
- 4. Языковые группы и семьи
- Глава третья. Разные языки разных людей
- 1. Язык и география
- 2. А чем язык отличается от диалекта?
- 3. Судьбы диалектов
- 4. Социолингвистика
- 5. Государства и их языки
- 6. Вверх и вниз по ступенькам
- 7. Диглоссия и билингвизм
- 8. Мы говорим на разных языках…
- 9. Речь разных групп людей. Жаргоны
- 10. Мужская и женская речь
- 11. О том, как быть вежливым
^
Глава первая. Как изменяются языки
^
1. Языки похожие и непохожие
Языки бывают совсем непохожи друг на друга, а бывают, наоборот, очень похожи. Иногда два языка настолько похожи, что тот, кто знает один из этих языков, может понять всё или почти всё, что сказано на другом языке. Например, русский и белорусский — разные языки, но они очень похожи. Ни один язык так не похож на русский, как белорусский. Для тех, кто знает русский язык и учился писать по-русски, белорусский текст выглядит немного непривычно, но если вдуматься, то в нем можно понять почти всё. Вот начало одного белорусского стихотворения (в котором я на всякий случай поставил ударения, чтобы читать было удобнее):
Стая´ла я´блыня ля вёскi,
як падаро´жнiк miж даро´г.
Вясно´ю па´далi пялёсткi,
нiбы сняжы´нкi, на муро´г…
Попробуйте сначала сами догадаться, что значит это четверостишие. Какие отличия белорусского языка от русского удается здесь заметить?
А теперь будем разбираться вместе. Прежде всего, оказывается, многие белорусские слова просто пишутся по-другому, а звучат так же, как русские. Например, первое слово в нашем стихотворении и русские, и белорусы произносят одинаково, но по-русски мы напишем: стояла. Еще сразу бросается в глаза, что вместо русской буквы и по-белорусски пишется «латинская» буква i Действительно, буква и в белорусском языке не используется, а i читается так же, как русское и. Поэтому белорусское слово падарожнiк, если его просто прочесть вслух, сразу окажется знакомым нам русским словом подорожник. Кстати, в русском языке до 1918 года использовались обе буквы: и наряду с i; буквы эти читались одинаково, и в конце концов оставили только одну из них. Так же поступили и создатели белорусской письменности. Но букву выбрали другую.
До сих пор мы обсуждали не столько различия между двумя языками, сколько различия в том, как в них принято записывать слова. Лингвисты называют это различиями в орфографии. Орфография — это всё-таки не сам язык. Если бы между русским и белорусским были только орфографические различия, то это был бы, строго говоря, один и тот же язык. Но русский и белорусский языки различаются, конечно, не только орфографией. Во-первых, легко заметить, что некоторые белорусские слова хотя и похожи на русские, но всё же произносятся чуть-чуть иначе. Слово яблоня по-русски произносится приблизительно как яблАня, а по-белорусски — яблЫня; слово весною по-русски произносится приблизительно как вИсною, а по-белорусски — вЯсною (именно так, как написано). Есть и более сложные случаи: интересно, узнали ли вы в белорусском пялёсткi русское лепестки?
Во-вторых, некоторых белорусских слов в русском языке вовсе нет, и в этом-то случае нам как раз трудно догадаться, что они значат. Например, ля — это предлог со значением «возле, около, близ», а вот что такое вёска? Это значит «деревня», но в русском языке есть только слово весь, и то оно употребляется обычно только в составе выражения по городам и весям (не все русские теперь даже хорошо понимают, что это значит на самом деле «по городам и деревням»). Исчезло в русском языке древнее слово весь, а в белорусском осталось, только в своей уменьшительной форме — вёска. А вот для перевода слова мурог помощи, пожалуй, мы уже не найдем. Это слово значит «луг»; было когда-то в русском языке старинное слово мур «трава», от которого образовано сохранившееся в современном языке (хотя тоже редкое) слово мурава.
Вот полный перевод этого четверостишия:
«Стояла яблоня возле деревни, как подорожник меж дорог;
весною падали лепестки, будто снежинки, на луг».
Так что, как видите, похожи-то языки похожи, и даже очень, а не всё так просто для русских в белорусском языке, оказывается.
Все похожие друг на друга языки устроены приблизительно так же, как русский с белорусским: многие слова совпадают, другие слова произносятся чуть-чуть по-разному и, наконец, есть слова совсем разные, но таких не очень много. И главное, почти целиком совпадает их грамматика, а это и позволяет говорящим на похожих языках легко понимать друг друга: те же окончания у глагола в прошедшем времени, те же падежи у существительных, и так далее… Хотя и здесь бывают небольшие сюрпризы: например, мы говорим по-русски: добр-ЫЙ, но молод-ОЙ, а в белорусском языке правильными формами будут добр-Ы и малад-Ы.
^
2. Какие языки похожи друг на друга?
Как видим, определить, похожи два языка или непохожи, в общем, достаточно легко. Но само по себе сходство языков может иметь разные причины, и лингвисты не придают большого значения сходству языков как таковому. Гораздо интереснее понять, почему два языка похожи.
Здесь, как мы уже говорили, языки ведут себя совсем как люди. У людей похожими друг на друга бывают прежде всего близкие родственники. Хотя это и не обязательно: разве мало мы встречали сестер и братьев совсем разных — и по виду, и по характеру. С другой стороны, нередко бывает, что люди, которые вовсе не родня друг другу, но долго живут вместе, становятся удивительно похожими, даже больше, чем братья (не зря говорят: с кем поведешься, от того и наберешься).
Так же и языки. Похожие языки могут быть родственниками — чуть позже мы подробнее объясним, что это значит. Но далеко не все родственные языки похожи, и некоторые похожие языки не родственны. Языки тоже могут становиться похожими оттого, что они долго живут вместе и много слов из одного языка попадает в другой язык.
Как это бывает? Вот, например, английский язык. У него очень сложная и своеобразная история. Это сейчас по-английски говорит чуть ли не весь мир (по-английски говорят целые государства и в Америке, и в Австралии, и в Азии, и в Африке, — а в других странах, как в России, почти во всех школах школьники его хоть немного, но изучают) — а когда-то (ну, скажем, лет семьсот назад) это был язык, на котором говорили только на нескольких островах на северо-западе Европы — одном большом и нескольких поменьше; эти острова называются Британскими. Народами этих островов управляли завоеватели, сначала (не очень долго) датские, а потом (уже гораздо дольше) нормандские. Датские завоеватели говорили на древнем языке, похожем на нынешние датский или шведский, а нормандские — на другом древнем языке, похожем на нынешний французский. Он называется старофранцузским. В результате в современном английском языке оказалось очень много слов, похожих на французские слова, хотя ближайшими родственниками английского языка считаются языки нидерландский и немецкий. Давайте для примера сравним несколько очень употребительных нидерландских, немецких, английских и французских слов (так как некоторые из уважаемых читателей, может быть, не очень хорошо владеют нидерландским или старофранцузским; на всякий случай под каждым словом русскими буквами я записал его примерное произношение):
| Значение | Нидерландский | Немецкий | Английский | Старо-французский | Современный французский |
| «орел» | adelaar(а´делар) | Adler (а´длер) | eagle (игл) | aigle (а´йгле) | aigle (эгль) |
| «гора» | berg (берх) | Berg (берк) | mountain (ма´унтин) | montaine (монта´йне) | montagne (монта´нь) |
| «цветок» | bloem (блум) | Blume (блу´мэ) | flower (фла´уэр) | flour (фло´ур) | fleur (флёр) |
| «голубь» | duif (дёйф) | Taube (та´убэ) | pigeon (пи´джин) | Pigeon (пиджо´н) | pigeon (пижо´н) |
| «воздух» | lucht (лухт) | Luft (луфт) | air (э´ар) | air (айр) | air (эр) |
| «стул» | stoel (стул) | Stuhl (штул) | chair (чэ´ар) | chaire (ча´йре) | chaire «престол»(шэр) |
| «мир» | vrede (фре´дэ) | Frieden (фри´дэн) | peace (пис) | paiz (пайц) | paix (пэ) |
Не правда ли, хорошо видно, насколько подвергся английский язык французскому влиянию, отдалившись от своих немецких и нидерландских родственников? При этом заметьте, что облик английских слов ближе именно к старофранцузскому варианту, чем к современному французскому: ведь французские заимствования в английском языке очень древние. Например, в старофранцузском языке сочетание ch обозначало
звук ч, а современные французы произносят его как ш; англичане же во французских словах по-прежнему произносят этот звук так, как его произносили далекие предки нынешних французов.
Конечно, английский язык похож и на своих близких родственников — это видно по другим английским словам, которые в нашу таблицу не попали. Вот, например, «мышь» по-нидерландски будет muis (мёйс), по-немецки Maus (маус), и по-английски тоже mouse (маус); а по-французски это слово звучит совсем по-другому: souris (сури). Но важно, что английский язык оказался похожим и на французский — причем, конечно, похож он на него гораздо больше, чем нидерландский и немецкий языки, вместе взятые.
Бывает и наоборот — лингвисты знают, что два языка родственны, но похожие слова в них — на поверхностный взгляд — едва можно определить. Вот у французского языка тоже есть близкие родственники — например, итальянский или румынский языки. Однако попробуем сравнить наугад несколько французских слов с их румынскими и итальянскими «братьями»:
| Значение | Французский | Румынский | Итальянский |
| «вода» | еаи (о) | а´рã (апэ) | acqua (а´куа) |
| «коза» | chèvre (шэвр) | caprã (ка´прэ) | сарга (ка´пра) |
| «молоко» | Lait (лэ) | lapte (ла´пте) | latte (ла´ттэ) |
| «огонь» | feu (фё) | foc (фок) | fuoco (фуо´ко) |
| «орех» | noix (нуа´) | nucã (ну´кэ) | посе (но´че) |
| «палец» | doigt (дуа´) | deget (де´джет) | dito (ди´то) |
| «печень» | foie (фуа´) | ficat (фика´т) | fegato (фега´то) |
| «теленок» | veau (во) | viţel (вице´л) | vitello (витэ´лло) |
| «черный» | noir (нуа´р) | negru (не´гру) | пего (нэ´ро) |
Сходство между румынскими и итальянскими словами очень велико (как и положено настоящим близким родственникам — точно так же обстояло дело, если вы помните, в случае русского и белорусского языков): только некоторые гласные и согласные (интересно, сможете ли вы точно сказать какие?) чуть-чуть различаются. А вот французский язык отличается очень сильно. Если не знать, что он родственник итальянского с румынским (а откуда лингвисты это знают — мы расскажем в следующей главе), то такие пары, как о — акуа или во — вицел, едва ли наведут на такую мысль. Посмотрите, как французские слова почти всегда оказываются короче румынских и особенно итальянских и как сильно меняются в них звуки.
Что же мы выяснили? Языки бывают похожими и непохожими; в похожих языках большинство слов или совсем одинаковые, или чуть-чуть отличаются в произношении; похожа у таких языков и грамматика. Если языки очень похожи, они скорее всего родственные, но это не обязательно: бывают непохожие друг на друга родственники, бывают неродственные, но похожие друг на друга языки.
Через некоторое время мы попробуем выяснить, что же такое родственные языки и почему одни родственные языки больше похожи друг на друга, а другие — меньше. Но вначале нам понадобится узнать о некоторых важных свойствах всех языков вообще.
^
3. Язык и время
Я надеюсь, вы уже привыкли к тому, что в языке много загадочного. Поэтому вы не удивитесь, если я скажу, что родство языков тоже связано с одной очень загадочной особенностью, которая присуща всем известным на земле языкам. Любому языку.
Эта особенность состоит в том, что язык постоянно изменяется. Проходит немного времени («немного» для языка — это лет сто или двести) — и язык уже не совсем тот, что был. Проходит еще немного времени — и язык меняется еще больше. И вот уже, если мы сравним то, что было, скажем, восемьсот лет назад, с тем, что есть сейчас, — мы просто не поверим, что возможно столько превращений. Предок и потомок — два совершенно разных языка.
И так происходит всегда и везде, с любым языком, каким бы он ни был и кто бы на нем ни говорил. Ну, может быть, одни языки будут меняться чуть медленнее, чем другие, вот и всё. Но постепенных превращений не избегает ни один язык. Это неумолимый закон.
Опять-таки лингвисты пока не очень хорошо понимают, почему так происходит. Но мы твердо знаем, что это происходит обязательно.
А что значит, что язык изменяется? Давайте посмотрим внимательнее на то, что было написано на русском языке чуть больше ста пятидесяти лет назад (мы нисколько не сомневаемся в том, что это еще — или уже — был современный русский язык). Вот, например, несколько отрывков из хорошо знакомых вам сказок Пушкина:
Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой…В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.…А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвесть…
…Князь Гвидон тот город правит,
Вся к его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался……Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.
Попробуйте сами определить, что вам кажется в этих строчках непохожим на тот язык, на котором мы с вами говорим сегодня.
Изменения, которые произошли в русском языке с тех пор — за неполных двести лет, — в общем, небольшие. Но если посмотреть на них внимательно, то окажется, что они очень типичны: такие или примерно такие изменения происходят и во всех других языках. Есть несколько разных типов изменений языка.
^
4. Об изменениях в языке: изменения значений слов
Самый очевидный и самый частый тип изменений связан с тем, что слова в языке перестают иметь свое прежнее значение. После этого со словом могут происходить две вещи: либо оно продолжает употребляться — но в другом, новом значении (отличающемся от старого или незначительно, или порой даже очень сильно), либо это слово исчезает из языка вовсе. В приведенных строчках Пушкина мы встречаем, например, слово рогатка, которое означает кандалы особого рода (надевавшиеся на шею), — в современном языке ни сам этот предмет (к счастью), ни слово рогатка в таком значении не известны. Однако неверно думать, что слова изменяют свое значение (или исчезают) только потому, что изменяются (или исчезают) вещи, для обозначения которых они служат. Конечно, такие случаи бывают, но их ничтожно мало по сравнению с основной массой изменений. Глагол положить у Пушкина значит «решить, поставить целью»; в современном языке он в этом значении не употребляется (хотя мы говорим и полагать, и предположить, и даже положим в значении «допустим») — это, конечно же, не свидетельствует о том, что люди стали думать и принимать решения как-то иначе, чем раньше. Пушкин нередко использует вместо современных слов лоб, пальцы и щеки старинные чело, персты и ланиты, а ведь эти «объекты» — части тела человека — остаются неизменными с незапамятных времен. Так что дело здесь отнюдь не в том, что какая-то вещь вдруг исчезает или появляются новые вещи, которые люди не знают, как назвать. Дело в том, что срок жизни любого слова в любом языке ограничен — рано или поздно слову придется исчезнуть, уступив свое место другому (которое в принципе ничуть не лучше и не хуже своего предшественника). Бывает так, что это новое слово берется из другого языка — обычно это язык соседнего народа или просто широко распространенный (в ту эпоху) язык; такие слова называют заимствованиями.
Заимствования. Про некоторые слова мы сами еще понимаем, что они «чужие»: они, так сказать, пока живут в языке как гости, полуиностранцы. В основном это слова, которые вошли в язык недавно. Всякий скажет, что эксперимент или компаньон — слова не русские; это действительно так. А знаете ли вы, что когда-то были русским языком заимствованы такие слова, как блюдо, буква, изба, осел, хлев (из древнегерманского), грамота, свекла, тетрадь (из греческого), алый, башмак, богатырь, колчан, лошадь (из тюркских языков)? Во всяком языке заимствований очень много: языки, живущие по соседству друг с другом, легко проникают друг в друга и, так сказать, обмениваются своими словами. О французских заимствованиях в английском языке нам уже приходилось говорить; но в современном французском языке (как и во многих других, в том числе и в русском) теперь немало английских заимствований.
Любопытна, например, история слова шапка. Несколько сот лет назад оно было заимствовано русским языком (через польский и немецкий языки) из французского (старая форма chape, современное французское chapeau) в значении «головной убор европейского образца». Однако позднее французский язык сам заимствовал это слово из русского: теперь наряду со словом chapeau в современном французском языке есть и слово chapka, которое обозначает… теплый головной убор на меху «русского образца»! Этот случай не такой редкий, как может показаться: есть довольно много примеров того, как языки «обмениваются» одним и тем же словом поочередно.
А почему слова в языке не живут вечно? Каков «срок жизни» слова? У всех ли слов он одинаков? Это очень интересные вопросы, но, к сожалению, у лингвистов пока нет на них ясного ответа. Можно с уверенностью сказать одно: у разных слов срок жизни разный. В каждом языке есть своя группа «слов-долгожителей», и в очень многих языках (хотя, быть может, и не во всех) долгожителями оказываются близкие по смыслу слова — такие, например, как отец, мать, вода, камень, сердце, кровь, весь, белый, идти, пить, два, три и некоторые другие. Удалось, например, заметить, что слово один живет в языках меньше, чем слово два, а слово хороший — меньше, чем слово новый. Около пятидесяти лет назад американский лингвист Морис Свадеш, опираясь на такие наблюдения своих предшественников, обследовал много разных языков и составил список ста самых «устойчивых» слов. Этот список часто так и называется — «список Свадеша» (или еще «стословный список»). Слова этого списка исчезают из языка очень медленно: например, считается, что за тысячу лет в среднем должно исчезать всего около пятнадцати слов из ста.
Слова-долгожители очень важны для лингвистов: именно на эти слова лингвисты смотрят в первую очередь, когда хотят понять, являются ли языки родственными и насколько тесно их родство.
Изменения значений, появление и исчезновение слов — очень важные изменения в языке. От того, все ли слова в языке нам понятны, прямо зависит то, хорошо ли мы поймем сказанное (вспомните-ка, из-за чего вам труднее всего было расшифровать белорусский текст в самом начале этой главы). Но эти изменения — далеко не единственные, которые бывают в языках.
^
5. Еще об изменениях в языке: изменения в произношении слов
Бывает так, что слово может некоторое время сохранять свое значение, но изменять свое звучание. То же самое слово начинает произноситься немного по-другому, с другими звуками или, например, без некоторых звуков: они как бы проглатываются, стираются, как монета от долгого употребления.
Как и изменения в значении, изменения в звучании тоже происходят постепенно, причем в языке бывают периоды «звукового спокойствия», когда может пройти триста-пятьсот лет без каких-либо значительных изменений, а бывают периоды «звуковых бурь», когда за сто пятьдесят — триста лет язык меняется до неузнаваемости. «Бурные» периоды в истории языка часто совпадают с бурными периодами в истории народа, говорящего на этом языке (завоевания, переселения, растворение среди других народов и т. п.).
В истории русского языка бурная эпоха приходится на XII–XIV века (время татарского нашествия и образования Московского государства — ключевой период русской истории); затем наступает эпоха относительного спокойствия и плавных, малозаметных изменений. Русский язык XVIII века, в общем, уже можно считать современным русским языком, но и многие документы, например,
XV века современный русский может понимать без перевода (это не сложнее, чем понимать современные белорусские тексты). Зато русский язык XI–XII веков нам уже просто так понять не удастся, для нас это в каком-то смысле иностранный язык. И дело не в том, что в нем много незнакомых слов, — даже сохранившиеся в современном языке слова звучали совсем иначе.
Конечно, такое случалось не только с древнерусским языком, подобные изменения обязательно происходят в истории любого языка, и для любого языка такие изменения звуков (конечно, если мы возьмем достаточно большой отрезок, по меньшей мере четы-ре-пять веков) играют большую роль. Посмотрите еще раз, например, на таблицу, в которой приведены английские и французские слова. Вы видите, какая большая разница имеется в произношении старофранцузских (приблизительно XI–XIII века) и современных французских слов. О переходе ч в ш (не отраженном на письме: французская орфография «застыла» где-то на уровне XVI–XVII века, а то и более раннем) мы уже говорили; какие еще переходы вы можете заметить?
А теперь давайте сделаем небольшое отступление от нашего рассказа про родственные языки и немного подробнее поговорим про историю русского языка.
^
6. Отступление: как изменялось произношение слов в русском языке
Начнем с того, что попробуем понять, как обстоит дело со звучанием слов в языке Пушкина. Вернемся назад, перечитаем внимательно наши стихотворные отрывки. На первый взгляд никаких отличий вроде бы нет. Но прислушайтесь — и некоторые мелочи вам удастся подметить.
Вы, конечно, заметили, что отличия касаются прежде всего ударения в словах. Ведь ударение тоже может меняться с течением времени. Пушкинские ударения в словах и´дут или седина´ми — более древние; в XIX веке еще говорили так. А еще вы могли заметить, что на конце некоторых слов появляются как бы «лишние» по сравнению с современным языком гласные (призналася), а на конце других слов гласной, наоборот, «не хватает» (отвесть). В древнерусском языке конечные гласные были всюду: говорили призналася и отвести. В среднерусский период (XV–XVII века) некоторые гласные на конце слов уже начали отпадать, но во времена Пушкина люди говорили и так, и так (это зависело главным образом от местности). Так получилось, что в современном языке в некоторых случаях «победили» более новые формы (призналась), а в некоторых случаях — остались старые (отвести). В языке Пушкина соотношение старых и новых форм, как мы убедились, немного другое.
Итак, мы видим, что со времен Пушкина в нашем языке «потерялись» некоторые гласные на конце слов и немного меняется ударение. Это продолжается и до сих пор: вспомните, что бывают такие слова, в которых и вам самим не очень просто поставить «правильное» ударение. Как надо сказать: зво´нит или звони´т? включа´т или вклю´чат? творо´г или тво´рог? Вы знаете, что некоторые люди произносят эти слова одним способом, а другие люди — ина´че (или, может быть, и´наче?). А это и значит, что произношение слова медленно меняется. Лет через сто скорее всего «победит» какой-нибудь один вариант, как это произошло, например, со словом призналась.
По крайней мере последние триста лет русский язык не знает более крупных изменений звуков, чем те, которые мы только что могли наблюдать. А вот раньше в русском языке происходили изменения куда более серьезные.
Может быть, вы знаете, что в старых русских книгах была особая буква — буква ять (Ѣ). Например, слово семя раньше писали как сѣмя, а слово семь писалось через е, как в современной орфографии. Орфография часто отражает то произношение, которое имелось у слов в глубокой древности; произношение меняется быстрее, чем люди меняют правила письма. Так и в случае с буквой Ѣ: когда-то (приблизительно до XVI века) она обозначала особый звук, близкий к современному русскому [йе] и отличавшийся оттого звука, который записывали буквой е; но писать ее в России перестали только после 1918 года.
Очень важное изменение в истории русского языка касается произношения безударных гласных: теперь в безударных слогах мы можем произносить только [а], [и] и [у], хотя на письме звук [а] могут передавать буквы а и о, а звук [и] — буквы и, е и я. Но произносить о, е и а (после мягких) без ударения мы не умеем: мы говорим кАро´ва, а не кОро´ва, тИну´ть, а не тЯну´ть. Потому-то обучение русской орфографии доставляет сегодня школьникам столько неудобств: написание гласной во многих словах надо просто запоминать или же выбирать нужную гласную, привлекая сложные и не всегда последовательные правила.
Оказывается, и здесь орфография «запаздывает» по сравнению с изменением живого произношения. Конечно, вы уже догадались, что раньше в русском языке без ударения могли произноситься все гласные: и о, и е, и а (после мягких). В древнерусском произношении слова в парах лИса´ и лЕса´, вОлы´ и вАлы´ — звучали по-разному. Да и сейчас во многих русских диалектах к северу от Новгорода, Ярославля и Костромы говорят так. А шестьсот-семьсот лет назад на всей территории России говорили (и писали) кОро´ва, а не кАро´ва, корма´н, а не кАрма´н, пОро´м, а не пАро´м, тЯну´ть, а не тИну´ть, сЕло´, а не сИло´ и т. п. (Как видите, современная орфография иногда всё-таки следует за произношением: пишущие как бы «забыли» древнее произношение слов паром и карман.)
Поэтому, между прочим, диалектное «оканье» нельзя представлять себе так, что говорящие на окающих диалектах просто произносят безударное о там, где мы пишем букву о (а произносим звук а). На самом деле наша современная орфография очень сильно поддалась влиянию «акающего» произношения. Вот, например, известные строки русской народной песни:
Во сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял.
В каком-нибудь из окающих диалектов они вполне могли бы быть произнесены так: вО сумЁрки буЁн ветЁр загуля´л, ширОки´ мОи вОро´та рОствОря´л…
О других звуковых изменениях в истории русского языка мы расскажем позже.
^
7. Еще об изменениях в языке: изменения в грамматике
Нам осталось узнать еще об одном, последнем типе языковых изменений. Те изменения, о которых мы говорили раньше (если помните, это были изменения значений и изменения в произношении), — это изменения, которые касаются прежде всего отдельных слов: мы узнали, что слова могут изменять или свой облик, или свое значение, или, разумеется, и то и другое одновременно. Но бывают изменения, которые касаются всего языка, или, как говорят лингвисты, строя языка; другими словами, это изменения в грамматике.
Мы уже говорили, что в самом общем виде к грамматике относится всё то, что нужно знать, чтобы уметь соединять слова в языке друг с другом. Есть ли в языке падежи, и если да, то сколько их и как они употребляются? Какие времена бывают в языке у глаголов? Есть ли там предлоги, какие они? Всё это (и очень многое другое) и составляет предмет грамматики. Вы прекрасно понимаете, что, не зная грамматики, нельзя ни правильно говорить на языке, ни хорошо понимать сказанное. Грамматика — основа языка, его «скелет».
Но оказывается, и грамматика языка изменяется с течением времени. Обратимся снова, в последний раз, к строчкам Пушкина. Не кажутся ли вам немного странными такие, например, сочетания, как о заре (в смысле «на заре; с наступлением зари») или Князь Гвидон тот город правит (в смысле «правит тем городом»)? Или вот еще, в «Сказке о рыбаке и рыбке», можно прочесть такие строки:
Перед ним изба со светелкой,
<…>
С дубовыми, тесовыми вороты.
Кажется, будто бы эти строчки написал иностранец, который немного путается в русских падежах: почему с вороты, а не с воротами, почему правит город, а не правит городом?
Все эти отличия не случайны. В древнерусском языке, как и в современном русском, тоже были падежи, однако многие окончания были не такими, как сейчас, да и употреблялись многие падежи не так, как сейчас. Во времена Пушкина большинство этих отличий уже исчезли, но некоторые еще оставались. Вот например, творительный падеж множественного числа слов типа город раньше звучал не городами, а городы. Поэтому, когда Пушкин пишет изба с вороты, — это, конечно, не ошибка, а остатки древнего склонения. Надо сказать, что даже в нашем теперешнем языке есть одно выражение, которое — в окаменелом виде — сохранило этот древний творительный падеж. Это оборот со товарищи (который значит приблизительно «не в одиночку; вместе с помощниками», то есть попросту «с товарищАМИ»); мы не очень вдумываемся в эту странную форму — ну, говорят так, и всё. А на самом деле этот оборот — редкая окаменелость, в которой отпечатались черты древнего русского склонения — точно так же, как в настоящих окаменелостях отпечатываются очертания древних моллюсков.
Еще один пример. На вопрос, сколько чисел у существительного в русском языке, любой школьник сразу ответит: конечно, два — единственное и множественное, разве может быть иначе? Оказывается, может. И как раз в древнерусском языке у существительных было еще одно, третье число. Оно называлось двойственным и употреблялось, когда речь шла только о двух предметах. Например, один сосед назывался по-древнерусски сусѣдъ, много соседей — сусѣди, а вот если их было двое, то говорили — сусѣда (моя сусѣда переводится на современный язык как «два моих соседа»).
Двойственное число в русском языке исчезло приблизительно шестьсот лет назад. Это тоже было грамматическим изменением. Но вы, наверное, уже поняли, что изменения в грамматике происходят не совсем так, как изменения с отдельными словами. Древние грамматические особенности не исчезают бесследно, от них, как правило, остаются какие-то следы, какие-то осколки. Лингвист, как археолог, может, внимательно изучая какой-нибудь современный язык, довольно много сказать о его прошлом.
Вы спросите меня — неужели в современном русском языке осталось что-то напоминающее о двойственном числе? Да, как это ни удивительно, осталось. И этих остатков даже довольно много. Ну, прежде всего: ведь мы же говорим почему-то два соседА, а не два соседИ? Здесь спрятана та самая древняя форма. (Правда, мы теперь говорим также и три соседа, и четыре соседа, чего не было в языке наших предков, однако это уже другая история.) Но и это не всё. Какое «нормальное» окончание множественного числа у слов среднего рода на — о? Правильно, — а, как, например, в паре веслО´ — вёслА. А почему мы не образуем таким же образом множественное число от слов плечо´ или у´хо? Мы ведь говорим не пле´ча, а пле´чи, не у´ха, а у´ши. Да, и здесь замешано древнее двойственное число. Формы плечи и уши — древние формы двойственного числа, которые в современном языке победили «правильные» формы множественного числа (не потому ли, что, когда мы говорим, например, уши, мы обычно имеем в виду всё-таки пару ушей?). Хотя и эта победа была одержана не сразу: например, форма плеча ещё в XIX веке употреблялась достаточно широко. Например, в знаменитом стихотворении Фета «На заре ты ее не буди…» (это середина XIX века) мы читаем:
И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И чернеясь бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон…
Даже в стихах Блока (написанных в самом начале XX века)
еще можно встретить плеча.
В грамматике могут происходить и более серьезные изменения. Например (если по-прежнему говорить о падежах), слова одного склонения могут заимствовать окончания у слов другого склонения. В древнерусском языке последовательно различались окончания так называемого «твердого» и «мягкого» склонения существительных. Вот как это выглядело (я приведу, конечно, не всю таблицу склонения, а только один небольшой ее фрагмент; падеж, который в древнерусском языке назывался «местным», в общем, соответствует тому падежу современного русского языка, который в учебниках обычно называют «предложным»).
| Падеж | Твердый тип («стена») | Мягкий тип («земля») |
| Родительный | (у) стѣн-ы | (у) земл-ѣ |
| Местный | (на) стѣн-ѣ | (на) земл-и |
В современном языке мягкий тип просто исчез: стало на одно склонение меньше. Слова мягкого типа утратили свои особые окончания и приобрели взамен окончания твердого типа: сейчас мы говорим у земл-и — как у стен-ы, на земл-е — как на стен-е. Но некоторые русские диалекты распорядились иначе: в каких-то из них, например, тоже вместо двух типов склонения остался только один, но за счет того, что слова твердого типа потеряли свои окончания и приняли окончания мягкого типа! В таких диалектах говорят: у стене, у земле. Таких изменений в истории русского языка было очень много; знакомы они и почти всем другим языкам, различающим несколько типов склонения: в ходе истории эти типы обязательно начинают, так сказать, «смешиваться» друг с другом.
А могут ли падежи вообще исчезнуть? Бывает и такое. Существительные в языке вообще перестают склоняться и в любом месте в предложении начинают выступать в одной-единственной форме. Это и значит, что падежей в таком языке нет — как, например, в английском или французском. Кстати об английском и французском: ведь и в том, и в другом языке падежи тоже были! И в старофранцузском, и в староанглийском (точнее, в древнеанглийском, как принято говорить). Правда, например, в старофранцузском их осталось всего два — а в латыни, которая была предком старофранцузского языка, падежей было целых пять даже в позднюю эпоху. Если в языке из пяти падежей осталось только два, то ясно, что жить им осталось недолго. Но всё же лет двести или триста язык с двумя падежами во Франции просуществовал.
Исчезли падежи и в болгарском языке. У болгарского языка такой же предок, как и у русского, — праславянский язык. А падежей в этом языке (да и в древнеболгарском, тексты на котором сохранились) было не меньше, чем в русском. Зато теперь от них не осталось и следа. Судите сами: например, «стол» по-болгарски будет маса; «на стол» и «на столе» будет на маса, «под стол» и «под столом» — под маса и так далее. Слово употребляется только в одной форме — совсем как в современном английском или французском.
Изменения в грамматике больше всего отдаляют одно состояние языка от другого. Ведь если слова звучат чуть-чуть иначе или некоторые из них имеют другое значение — это разница не такая заметная. А вот если в языке, например, меняется склонение — это затрагивает его целиком, и настолько глубоко, что мы сразу говорим: да, древний язык и новый, его наследник, — это действительно два разных языка…
^
8. Что мы узнали об изменениях в языке?
Теперь вы — в общих чертах — уже представляете себе, как изменяется язык. Прежде всего, непрерывно меняется значение слов; одни слова исчезают, на смену им приходят другие — нередко это бывают слова, заимствованные из языков других народов. Изменяется звучание, произношение слов; могут исчезать одни звуки и появляться новые. Наконец, разнообразными способами изменяется грамматика языка, самая его основа.
Что касается русского языка, то в его истории, как и в истории других языков, все эти изменения происходили тоже. О многих из них нам уже приходилось говорить. Русский язык первых памятников (приблизительно XI век) совсем непохож на современный язык, и нам его очень трудно понимать. Это трудно даже лингвистам, специально занимающимся историей русского языка.
Я не стану, пожалуй, приводить сейчас отрывки на древнерусском языке — вам было бы слишком сложно в них разобраться, ведь даже многие буквы, которые тогда употреблялись, вам незнакомы. Но мы можем поставить более простой опыт.
Когда поэт Алексей Константинович Толстой написал балладу о князе Курбском и царе Иване Грозном, он решил передать речь Курбского так, чтобы она была как можно более далека от современного языка и как можно более напоминала ту старинную эпоху (хотя время Ивана Грозного — это не XII и не XIII, а «всего лишь» XVI век). Вот что у него получилось:
«Безумный! Иль мнишись ничтожнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьею предстану».
Так Курбский писал к Иоанну.
Интересно, всё ли вам удалось понять в этом отрывке? Наверное, не всё. Но не так всё просто обстоит с тем языком, на котором он написан (точнее — с тем языком, под который он «подделан» поэтом). Это не совсем русский язык, это — русский язык, смешанный со старославянским (не путайте его, пожалуйста, с праславянским, о котором мы только что говорили!). Впрочем, наш современный литературный русский язык по своему происхождению точно такой же. Если бы не было старославянского языка, мы не имели бы, может быть, трети тех слов, которыми пользуемся.
Но вы, наверное, хотите спросить, что такое старославянский язык и почему он так сильно повлиял на русский.
Это очень интересный вопрос, и знать ответ на него очень важно для тех, кто хочет правильно представлять себе историю русского языка.
Но для подробного на него ответа требуется много дополнительных знаний.
Поэтому мы вернемся к старославянскому языку через некоторое время — в третьей главе.
А пока — как и было обещано, поговорим о родственных языках.
^
Глава вторая. Родство языков и языковые семьи
^
1. Как возникают родственные языки?
Мы так долго говорили в предыдущей главе об изменениях в языке не случайно. Ведь постоянные изменения в языке — основная причина того, что возникают родственные друг другу языки.
Какая же здесь связь? Очень простая. Представьте себе, что мы на протяжении многих лет наблюдаем жизнь какого-нибудь народа. Назовем этот народ… ну, например, эндорским — и представим себе, что он живет в государстве Эндора и говорит на эндорском языке. Если эндорский язык устроен так же, как все остальные языки на земле, то он будет непрерывно изменяться всеми теми способами, о которых мы уже знаем. Слова в этом языке через какое-то время начнут произноситься иначе, чем раньше; некоторые слова исчезнут вовсе, другие слова изменят свое значение. Наконец, изменится грамматика: у глаголов появятся новые окончания, падежи существительных будут употребляться не так, как прежде, а может быть, и вовсе исчезнут, и так далее. Самых разных изменений будет много, и чем больше времени будет проходить, тем больше этих изменений будет накапливаться.
Если государство Эндора маленькое и если его историческая судьба складывается благополучно, без войн, катастроф и переселений, то это означает, что все эндорцы веками живут там, где жили, и сохраняют возможность постоянно общаться друг с другом на своем языке. Единственное, что происходит с этим языком, — он постепенно превращается… ну, скажем, из староэндорского в среднеэндорский, а из среднеэндорского — в новоэндорский. Фактически староэндорский и новоэндорский — это уже два совершенно разных языка, так что эндорские студенты в эндорских университетах должны будут с большим трудом обучаться грамматике староэндорского языка, чтобы уметь читать староэндорские рукописи.
История разных государств на земле, конечно, далеко не всегда складывалась так, как только что было изображено. И всё же, если люди, которые говорят на определённом языке, на всём протяжении своей истории могут беспрепятственно общаться друг с другом, картина развития этого языка будет очень похожей на наше эндорское государство. Язык просто постепенно перейдет из своей древней стадии в новую (с бо´льшими или меньшими изменениями), и ничего другого с ним не произойдет. Главное для этого — чтобы на протяжении всей истории языка между говорящими на нем людьми сохранялся, как выражаются лингвисты, постоянный контакт.
А что же произойдет, если это условие не будет выполнено? Ведь таких случаев в истории человечества тоже было очень много. Представьте себе, что в глубокой древности часть эндорцев села на корабли и уплыла далеко в неизвестные страны, где основала какую-нибудь Новую Эндору. Или еще: нашу Эндору могли завоевать какие-нибудь грозные пришельцы и разделить ее на два государства (например, Западную Эндору и Восточную Эндору); граница между этими государствами могла бы стать очень прочной, и каждое из них потом стало бы развиваться совершенно изолированно от другого. Да разве мало еще что могло бы произойти, в результате чего единый прежде народ разделился бы на несколько групп?
А между тем именно это событие — деление одного народа на несколько изолированных групп — и есть самая главная причина того, почему возникают родственные друг другу языки. Я думаю, вы уже догадались, в чем здесь дело.
Язык не просто постоянно изменяется — он в принципе способен изменяться разными способами. Может получиться так, что, например, звук [м] на конце всех слов станет произноситься как [н], а может получиться так, что этот звук вообще исчезнет. Слово со значением «падать» может изменить свое значение на «случаться» (ср. в русском: мне выпало на долю), а может изменить свое значение на «не получаться» (как это произошло с близким по смыслу русским словом проваливаться, ср.: он сдавал экзамен, но провалился). В каждый момент своей истории язык похож на знаменитого витязя на распутье: перед ним одновременно множество дорог. По какой из них язык пойдет — зависит от многих сложных причин; в какой-то степени, может быть, это еще и игра случая.
Теперь представим себе, что единый прежде народ разделен на две области, две страны. Его единый прежде язык продолжает изменяться, потому что язык ни одного дня не существует без того, чтобы хоть немного не измениться (так же как наше сердце, пока мы живы, ни одной секунды не может не биться). Но доро’г-то множество! И если в одной из стран язык пошел по одной дороге, то ведь в другой стране он вполне может пойти по другой дороге! А дальше — различия будут всё больше и больше накапливаться, и в конце концов части когда-то единого языка разойдутся так далеко, что никто, кроме лингвиста, и не скажет, что некогда они были одним целым.
Возникнут два разных языка, и люди, на них говорящие, даже не смогут понимать друг друга. Но мы помним, что эти два языка когда-то были одним языком: они произошли из одного и того же языка, потому что народ, говорящий на нем, разделился.
Такие языки и называются родственными. Теперь скажем об этом же немного точнее. Когда староэндорский язык, постепенно изменяясь, превращается в новоэндорский, мы говорим, что староэндорский язык — предок новоэндорского языка. Про всякий язык можно сказать, кто его предок. Бывают такие языки, у которых предок один и тот же. Родственные языки — это и есть языки, у которых один и тот же предок. Почему так получается — об этом мы уже сказали.
Итак, история языка (и говорящего на нем народа) может складываться так, что контакты между всеми говорящими никогда не прерываются и язык просто изменяется от древнего состояния к современному. Такой путь прошел, например, русский язык, развиваясь от древнерусского (XI–XII века) к современному русскому (XVIII–XXI века); такой же путь прошел, например, испанский язык, развиваясь от староиспанского к современному испанскому. Ни русский, ни испанский язык с того момента, как они образовались, больше не делились на родственные языки.
А вот судьба латинского языка была совсем иной. Как вы, наверное, знаете, на латинском языке говорило большинство населения древней Римской империи (которая существовала вплоть до V века). Это было огромное государство, простиравшееся от Северной Африки до Британских островов, от берегов Атлантического океана до берегов Черного моря. После того как Римская империя была завоевана германскими племенами, она распалась на множество мелких областей, население которых в ту эпоху, естественно, не могло поддерживать контакты между собою. И в каждой из этих областей латинский язык продолжал изменяться по-своему. В результате этого получилась целая большая группа родственных языков. Это языки, у которых есть один общий для всех предок — латинский язык. Лингвисты называют их романскими языками (romanus по-латыни значит «римский»). Самые известные романские языки — это итальянский, испанский, португальский, французский и румынский. Все они и сейчас распространены в Европе на тех территориях, которые когда-то были римскими провинциями.
Таких примеров тоже очень много — когда единый язык перестает существовать и распадается на несколько самостоятельных родственных языков. Лингвисты говорят, что такие языки-потомки образуют группу родственных языков.
^
2. Как определить родственные языки?
Этот вопрос может вас удивить. Мы же только что договорились, что родственными называются языки, у которых есть общий язык-предок (его еще называют праязык).
Так-то оно так, но как узнать, есть у каких-то двух языков общий предок или нет?
Конечно, в некоторых случаях нам может повезти, и мы благодаря сохранившимся документам, хроникам, памятникам и другим свидетельствам сумеем совершенно точно восстановить события, которые происходили с народом, говорившим на некотором языке. Мы будем точно знать, что этот язык распался, будем знать, когда он распался и на сколько языков.
В случае с латинским языком лингвистам, можно сказать, повезло. Современные люди довольно много знают про историю Римской империи и населявших ее народов. Во всяком случае, у нас нет никаких причин сомневаться в том, что испанский или итальянский языки произошли от латинского.
Но так бывает очень редко. Возьмем, например, славянские языки. Это группа родственных языков, а значит, когда-то должен был существовать единый народ древних славян, говоривших на славянском праязыке. Но историкам ничего не известно ни про такой язык, ни про такой народ — несмотря на то что вообще история жизни разных славянских народов (чехов, поляков, сербов, русских) известна с довольно давнего времени. То же самое мы наблюдаем и в случае с германскими языками. Про историю германских народов мы тоже знаем довольно много, но все эти знания относятся к тому периоду, когда германцы уже были разделены на группы, жившие порознь.
Есть немало и таких народов, про прошлое которых нам совсем ничего не известно.
Тем не менее лингвисты находят способ говорить о родственных языках даже жителей Амазонки, даже жителей Тропической Африки, об истории которых они не знают совсем (или почти совсем) ничего.
Как же они это делают? Оказывается, такую возможность им дает сам язык. Если внимательно сравнить два языка, они почти всегда дадут ясный ответ — родственны они друг другу или нет.
Дело в том, что язык изменяется не произвольно, а по определенным правилам. И, кроме того, в языке почти всегда остаются следы произошедших изменений (по крайней мере, если речь идет об изменениях относительно недавних, возрастом двести-четыре-ста лет). Помните, как мы находили в современном русском языке следы старого двойственного числа?
В лингвистике есть специальные методы, которые позволяют восстанавливать тот облик, который имел язык несколько сот лет назад — перед последними изменениями. Эти методы называются реконструкцией.
Предположим, лингвист исследует какие-то два языка и видит, что их можно реконструировать так, что их более древний облик окажется одним и тем же. Это и означает, что у двух таких языков имеется общий предок, а сами эти языки — родственны. Только от этого языка-предка ничего не сохранилось — ни длинных рукописей, ни коротких текстов, ни даже просто записанных кем-то когда-то отдельных слов. Никто не засвидетельствовал его существование.
Поэтому такой язык называют реконструированным.
Если реконструкция выполнена хорошо, то реальность реконструированного языка-предка почти не вызывает сомнения. Хотя не надо забывать, что его существование всё-таки остается гипотезой (пусть часто это очень правдоподобная гипотеза). Чем дальше мы отходим от нашего времени, тем менее надежны наши реконструкции. И когда лингвисты начинают рассуждать о языках, на которых люди могли говорить десятки тысяч лет назад (а люди ведь говорили тогда на каких-то языках, не правда ли?), то уже едва ли найдутся два лингвиста, которые согласились бы друг с другом полностью. Ну что ж, в науке такое бывает часто.
Но мы еще не узнали ничего существенного про метод реконструкции. Конечно, я не стану излагать его целиком — это слишком сложно, да и заняло бы слишком много места. Но про самую главную его особенность, думаю, рассказать будет очень полезно. Она касается того, как следует сравнивать разные языки, чтобы получить достоверные результаты.
^
3. Звуковые соответствия
Лингвисты, которые занимаются индоевропейскими языками (о том, что это за языки, вы узнаете в следующем разделе), утверждают, что слова, которые обозначают число 100 и звучат как сто в русском языке, centum (ке´нтум) по-латыни и çatam (ща´там) в санскрите, — родственны друг другу. Иначе говоря, все эти слова имеют одно и то же слово-предок в индоевропейском праязыке, которое по-разному изменялось в каждом из языков-потомков.
На первый взгляд, эти три слова совсем не похожи. Точно так же, как не похожи французское дуа´ и румынское де´гет, про которые лингвисты тоже говорят, что эти слова родственные.
С другой стороны, слово со значением «плохой» звучит, можно сказать, почти одинаково и в английском языке, и в персидском. По-английски оно пишется bad, а произносится приблизительно как бэд; по-персидски оно пишется (если писать латинскими буквами — хотя в Иране обычно пишут арабскими) bäd и произносится приблизительно так же. И английский, и персидский — индоевропейские языки, тем не менее лингвисты категорически отказываются считать английское bad и персидское bäd словами-родственниками. Лингвисты говорят, что их сходство — случайное совпадение.
Значит, дело совсем не в том, похожи ли внешне слова одного языка на слова другого языка. Впрочем, в этом мы убедились еще раньше, когда сравнивали родственные языки.
До сих пор многие люди, не знакомые с методами научного изучения языков, пытаются доказывать родство самых далеких друг от друга языков, просто подбирая похожие слова. Оказывается, что некоторые слова африканского языка хауса похожи на слова английского языка, а то и языка древних египтян или шумеров. Или два-три слова из языка жителей какого-нибудь из островов Полинезии вдруг почти совпадут со словами древнегреческого языка.
Однако такие совпадения ничего не доказывают. Вообще, во всех языках мира так много слов (а звуков довольно мало), что нет ничего удивительного, если вдруг из десяти-двадцати-тридцати тысяч слов пять-шесть слов в разных языках окажутся похожими.
Нужно всегда помнить: в родственных языках слова не обязательно похожи (особенно если речь идет о дальнем родстве), а похожие слова в разных языках — не обязательно родственны. Это — одно из самых главных положений сравнительного языкознания (специальной отрасли лингвистики, занимающейся сравнением разных языков для того, чтобы установить степень их родства).
Так как же определить родственные языки? Всё дело в том, что между всеми родственными друг другу словами родственных языков должны существовать особые отношения. Лингвисты называют их регулярными звуковыми соответствиями.
Что же это такое? Речь идет вот о чем. Когда в языке происходят звуковые изменения (то есть слова начинают произноситься не совсем так, как прежде), то оказывается, что эти изменения обладают одним удивительным свойством, которое, надо сказать, очень облегчает работу лингвиста. Не будь этого свойства — мы, наверное, не смогли бы так хорошо восстанавливать облик исчезнувших языков. Свойство это состоит в том, что изменения звуков регулярны. Проще говоря, если, например, мы видим, что в каком-то одном слове звук [п] изменился в [б], то это значит, что и во всех остальных словах этого языка должно было произойти то же самое изменение: то, что произносилось как [п], теперь произносится как [б].
Впрочем, это можно сформулировать точнее. Неверно, что во всех словах один и тот же звук всегда изменяется одинаково. А верно то, что один и тот же звук всегда изменяется одинаково в одинаковых условиях. Или, как говорят лингвисты, в одинаковых контекстах. Например, может оказаться, что [п] изменяется (еще говорят: «переходит») в [б] только в положении между двумя гласными: какое-нибудь слово плим так и продолжает произноситься плим, а вот слово упум превратится в слово убум. Но зато все слова, в которых звук [п] — между двумя гласными, должны будут изменить свое произношение.
Поэтому главное для лингвиста — обнаружить такие звуковые соответствия. Если он видит, что во многих словах двух разных языков повторяются одни и те же сходства и различия звуков, то это — очень верное доказательство того, что перед нами действительно родственные языки. И не так уж важно, похожи ли они друг на друга. Звуковые изменения могут быть очень большими и менять облик слова до неузнаваемости. Обратимся еще раз к французскому языку (среди других языков именно французский известен тем, что пережил необычайно сильные изменения звуков: на территории других римских областей произношение латинского языка менялось заметно меньше). Узнаем ли мы с ходу в современном французском chaud «горячий» (произносится: шо) его предка — позднелатинское caldu- (произносится: калду-)? Вряд ли, и, наверное, очень удивимся, если нам скажут, что это — исторические родственники.
Однако посмотрим внимательнее на судьбу других латинских слов, оставшихся во французском языке. Первый звук в латинском слове «горячий» — звук [к]. Посмотрим, что произошло с другими латинскими словами, которые начинались с [к].
| Поздняя латынь | Французский язык |
| cadena-(кадэна) «цепь» | chaine (шэн) |
| capillu- (капиллу) «волос» | cheveux (швё) |
| сарга- (капра) «коза» | chèvre (шэвр) |
| сари- (капу) «главарь» | chef (шэф) |
Оказывается, во всех случаях, когда слово начиналось с [к] (точнее, [к] с последующим [а] — это и был тот самый контекст, в котором обязательно происходило изменение), — это [к] переходило во французском языке в [ш]! (Вы уже знаете, что у этого изменения была промежуточная ступень: сначала [ш] произносилось как fч], но сейчас это для нас не важно.) Каким бы странным нам ни казалось это изменение — оно совершенно регулярно, а следовательно, свидетельствует о родстве слов в каждой из этих пар.
Кстати, из приведенных примеров видно и то, что латинское конечное [у] во французских словах отпадало. Что касается конечного [д], то во французском слове оно пишется, но не произносится. Еще совсем недавно (несколько веков назад) его произносили, но потом французы перестали произносить почти все конечные согласные в своих словах. Следы его еще заметны — например, форма женского рода («горячая») звучит как шод — в этой форме [д] еще произносится, потому что в ту эпоху, когда конечные согласные исчезали, форма женского рода была длиннее и д не находился на конце слова.
Итак, [к] (перед а) всегда дает [ш], конечные [у] и (следом за ним) [д] — всегда отпадают. Нам осталось не так много: понять, что происходило с латинским сочетанием [ал]. Ну что ж, повторим наш опыт, рассмотрев еще несколько слов.
| Поздняя латынь | Французский язык |
| calce- (калке) «известь» | chaux (шо) |
| malva- (малуа) «мальва» | mauve (мов) |
| saltare (салтарэ) «прыгать» | sauter (соте) |
Не правда ли, во всех словах имеется регулярное соответствие латинского [ал] — французскому [о]?
Значит, калду превратилось в шо абсолютно закономерно. Ни в какое другое слово оно и не могло превратиться — таковы были законы звуковых изменений в истории французского языка. Им подчинялись все слова, какими бы они ни были.
Впрочем, тут нужно сразу предупредить, что, говоря «все слова», я всё же не совсем прав. Небольшое число слов в истории языка нередко представляют собой исключения: звуковые изменения либо не происходят в них вовсе, либо происходят иначе, чем в большинстве других слов. Однако обычно и эти исключения можно объяснить действием каких-то других законов, которые просто отменяют «основные». Как бы то ни было, при сравнении языков немногочисленные исключения всё равно нельзя принимать в расчет — их нужно потом исследовать и объяснять отдельно.
Конечно, на самом деле установление звуковых соответствий — гораздо более сложное занятие. Но в общих чертах всё происходит именно так, как мы показали. Обнаружить регулярные звуковые соответствия между словами двух языков — это и есть главная задача лингвиста, если он хочет понять, родственны два языка или нет.
Попробуйте сами, взглянув еще раз на таблицу с французскими, румынскими и итальянскими словами, определить хотя бы некоторые регулярные соответствия между этими языками.
Собственно, это почти всё, что можно сказать о методе сравнения языков, если не касаться более сложных подробностей. Поиск регулярных соответствий — главное средство избежать опасности случайного сравнения похожих слов.
Но есть еще одна опасность, более коварная. Помните ли вы пример из английского языка? В английском и французском языках много похожих слов, между ними вполне можно установить звуковые соответствия (английское [ч] = французское [ш] и т. п.). Но ведь эти слова — не родственные, они не развились из общего англо-французского праязыка (такого никогда не было), они были просто заимствованы английским языком из французского. Это не родные братья: у них нет общего отца. Это скорее сбежавшие из своего дома в чужой пришельцы.
Как отличить этих пришельцев от настоящих родственных слов? И тут нам на помощь приходит еще одно удивительное свойство языка, которое тоже немало помогает лингвистам. Оказывается, что далеко не все слова могут быть заимствованы. Помните, мы с вами рассуждали о том, что срок жизни каждого слова в языке ограничен, рано или поздно любое слово исчезнет из языка. Но есть слова, которые считаются более устойчивыми, чем другие; самые устойчивые слова входят в список Свадеша, о котором мы говорили выше. Так вот, слова из списка Свадеша почти никогда не заимствуются, и начинать сравнение языков надо именно с них.
Тогда меньше всего риска поддаться обману пришельцев-заимствований, «замаскированных» под родственников.
Значит, сравнивать языки и определять их родство можно, если помнить о двух вещах: сравниваются самые устойчивые слова и доказательством родства должны быть только регулярные соответствия, а не случайные сходства в звучании отдельных слов.
^
4. Языковые группы и семьи
Итак, один язык может, разделившись, дать начало нескольким родственным между собой языкам-потомкам. Такие языки, имеющие общего предка, называются группой родственных языков.
Родственные языки, принадлежащие к одной группе, как правило, похожи друг на друга — конечно, не всегда так сильно, как, например, русский и белорусский языки, но, во всяком случае, их сходство обычно видно, так сказать, «невооруженным глазом». Любой испанец (даже если он далек от лингвистики) скажет вам, что испанский и итальянский языки «очень похожи», а французский язык, конечно, не так похож на испанский, но и по-французски он иногда «почти всё понимает». Так или примерно так говорящие на родственных языках одной группы всегда будут оценивать языки своих лингвистических «родственников». Примерно то же русский скажет о болгарском и польском языке, датчанин — о шведском и исландском языке, бенгалец — о языках гуджарати и маратхи (все они распространены в разных штатах Индии, а бенгальский, кроме того, еще и в Бангладеш; вы, может быть, никогда не слышали таких названий, а между тем на родственных языках индоарийской группы говорит почти восемьсот миллионов человек), эстонец — о финском и карельском языке и т. д.
Тут, может быть, кому-то из вас станет интересно, у всех ли языков мира есть такие близкие родственники. Оказывается, не у всех (хотя и у очень многих). У каждого языка есть какой-то предок, но, как у людей бывают семьи с одним ребенком, так и язык может не оставить много потомков. Кроме того, другие родственные языки могут со временем исчезнуть, так что наш язык и останется один на белом свете, без ближайших родственников (о дальних — разговор особый, об этом немного погодя). Такой язык будет образовывать группу, состоящую из него одного. Вот, например, современный греческий язык (он называется «новогреческий») образует греческую группу, в которую, кроме него самого, больше никто и не входит (если, конечно, не считать древнегреческий и новогреческий язык двумя разными языками, но мы всё-таки говорим о языках современных).
Теперь представим себе, что мы исследуем две разные группы родственных языков. Ну, например, ту, которую лингвисты называют славянской, и ту, которую лингвисты называют балтийской.
К славянской группе, кроме русского, белорусского и украинского, относятся еще польский, чешский, словацкий, болгарский, македонский, сербскохорватский, словенский и некоторые другие; все славяне живут на западе Восточной Европы (или на востоке Западной — как кому больше нравится думать), а русские живут еще и в Сибири, на Урале, в Средней Азии — всюду, где простирается Россия, и даже за ее пределами.
Балтийская группа сейчас состоит всего из двух языков — литовского и латышского. Они тоже похожи друг на друга: например, «медведь» по-литовски будет lokys (читается локи´с), а по-латышски — lãcis (читается ла´цис); правда, понять друг друга латышу и литовцу «с ходу» будет трудновато.
Мы знаем, что у всех славянских языков есть общий предок — праславянский язык. Когда-то народ, говоривший на нем, разделился на несколько групп, и так возникли современные славянские языки. Есть, конечно, общий предок и у литовского языка с латышским. Это прабалтийский язык.
А что получится, если мы попробуем сравнить праславянский язык с прабалтийским? Оказывается, эти два языка будут очень похожи — гораздо больше, чем похожи друг на друга любой славянский язык с любым балтийским. Праславянский и прабалтийский языки похожи друг на друга так, как бывают похожи языки, принадлежащие к одной языковой группе.
А это значит, что прабалтийский и праславянский языки тоже родственны между собою, что они принадлежат к одной группе и у них был общий предок — балтославянский язык.
Правда, это мы уже не можем утверждать с полной уверенностью. Ведь чем дальше в глубь веков, тем больше простора для гипотез, окончательно не доказанных. Есть лингвисты, которые думают об отношении балтийских и славянских языков иначе.
Впрочем, для нас это пока не важно. А важно вот что: среди групп родственных языков, безусловно, могут найтись такие, языки-предки которых тоже родственны между собою.
Вот такие группы образуют новые большие группы «дальнеродственных» языков. Их в лингвистике принято называть семьями.
Если про два языка внутри одной группы почти всегда можно с уверенностью сказать, что они очень похожи, то про два языка, принадлежащие к одной семье (но к разным группам) этого уже просто так не скажешь. Их родство — не лежит на поверхности, ведь оно, так сказать, двоюродное или троюродное. Поэтому лингвисты специальным образом его доказывают. Слова из языков, принадлежащих к разным группам одной семьи, нельзя сравнивать непосредственно друг с другом — нужно сначала понять, как выглядели эти слова в языках-предках каждой группы, а потом уже сравнивать древние слова между собой. Именно поэтому не стоит сопоставлять персидские слова с английскими — нужно сравнивать предка английского и других германских языков (это прагерманский язык) с предком персидского и других иранских языков (это праиранский язык).
Сейчас на земле насчитывается не менее двадцати разных языковых семей. Конечно, возникает вопрос о том, могут ли быть родственны друг другу уже целые семьи языков. То есть можно ли сравнивать друг с другом праязыки, из которых эти семьи возникли? Действительно, некоторые лингвисты пытаются это делать. У них получаются макросемьи, в которые входят семьи родственных (по их мнению) языков. Но эти макросемьи должны были возникнуть из праязыка, возраст которого — десятки тысяч лет. Трудно сказать, насколько надежны гипотезы, которые касаются такой древности: ведь в ту эпоху в Европе, например, люди еще ходили в шкурах и пользовались каменными топорами. Но некоторые результаты, полученные при изучении дальнего родства языков, очень интересны.
Однако вернемся к более изученной области — к существующим семьям языков (кстати, почти ни одна из них не изучена досконально, а многие изучены совсем поверхностно). Самая известная семья языков, наверное, — индоевропейская. Она названа так потому, что охватывает языки, на которых говорят во всей Европе и на значительных пространствах Азии — вплоть до Индии. Славянские языки тоже входят в индоевропейскую семью.
Предполагается, что некогда был единый индоевропейский праязык, который позднее распался на много языков-потомков, а те дали начало разным языковым группам внутри индоевропейской семьи. В истории индоевропейских языков еще много неясного, хотя сейчас, пожалуй, ни одна другая семья языков не изучена лучше.
Лингвисты начали заниматься индоевропейскими языками еще в XVIII веке, когда англичанин сэр Уильям Джоунз обратил внимание на то, что древнеиндийский язык санскрит (который играл в Индии приблизительно ту же роль, что латынь в Европе — язык религии, философии, литературы, общения между разными народами) содержит много слов, поразительно похожих на латинские и древнегреческие. Совпадений было так много и они были такими явными, что это сходство, конечно, не могло быть случайным. Оставалось одно — предположить, что и санскрит, и древнегреческий, и латынь, и язык древних германцев, и язык древних славян, и многие другие языки, обнаруживающие те же черты сходства, — что все они имеют одного общего предка, один язык, из которого все они когда-то произошли. Так возникла наука о родстве языков — сравнительное языкознание, или компаративистика.
Со времен Джоунза, конечно, было сделано немало открытий, да и про сами индоевропейские языки стало известно намного больше. Сейчас в индоевропейскую семью объединяют семь крупных групп и некоторые отдельные языки, у которых нет близких родственников. Вот что это за группы (перечислим только те языки, на которых говорят в современную эпоху).
Прежде всего, это уже известные нам славянские и балтийские языки. Другие важные самостоятельные группы образуют: в Европе — германские (немецкий, нидерландский, английский и др.), романские (итальянский, французский, испанский, португальский, румынский и др.) и (увы, близкие к исчезновению) кельтские языки; в Южной Азии — иранские и индоарийские языки.
Кроме того, к индоевропейским языкам, не имеющим близких родственников и образующим каждый свою отдельную группу, относятся албанский, армянский и греческий языки.
Народы, говорящие на этих языках, занимают сейчас огромные пространства на территории нескольких континентов. Индоевропейская семья — одна из самых больших в мире, и входящие в нее языки на редкость разнообразны. А ведь мы перечислили далеко не все из них. И совсем ничего не сказали о мертвых языках — например, о загадочном хеттском языке, тексты на котором на несколько веков древнее даже санскритских. Это самый древний из известных нам индоевропейских языков, а говорили на нем в Малой Азии, на территории современных Турции и Сирии, начиная по крайней мере с XVIII века до н. э.
Но есть еще много других языковых семей. Например, афразийская семья включает самые разные языки Северной Африки и Восточного Средиземноморья — от древнеегипетского до арабского, языков берберов Северной Африки и даже языка хауса, на котором говорят в самом сердце Тропической Африки — в Нигерии, Нигере и соседних странах. Большая алтайская семья языков включает группу тюркских языков (турецкий, татарский, казахский, киргизский, узбекский, чувашский и многие другие), распространенных по всей Азии — от Якутии до Турции, а также монгольский язык и, может быть, даже японский и корейский языки (хотя еще не все лингвисты с этим согласны).
Уральская семья языков включает две группы, из которых вам наверняка известны языки большой финно-угорской группы. В нее входят финский и венгерский языки (одни из немногочисленных не-индоевропейских языков Западной Европы); у финского языка есть много близких родственников, в числе которых прежде всего эстонский и карельский языки, а также саамский язык на самом севере Европы и языки народов, живущих по берегам Волги, Камы и Печоры, — марийский, мордовский, коми, удмуртский. А вот у венгерского языка родственники очень неожиданные. Это языки хантов и манси, живущих в Сибири, у реки Обь. Когда-то они с венграми составляли единый народ, да вот как далеко разошлись за два последних тысячелетия.
Но и это еще далеко не всё. Назовем только самые крупные языковые семьи мира. Народы, говорящие на языках австронезийской семьи, живут в Индонезии, на Филиппинах, на Мадагаскаре, на островах Полинезии в Тихом океане. Языки китайско-тибетской семьи распространены, как легко догадаться, в Китае и в горах Тибета (конечно, самый знаменитый из них — это китайский язык, превосходящий по числу говорящих все другие языки мира). Большинство населения Тропической Африки говорит на языках семьи нигер-конго (например, народы банту, населяющие почти всю территорию Африки к югу от экватора). А сколько еще разных языковых семей есть на Кавказе, в Сибири, в Южной и Северной Америке, в Австралии! Впрочем, на этом сейчас лучше поставить точку. Подробнее о языках разных континентов будет рассказано позже.
Так что, как видите, лингвисту есть чем заняться. До сих пор в некоторых труднодоступных уголках нашей планеты продолжают открывать новые, прежде никем не изучавшиеся языки.
Мы уже знаем, что языки мира, в общем, очень непохожи друг на друга. Но чем же всё-таки они отличаются? И как можно их сравнивать друг с другом?
Об этом мы поговорим во второй части нашей книги.
^
Глава третья. Разные языки разных людей
^
1. Язык и география
Раньше мы много говорили про изменение языка во времени. Но ведь каждый язык существует не только во времени, но и в пространстве. И если во времени язык меняется непрерывно, то и в пространстве он тоже не остается неизменным.
Мы часто отвлекаемся от этой разницы и говорим просто: русский язык, английский язык. Иногда добавляем: современный русский язык; русский язык XVIII века. Делая это, мы хотим подчеркнуть, что понимаем, как язык меняется с течением времени; и язык XVIII века хоть и называется тоже русским, но всё же не совсем тот, что современный. Русский язык в деревне под Москвой, в деревне под Рязанью и в деревне под Вологдой — это тоже не совсем один и тот же язык, а может быть даже — совсем не один и тот же. Английский язык в Австралии, в Индии и в Америке — тоже, можно сказать, разные языки, австралийцу и американцу не всегда будет просто понять друг друга при встрече. А если вы хорошо знаете немецкий язык и разговаривали с немцами, то, должно быть, вы знаете, как важно понять, откуда родом ваш собеседник: баварец из Мюнхена говорит совсем не так, как житель Берлина, а речь берлинца, в свою очередь, отличается от речи жителя приморского Гамбурга. Да, в общем-то, во всех тех языках мира, которые занимают сколько-нибудь обширное пространство, вы найдете мелкие, не очень мелкие или даже очень крупные отличия, свойственные языку в разных «точках» этого пространства.
Ничего удивительного в этом нет. Ведь даже в нашу эпоху жители одного города не так уж много общаются с жителями другого города, даже соседнего, не говоря о более отдаленных. А уж раньше, когда не существовало ни компьютеров, ни телефона, ни телеграфа, ни быстроходных машин и самолетов, ни радио с телевидением (совсем недавно, между прочим), — общение людей в разных частях даже единой страны, особенно живших в сельской местности, было очень ограниченным. Вот и получалось, что изменения, возникавшие на одном участке языка, отличались от изменений, возникавших на другом его участке.
Такие страны, как Германия и Италия, вплоть до XIX века состояли из множества мелких государств (часто это были просто отдельные города с прилегающими деревнями). Каждое государство жило своей замкнутой жизнью, и потому-то именно немецкий и итальянский языки в Новое время оказались наиболее «разнородными», как бы собранными из разных лоскутов. Поэтому было очень трудно определить, что же такое «стандартный», или литературный, немецкий или итальянский язык. Англичанам, французам, русским было проще: стандартный английский язык — это такой, как в Лондоне; стандартный французский — такой, как в Париже, ну а стандартный русский — конечно, такой, как в Москве. А как быть в стране, где совсем недавно не было единой столицы и где речь, например, жителей Рима кажется ничем не хуже и не лучше речи жителей других городов? В конце концов оказалось, что литературный итальянский язык больше всего похож на речь жителей Флоренции, а литературный немецкий — на речь жителей южной и особенно средней Германии; это объяснялось разными особенностями истории этих стран.
Мы привели этот пример для того, чтобы легче было понять: язык, неоднородный в пространстве, — такая же проблема, как и язык, неоднородный во времени.
Разные варианты одного и того же языка, распространенные в разных географических «точках», называют диалектами этого языка. Есть русские, немецкие, итальянские диалекты. Да, собственно, очень мало найдется в мире языков, у которых вообще диалектов нет. Может быть, такими будут только языки одного селения (как это бывает в горах Дагестана): тут уже диалекту взяться неоткуда. А если селений хотя бы два — пожалуйста. По крайней мере, в Дагестане, где так трудно добираться из одного горного аула в другой, в разных селениях обязательно будут говорить если не на разных языках, то уж точно на разных диалектах одного языка.
^
2. А чем язык отличается от диалекта?
Действительно, чем? Почему мы говорим, что в Вологде — вологодский диалект русского языка, а не вологодский язык? Почему итальянцы говорят про сицилийский диалект итальянского, а не про сицилийский язык? Ведь они же разные!
Вы можете сказать, что они не такие уж разные. Ведь москвич понимает вологодца, а миланец — сицилийца.
Ну, во-первых, понимать-то понимает, да только не всегда так уж хорошо. А во-вторых, русские и белорусов тоже понимают не хуже, и даже поляков — не так уж плохо. А белорусский и тем более польский — конечно, отдельные языки, а не русские диалекты.
А с другой стороны, бывает, например, так, как в Китае. Там тоже есть диалекты китайского языка. Но когда житель Пекина слышит речь уроженца китайского юга — он может вообще не понять в ней ни слова. А всё равно мы говорим о диалектах.
Зато датчане прекрасно понимают язык норвежцев. И норвежские газеты могут читать почти так же свободно, как свои, датские. Однако никто почему-то не называет норвежский язык — диалектом датского или наоборот. А в Китае никто не говорит о «пекинском языке».
Почему? Вы, наверное, скажете на это: да очень просто! Все китайцы живут в одной стране и все русские в одной стране — вот у них поэтому и язык один и тот же. А датчане с норвежцами, русские с поляками — в разных странах. Значит, и языки у них считаются разными.
Очень хорошо. Предположим, вы правы (доля правды в таком утверждении действительно есть). Но скажите тогда, почему австрийцы, живущие в Австрии, говорят на австрийском диалекте немецкого языка, а не на австрийском языке? А бразильцы в Бразилии — на бразильском диалекте португальского (или, как иногда говорят, на «бразильском варианте» португальского), но уж никак не на особом бразильском языке? Тем более не существует ни австралийского, ни канадского, ни американского, ни прочих отдельных языков, а есть только разновидности английского языка во всех этих странах.
Не правда ли, найти простой ответ не удается? Отчасти, конечно, потому, что названия язык и диалект употребляются не всегда последовательно. Но главным образом потому, что эти названия в общем случае не имеют прямого отношения к степени лингвистической близости и вообще ни к каким «внешним» данным. Отличие языка от диалекта нельзя измерить никаким прибором. Когда лингвисты решают, как называть речь жителей определенной местности — отдельным языком или диалектом другого языка, — они опираются прежде всего на то, что жители этой местности сами думают о своем языке.
У диалекта есть два главных признака. Во-первых, все диалекты некоторого языка, конечно, должны быть лингвистически (близко родственны друг другу (вспомните, что вы читали о родственных языках в первых двух главах). На севере России встречаются деревни, в которых живут русские и карелы. Русский и карельский язык много столетий сосуществуют друг с другом как соседи, но мы никогда не скажем, что русский и карельский — диалекты одного языка. Русский язык относится к славянским, а карельский — к финно-угорским языкам (еще раз загляните во вторую главу!), и это исключает всякую возможность считать их диалектами друг друга.
Во-вторых, диалект всегда используется говорящими не так, как «полноправный» (или «стандартный», или «литературный») язык. Если вы говорите на литературном языке, то вы можете использовать его в любой ситуации: и дома, и разговаривая с друзьями, и в школе, и на работе; тот же язык звучит по радио, используется в книгах и газетах, и т. д. В своей стране, в своем «доме» у литературного языка, как правило, нет конкурентов: этот язык может (и должен) использоваться везде, в любой сфере. (Впрочем, из этого правила бывают некоторые интересные исключения — о них мы подробнее расскажем немного позже. Но обычно дело обстоит именно так.) Иначе используется диалект: на нем не издают газет и обычно вообще не пишут (а если начинают писать, значит, это уже, так сказать, не совсем диалект), на нем не говорят по радио (по крайней мере, обычно не говорят дикторы радио), на нем вообще редко говорят за пределами своего дома, своего села, своей местности; при этом на диалекте говорят друг с другом только жители этой местности и только когда они считают, что идет разговор «между своими». «С чужими» или «в официальной ситуации» (назовем это так) использование диалекта сразу становится невозможно. А использование литературного языка возможно всегда. Не правда ли, отношения между диалектом и литературным языком не симметричны: одному позволено всё, а другому достается только ограниченная область применения? Лингвисты так часто и называют это явление — функциональная асимметричность (то есть неравноправие функций, сфер применения).
Итак, чтобы речь жителей какой-то местности называлась, например, диалектом немецкого языка, нужно, чтобы она:
— была ближайшим образом родственна литературному немецкому языку (а это, кстати, совсем не значит, как вы помните, что она всегда будет очень похожа на немецкий язык!);
— использовалась только как речь «среди своих», а в остальных случаях уступала место литературному немецкому.
Обычно говорящие хорошо осознают такое положение дел. И поэтому, например, баварцы на вопрос о том, на каком, собственно, языке они говорят, без колебаний ответят: конечно, на немецком. Это последняя, но очень важная особенность диалекта: говорящие на нем часто как бы «не замечают», что их диалект не совпадает с литературным языком. Жители Баварии считают себя немцами, хотя речь жителей Баварии отличается от речи жителей Берлина куда больше, чем речь норвежца от речи датчанина. Но норвежцы не считают себя датчанами, и норвежский язык используется в Норвегии абсолютно везде — от книг и газет до школьных дворов.
Это очень важная разница: что люди думают о своем языке, как они его оценивают. И лингвисты, употребляя термин диалект, стремятся эту разницу учитывать. Поэтому таким запутанным кажется на первый взгляд отношение между языками и диалектами в разных странах.
^
3. Судьбы диалектов
Образование диалектов — своего рода промежуточный этап на пути от единого языка к группе родственных. Раньше мы много рассуждали о том, как из одного языка-предка может получиться несколько языков-потомков. Но такой распад языка не происходит внезапно. Он уже во многом подготовлен тем, что и до распада язык обычно неоднороден: в разных точках своего распространения он имеет разные варианты.
Таким образом, можно было бы считать, что диалект — это будущий самостоятельный язык (или пока еще не полностью выделившийся самостоятельный язык). Однако здесь многое зависит от исторических обстоятельств. На самом деле диалекту далеко не всегда «удается» стать полноправным языком. Причина этого — в той неполной самостоятельности, функциональной ущербности диалекта, о которой уже шла речь.
Диалект нередко оценивается говорящими на нем (а тем более не говорящими на нем) как речь в какой-то степени неполноценная, вторичная по отношению к «правильной». На самом деле это, конечно, не так: мы уже говорили, что в языке бывают только изменения от одной системы к другой, а не изменения от «плохой» системы к «хорошей» или наоборот. Но так уж устроен человек, что, поскольку он находит где-то в мире (например, в поступках других людей) «плохое» и «хорошее», «правильное» и «неправильное», ему хочется то же самое находить и в языке. Диалект, конечно, не «лучше» и не «хуже» литературного языка. Но он функционально ограничен, и это ему мешает.
Люди, когда они много общаются друг с другом, стремятся всё же обходиться единым языком: это гораздо удобнее. Поэтому языки дробятся сильнее в те эпохи, когда общение между людьми становится более слабым; а в те эпохи, когда связи между людьми в разных местах усиливаются, дробление языков замедляется. Изменение языка невозможно остановить полностью, так как изменяться — это глубинное свойство всякого живого языка; но изменение и распад языков можно сильно замедлить. Периоды разделений и ускоренных изменений чередуются в истории языков (и народов) с периодами объединений и замедленных изменений.
Например, лингвисты и историки сейчас думают, что после образования Русского государства (IX–XII века) диалектов на его территории постепенно становилось меньше и они становились более похожими друг на друга. Это была «объединительная» эпоха. К концу ее язык на территории Русского государства стал более однородным. Да и сейчас, надо сказать, современный русский язык на удивление однороден — особенно если подумать о том, на какой большой территории он распространен. Русские диалекты по степени отдаленности от литературного языка нельзя даже сравнивать с итальянскими или немецкими — этими европейскими «рекордсменами» по части разнородности и раздробленности.
Вместе с тем и в истории Русского государства были периоды большей раздробленности. Самый значительный из них наступил после монгольского нашествия и последовавших за ним изменений в судьбе самых разных народов и государств. Именно в это время (XIII–XIV века) окончательно оформилось новое разделение объединенного и «выровненного» до этого языка — на русский, украинский и белорусский. Большинство современных русских диалектов начали формироваться тогда же. А древние диалекты, существовавшие до «объединительной» эпохи, успели к тому времени исчезнуть. Например, в Новгороде в древности говорили на таком языке, который отличался от соседних гораздо сильнее, чем современные новгородские диалекты отличаются, например, от современных среднерусских. Это стало ясно после исследований новгородских берестяных грамот, сохранивших для нас множество образцов подлинной речи людей двенадцатого и последующих веков.
При образовании единого государства различия между диалектами на его территории всегда сглаживаются. Образуется единый язык, как часто говорят, наддиалектная норма. Но при распаде государства прежние различия могут ожить и дать начало нескольким разным родственным языкам. Здесь почти всё зависит не от языка, а от условий, в которых он развивается.
Интересно, к какому периоду ближе всего наша современная эпоха? Наверное, всё же она больше похожа на период объединения: слишком многое сейчас помогает разным людям поддерживать друг с другом контакт, даже если они сами к этому не очень стремятся. Впрочем, на этот вопрос мы сможем с уверенностью ответить только лет через двести.
^
4. Социолингвистика
До сих пор мы говорили о языках и государствах, как если бы дело всегда обстояло так: в одном государстве — только один язык (не считая его диалектов, конечно). Но такого почти никогда не бывает. На одной и той же территории обычно «сосуществуют» (причем, к сожалению, далеко не всегда мирно) много десятков разных языков. И в их сосуществовании, в их влиянии друг на друга тоже есть определенные закономерности. Их изучает особая отрасль лингвистики — социолингвистика. Вы помните, что современная лингвистика очень молодая наука: современным методам изучения родства языков — чуть более двухсот лет, изучения грамматики языков — немногим менее ста (конечно, не надо забывать, что и в прошлом — например, в античности или в Древней Индии — возникали замечательные догадки об устройстве языка). Но социолингвистика — еще моложе: пристально изучать влияние языков друг на друга лингвисты стали всего около сорока лет назад (хотя, конечно, и здесь у них были предшественники — ведь в науке почти ничего не возникает «на пустом месте»).
В сущности, социолингвистика возникла из нескольких очень простых (на первый взгляд) вопросов.
Вспомним наш придуманный эндорский язык. Мы можем изучать его структуру, его грамматику. Мы можем написать о том, что нам удалось узнать, целую книгу, и она так и будет называться: «Грамматика эндорского языка». Мы можем сравнивать грамматику этого языка с грамматиками других языков. (Об этом мы еще будем говорить во второй части книги.) Это значит, что мы займемся «обычной» лингвистикой (ее еще иногда называют внутренней лингвистикой — наверное, потому, что она изучает язык как бы «изнутри», его скрытые пружины, внутреннее устройство). Мы можем, кроме того, пытаться выяснить, есть ли у нашего языка родственники, в какую группу и семью он входит, как давно он отделился и начал существовать как самостоятельный язык. Всё это будет значить, что мы занимаемся исторической лингвистикой (или сравнительной — потому что мы сравниваем историю разных языков; впрочем, чаще всего такую лингвистику называют на всякий случай сразу сравнительно-исторической). О проблемах исторической лингвистики мы говорили в первой и второй главах.
Но мы можем пытаться ответить и на другие вопросы. Где, в каких странах и областях говорят на этом языке? Есть ли у этого языка письменность и как давно она возникла? Говорят ли люди, владеющие этим языком, еще и на других языках? Если да, то когда и с кем они говорят на каждом из этих языков? Наконец, все ли говорящие на этом языке говорят на нем одинаково: мужчины и женщины, молодые и старики, люди разных профессий и занятий? Вот это и будет значить, что мы занимаемся социолингвистикой. Мы изучаем язык не «изнутри» и не с точки зрения его истории и структуры, а, так сказать, «извне». Мы задаем про этот язык много вопросов и выясняем всё, что нам известно о «поведении» этого языка в мире людей.
Конечно, это совсем не то, что выяснять, как в этом языке спрягаются глаголы и склоняются существительные. Но «внешние», социолингвистические сведения тоже могут быть очень важными и интересными. Правда, с их помощью нельзя выучить язык. Но, зная их, можно научиться правильно использовать язык — то есть в нужное время, в нужном месте и в нужной форме. А иначе вас поймут совсем не так, как вы хотели. И в лучшем случае будут смеяться — как, например, в такой истории, которую я слышал от своих друзей-лингвистов.
Один иностранный профессор приехал в Россию. Он был специалистом по русскому языку и знал русский язык очень хорошо. Он знал даже такие слова, которые еще не успели попасть в словари. Однажды, войдя в комнату, он спросил: «А у вас тут смолить можно?» Он имел в виду — не разрешат ли ему закурить. Конечно, среди говорящих по-русски некоторые люди в некоторых ситуациях говорят смолить вместо курить. Но совсем не тогда и не так, как наш иностранный профессор. Он не учел как раз социолингвистических сведений: с кем и в какой ситуации можно и нужно употребить данное слово. И не понял, почему все начали смеяться после его вопроса. Конечно, потом ему объяснили его ошибку, и, поскольку он был всё-таки хороший лингвист, он сразу всё запомнил и больше уже не просил разрешения немного посмолить.
^
5. Государства и их языки
Для нас в первую очередь интересен тот случай, когда в одном государстве используется несколько разных языков. Таких многоязычных государств в современном мире очень много, но их было много и в прошлом. Почему так происходит? Причин несколько.
Во-первых, в одном государстве могут просто жить много разных народов. И это относится не только к большим или очень большим государствам, которые всегда многонациональны (как Россия, Индия, Канада, Бразилия), — даже в маленьких странах часто живут несколько народов. В Бельгии живут валлоны, говорящие по-французски, и фламандцы, говорящие по-нидерландски. В Испании — кроме, конечно, испанцев — живут еще галисийцы (говорящие на галисийском языке, близком к португальскому), каталонцы (говорящие на каталанском языке, который тоже относится к романской группе и немного похож на французский) и баски (язык которых не похож ни на один из известных науке). В Финляндии, кроме финнов, живут шведы (ведь еще двести лет назад Финляндией управляли шведские короли) и саамы (саамский язык родствен финскому, но довольно сильно от него отличается; больше всего саамов — их еще называют лопарями или лапландцами — живет в Норвегии; есть они и в Швеции, и на севере России, на Кольском полуострове). А вот в маленькой Швейцарии (которая возникла в XIII–XIV веках как объединение нескольких независимых областей — кантонов) говорят даже на четырех языках: немецком (большинство населения), французском, итальянском и ретороманском (этот язык близок к итальянскому, небольшое число говорящих на нем живут в Швейцарии и на севере Италии). На швейцарских деньгах, например, обязательно делают надписи на всех четырех языках, но в «общегосударственной» жизни самым употребительным из этих четырех языков остается всё же немецкий. Правда, тот немецкий диалект, на котором говорят в швейцарских кантонах, отличается от литературного немецкого языка гораздо больше, чем, например, нидерландский, который считается самостоятельным языком (вот и еще один случай, когда разные языки ближе друг к другу, чем диалекты одного и того же языка). Но если вы знаете немецкий, не отчаивайтесь: в Швейцарии вас поймут. Литературный немецкий там изучают в школах, на нем пишут в книгах и газетах. Правда, в швейцарской деревне вам всё равно придется трудновато.
Государственные границы часто разделяют единый народ, и люди, говорящие на одном языке, оказываются жителями разных стран. Именно так обстоит дело с саамами, о которых мы только что говорили; а баски живут не только в Испании, но и во Франции.
Даже если народ имеет свое государство, большие группы говорящих на том же языке людей нередко оказываются за его пределами — уж очень сложной была история многих стран и народов. Например, венгры живут не только в Венгрии, но и в Румынии, на Украине (в Закарпатье), в Словакии; итальянцы (говорящие на разных диалектах итальянского языка) — живут не только в Италии, но и в Австрии, Швейцарии, на принадлежащем Франции острове Корсика. (Этот остров, наверное, более всего известен тем, что на нем родился император Наполеон Бонапарт; мы привыкли произносить его имя и фамилию на французский лад, а на самом деле фамилия его итальянская и звали его по-итальянски так; Наполеоне Буонапарте.) Раньше почти во всех многонациональных государствах в общественной жизни использовался только один язык — или самого многочисленного народа, или народа-завоевателя; проще говоря, язык правителя и был языком государства. В современном мире положение постепенно меняется, и многие государства стремятся обеспечить равные возможности для языков всех своих народов. Например, в Финляндии двести лет назад основным языком был шведский (хотя основным населением были финны); теперь же, когда Финляндия стала независимой страной, там два государственных языка: финский и шведский. Если вам когда-нибудь попадется упаковка от товара, изготовленного в Финляндии, обратите внимание на надписи на ней: они обязательно будут на двух языках — финском и шведском. (А знаете, как отличить надписи на этих языках друг от друга? В финском больше длинных слов и часто попадаются двойные гласные — аа, уу и т. п.; а в шведском больше коротких слов и еще есть особая буква å, которая не употребляется в финском.)
Но несколько разных языков могут использоваться не только в многонациональных государствах. Бывает так, что в стране государственным оказывается такой язык, который вообще не является родным ни для кого из коренных жителей этой страны. И бывает это не так уж редко. В чем здесь дело? Обычно такие страны в недавнем прошлом были колониями, и язык бывших правителей остался им как бы «в наследство» — в Индии, Нигерии, Кении продолжают пользоваться английским, а на Мадагаскаре или в Сенегале — французским, хотя англичане и французы уже несколько десятилетий не управляют этими странами.
А почему же английский и французский языки остались в этих странах государственными? На то было несколько причин. Во-первых, местные языки этих стран часто не имели письменности, не было традиции использовать эти языки для создания всего того, что люди обычно закрепляют на бумаге: законов, правил, новостей повседневной жизни (в газетах), научных открытий и гипотез (в научных журналах и книгах), наконец, художественного вымысла (в произведениях литературы). Такая традиция создается постепенно, а пока ее нет, приходится обходиться другими языками, где уже есть в готовом виде нужные слова и выражения, которые приспособлены ко всем этим задачам. В принципе к этому можно приспособить любой язык — ведь любую мысль можно выразить на любом языке, но для этого надо, чтобы все говорящие на этом языке привыкли к новым словам и понятиям и стали ими свободно пользоваться, а это тоже не происходит быстро. Когда-то и английский, и французский языки находились примерно в таком же состоянии, как многие современные языки Африки или Азии. Лет шестьсот-семьсот назад образованные люди в Европе были абсолютно уверены, что ученые, юристы, поэты могут писать только на латинском языке, поскольку их родные языки для этого «не приспособлены». Пригодность французского или английского языка для науки или художественной литературы приходилось долгое время доказывать в ожесточенных спорах (не правда ли, теперь нам это кажется довольно странным?) — и те же споры вновь приходится слышать уже в наше время, например, в молодых государствах Африки.
Есть еще одна причина, которая затрудняет переход на местные языки в этих странах. Местных языков в большинстве из этих стран слишком много: десятки и даже сотни (как, например, в Нигерии или в Индии: в Индии это, пожалуй, основная проблема, так как там многие местные языки как раз имели свою письменность, причем очень древнюю). Сделать государственными все сразу — невозможно (по крайней мере пока); сделать только два или три — значит вызвать обиды со стороны других народов. Вот и остается государственным «ничей» английский или французский язык — он для всех чужой, и поэтому никому не обидно.
^
6. Вверх и вниз по ступенькам
Мы видим, что для оценки места языка в обществе очень важно, какие функции он может выполнять. Самый ограниченный набор функций — у «домашних» языков, на которых можно говорить только дома, в семье, в своей деревне, среди своих. На них уже нельзя объясниться даже в соседнем городе (потому что там люди говорят на других языках) и, конечно, нельзя ни писать, ни читать. Диалекты, о которых мы говорили в начале этой главы, по своим функциям — тоже своего рода «домашние» языки.
Поднимемся на одну ступеньку выше — и найдем там языки «уличные» (их еще иногда называют «региональными»). Это языки, на которых говорят уже целые большие области; приехав в город из деревни, на таком языке вполне можно объясняться. Но за пределами «своей» области этот язык уже мало кто понимает; обычно (хотя и не всегда) на таком языке только говорят, но не пишут или пишут очень мало.
И только на последней, самой верхней ступеньке находятся языки, которые способны к любому использованию: на них можно объясняться в любом месте своей страны (а нередко и в чужой стране), на них можно писать и рассуждать о чем угодно, издавать книги и журналы — и так далее. Это национальные и государственные языки, языки, как говорят лингвисты, «функционально развитые».
Языку не так-то легко подняться на самую высокую ступеньку функционального развития (хотя любой язык по своей природе к этому, безусловно, способен). Иногда для этого требуются не годы и не десятилетия, а века. Люди часто предпочитают использовать пусть и чужой, но уже «развитый» язык, чем развивать свой собственный. Так было с латинским языком в средневековой Европе. Так теперь происходит с английским и французским языком в бывших колониях.
А как обстояло дело с использованием русского языка? Оказывается, и русский язык часто в своей истории уступал место другим языкам, в ту эпоху функционально более развитым.
Славяне получили письменность (вместе с христианством) от греков, из Византии, которая в ту пору была могущественным государством, наследницей Римской империи на Востоке. Вначале письменность получили южные славяне, предки современных болгар и македонцев. Их язык называют старославянским — это самый древний из известных нам по письменным памятникам славянский язык (если помните, мы немного говорили о нем в первой главе). Это язык первых переводов Нового Завета и других христианских книг, которые были сделаны Кириллом и Мефодием и их учениками, жившими приблизительно в районе современной северной Греции; язык, на котором они писали, был более близок к древнеболгарскому языку, чем к древнерусскому. Например, слова, которые у древних болгар (как и у других южных славян) звучали приблизительно как брег, влас, град, ношть, прах, у древних русских (и у других восточных славян) звучали приблизительно как берег, волос, город, ночь, порох — и т. п. Из старославянского языка в русский попали такие слова, как время, глагол, гражданин, мощь, награда, пещера, храм, — и многие десятки других. Как видите, старославянский язык был и похож, и не похож на тот язык, на котором говорили восточные славяне от Новгорода до Киева (язык этот теперь называют древнерусским). Достаточно похож, чтобы легко стать литературным языком Древней Руси, быстро подняться на самую верхнюю ступеньку. Не на древнерусском, а на старославянском языке было принято и молиться, и, например, писать летописи, на него переводили с греческого языка важные книги. Вообще, чаще всего писали именно на нем, хотя по-древнерусски предпочитали писать многие «деловые» документы: судебные решения, описи имущества и т. п. Конечно, старославянский язык очень сильно влиял на древнерусский. Можно даже утверждать, что тот современный русский язык, на котором мы говорим (и особенно пишем), — это смешанный язык, это, так сказать, сплав двух родственных языков: он возник из древнерусского, но подвергся мощному южнославянскому влиянию. Достаточно сказать, что, например, все окончания русских причастий на — щий — старославянские по своему происхождению: формы типа бегущий или горящий на самом деле — заимствования. Собственно русские формы — это нынешние прилагательные типа бегучий или горячий, в современном языке в целом довольно редкие.
Таким образом, в древнерусском государстве на самой верхней ступеньке стоял старославянский язык. Древнерусский язык какое-то время стоял на одну ступеньку ниже. А вот начиная с XVIII века в России на верхнюю ступеньку забирается… французский язык. В ту пору Франция была одним из самых влиятельных государств Европы. Постепенно сложилось так, что образованные люди в России стали предпочитать писать и говорить друг с другом по-французски; во многих дворянских домах по-русски обращались только к слугам. Это постоянное присутствие французского языка в русском «высшем обществе» хорошо передал Лев Толстой в романе «Война и мир»: там есть целые страницы, где герои говорят друг с другом по-французски. Положение постепенно изменилось лишь к середине XIX века; к тому времени — после Пушкина, Лермонтова, Гоголя — уже, бесспорно, существовал русский литературный язык (собственно, он начал складываться еще в XVII веке). Но многие письма Пушкина написаны по-французски, и даже планы своих будущих произведений он иногда писал по-французски — наверное, так ему легче было думать. А вот что Пушкин пишет про Татьяну в «Евгении Онегине»:
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И изъяснялася с трудом
На языке своем родном.
Это можно было сказать про многих русских дворян той эпохи.
В истории очень многих стран были периоды, когда на самой верхней ступеньке находился какой-нибудь чужой язык. Помните, что было рассказано в первых главах про историю английского языка? Несколько веков высшие слои английского общества говорили на старофранцузском языке. В Венгрии несколько веков говорили по-немецки, а, например, в древней Польше… по-чешски (потому что чешские короли были в ту эпоху очень могущественными и польские земли от них зависели). Для многих стран Востока «верхним» языком долгое время был арабский. Конечно, в языках сохраняются следы такого положения — прежде всего в виде многочисленных заимствований. Ведь заимствуются чаще всего слова в направлении «сверху вниз» — из языка, стоящего на верхней ступеньке, в языки, стоящие на нижних ступеньках. Это не значит, правда, что не бывает других заимствований — например, заимствований «снизу вверх» или из социолингвистически равноправных языков — друг в друга. Но заимствований «сверху вниз» всё-таки больше.
^
7. Диглоссия и билингвизм
В заголовке этого раздела — два лингвистических термина. Оба они имеют одинаковое значение: «двуязычие». Только первое слово составлено из греческих корней, а второе — из латинских.
Два разных слова специально придуманы потому, что двуязычие может быть разным. Это — одно из первых открытий, которое сделала социолингвистика. Бывают двуязычные люди, а бывают — двуязычные государства, которые ведут себя совсем не так, как люди. Потому-то и понадобились два разных слова. Кстати, и люди, и государства бывают не только двуязычными, но, как мы уже знаем, и трехъязычными, и даже, может быть, сорокаязычными. Но мы будем для простоты говорить пока только о двуязычии: этот случай самый наглядный.
Диглоссия — это состояние, которое может быть только в двуязычном государстве (при этом — еще далеко не во всяком двуязычном государстве!); оно тоже связано с функциональным неравенством языков. При диглоссии язык, стоящий на самой верхней ступеньке, не пускает наверх другой, «нижний» язык. Образуются целые зоны, в которых можно использовать только «верхний» язык. Например, писать на нем. Или обращаться к правителю этой страны. Или молиться. Или петь песни… Не так важно, какая это будет зона. Важно, что один из языков не пускает в нее другой.
Диглоссия была в древнерусском государстве; была она и в Российской империи XVIII и начала XIX века (какие языки участвовали в этом, вы уже можете сказать сами). Диглоссия, конечно, была и в Англии после нормандского завоевания, и в средневековой Европе. А вот, скажем, в современной Бельгии диглоссии нет, несмотря на то что в этом государстве тоже два языка — французский и нидерландский (фламандский). Просто в одних районах Бельгии предпочитают говорить по-французски, а в других — по-фламандски. Но эти языки функционально, в общем, равноправны: читать и писать можно и на том, и на другом, слушать лекции в университете — тоже (правда, «французские» и «фламандские» университеты обычно находятся в разных городах Бельгии), разговаривать с полицейскими, выступать в парламенте и так далее. Нет такой области жизни, куда французский язык «не пускал бы» фламандский — и наоборот.
В отличие от диглоссии билингвизмом называется двуязычие отдельного человека, такого, как мы с вами. Если человек одинаково хорошо владеет двумя языками, он называется билингвом. Правда, заслужить это название не так просто. Если, например, вы выучите английский язык (пусть даже очень-очень хорошо) — вас всё равно билингвом не назовут. И дело не в том, что вы говорите по-английски хуже, чем англичане, американцы, австралийцы или канадцы. Дело в том, что быть билингвом — это значит постоянно пользоваться обоими языками в повседневной жизни. Например, дома говорить на одном языке, а на улице, в магазине, на работе — на другом. И при этом легко, без затруднений переходить с одного языка на другой, часто даже не замечая этого перехода.
Билингвом трудно стать взрослому человеку, если до этого он жил в одноязычной стране. Билингвом лучше всего — родиться. Вернемся опять в Бельгию и представим себе, что у вас отец — француз (точнее, валлон — вы помните, что именно так называются бельгийцы, говорящие по-французски), а мать — фламандка. Тогда с самого рождения в доме будут звучать два языка и ребенок привыкнет обращаться к отцу на одном языке, а к матери — на другом. И во дворе он будет играть с детьми, которые говорят то по-французски, то по-фламандски. Так он и привыкнет постоянно пользоваться двумя языками сразу — и вырастет настоящим билингвом. Но, конечно, те, кто родились в обычной фламандской семье, где-нибудь на севере Бельгии, билингвами не будут: они всё равно научатся говорить по-французски, для любого бельгийца это обязательно, но будут пользоваться им гораздо реже и знать его не так хорошо.
Многие образованные африканцы, живущие в городах, тоже билингвы: дома они обычно говорят на своем местном языке, а на работе (особенно если это государственная служба) — пользуются французским или английским. Да и с детьми, например, они могут говорить то на своем языке, то на английском, так что дети тоже почти с самого рождения привыкают свободно переходить с одного языка на другой. А вот в африканской деревне, где большинство жителей пока еще не умеют ни читать, ни писать, такого билингвизма, конечно, не будет. Правда, не надо забывать, что ребенок, родившийся в африканской деревне, может свободно говорить на трех-четырех местных языках; мы уже обсуждали раньше, как это бывает.
Теперь, когда вы уже немного разбираетесь в проблемах двуязычия, я хотел бы, чтобы вы попробовали ответить на такой вопрос: в государстве с диглоссией — все ли люди билингвы? Это совсем не простой вопрос, поэтому не торопитесь отвечать сразу «да». Казалось бы, раз диглоссия требует от человека непременного знания одного языка для одних занятий и другого языка — для других занятий, то все люди должны быть в такой стране двуязычными. И всё-таки на самом деле это не так. Потому-то, в частности, и понадобились лингвистам два разных слова, что диглоссия в государстве не обязательно предполагает билингвизм всех его жителей. А дело здесь в том, что круг занятий у каждого человека ограниченный. И можно прожить всю жизнь, ни разу не испытав потребности проникнуть в те области, где командует «второй» язык. Это было особенно заметно в средневековых государствах, где люди более резко делились на сословия и группы и даже по одежде можно было сразу отличить крестьянина от купца, солдата от придворного, шута от лекаря. Государство с диглоссией немного напоминает слоеный пирог: одни занятия внизу, в одном слое, другие — наверху, в другом слое. Но жители этого государства не обязательно помещаются одновременно в двух слоях: можно спрятаться в нижнем слое и не подниматься наверх, можно расположиться в верхнем и не спускаться вниз. Вспомните к тому же, что диглоссия часто связана с письменным языком, то есть языком, на котором пишут, — а ведь грамотных людей раньше было не так уж много. Вот и получается, что древнерусские крестьяне могли почти совсем не пользоваться старославянским языком, а древнеанглийские крестьяне (их называли йоменами — вы должны знать это слово, если читали книги про Робин Гуда или романы Вальтера Скотта), как правило, имели очень отдаленное представление о французском языке. И наоборот, нормандские бароны-завоеватели часто даже не считали нужным знать английский язык: пусть слуги понимают их французскую речь, это казалось им вполне достаточным.
^
8. Мы говорим на разных языках…
Если я долго убеждаю другого человека в чем-то для меня важном, а он со мной не соглашается, я могу сказать ему в конце концов: «Мы с тобой говорим на разных языках». Хотя мы оба говорим по-русски. Но вы уже знаете, что русский язык (как и любой другой) бывает разным: он разный в разных точках пространства. А в одной «точке» — например, в одном и том же городе? Все ли его жители говорят одинаково? А вы и ваши друзья? Вы и ваши родители? Вы и ваши дети?
А может быть, каждый из нас говорит на своем особом языке? Но тогда как же мы понимаем друг друга?
Оказывается, что все мы действительно говорим на разных языках. Речь каждого из нас имеет особые, неповторимые признаки. Но различия эти не настолько велики, чтобы мешать нам понимать друг друга, — зато они вполне достаточны для того, чтобы узнавать друг друга так же, как мы узнаем близких людей по голосу или по походке. Лингвисты не очень любят обращать внимание на такие различия — они им обычно мешают, поэтому лингвисты делают вид, что их нет.
Конечно, когда мы пишем «Грамматику эндорского языка», придуманного нами, нам совершенно необходимо сделать вид, что все эндорцы говорят одинаково, — иначе никакой грамматики у нас не получится. Не можем же мы написать столько грамматик, сколько есть на свете эндорцев. Да и если бы даже могли, то все эти грамматики получились бы очень похожими друг на друга, а иностранцы не знали бы, какую из них им читать, чтобы лучше научиться говорить по-эндорски.
Но сейчас мы с вами говорим не о грамматике, а о социолингвистике. Поэтому мы имеем полное право думать о различиях внутри одного языка — это ведь и есть главный предмет социолингвистики.
Представьте себе, что вам объясняют, как найти дорогу в незнакомом месте. Вам долго объясняли, а потом спросили: «Ну как, доберетесь?» Что бы вы ответили в таком случае (если вы считаете, что поняли объяснение и что найти дорогу будет не так уж трудно)?
Обычно человек, говорящий по-русски, скажет в таком случае что-то вроде: «Конечно», «Разумеется», «Естественно». Это самые обычные, как говорят лингвисты, нейтральные ответы: их можно ожидать практически от любого говорящего. Но этими ответами еще далеко не исчерпывается список того, что можно услышать. Например, можно услышать: «Натурально», «Спрашиваешь!», «Ясное дело». Это ответы тоже довольно распространенные, но встретиться они могли бы уже не во всяком разговоре. Скорее всего так ответит молодой человек своему сверстнику. Напротив, от людей постарше мы бы ожидали услышать что-то вроде: «Не сомневайтесь» или «Непременно». Молодые люди так теперь, пожалуй, не говорят.
Все эти ответы по-прежнему характерны для многих людей (хотя уже и не для всех). Но вы хорошо знаете, что почти у каждого из нас есть какие-то свои любимые словечки; иногда они бывают общими для небольшой компании друзей и не употребляются другими людьми — пусть даже того же возраста, той же профессии и так далее. Например, мне рассказывали про одну компанию, в которой было принято говорить не «Ясное дело», а «Ясная поляна». Может быть, в первый раз кто-то так пошутил, но постепенно этот ответ просто вошел в привычку и стал уже не шуткой, а скорее отличительным знаком этой компании. А еще есть такой вариант: «Ясный перец». Вы не слышали?
Подходя у себя дома к телефону, мы говорим «Алло!» (чаще всего), иногда — «Слушаю» или просто «Да». Но у меня был один знакомый, который неизменно снимал трубку со словами «Крылов у аппарата!». Потом, правда, это у него прошло.
Всё это — и многое другое, конечно, — образует то, что называется индивидуальными речевыми различиями. То, что отличает речь каждого отдельного человека от речи всех других людей, говорящих на том же языке.
Индивидуальные особенности речи легко запоминаются: человека можно, как мы уже говорили, узнавать по ним, можно пытаться копировать, передразнивать и так далее. Это особенности, которые бывают очень важны для психологов, для актеров или для писателей: для всех тех, чья профессия связана с человеческой личностью.
Но лингвисты интересуются не столько отдельными личностями и их причудами (хотя, конечно, и это может иметь значение), сколько тем, что можно было бы считать закономерностью. То есть особенностями речи не столько отдельных людей, сколько групп людей. Речь разных групп лингвисты изучают много и охотно и даже придумали для нее специальное название. Если это язык замкнутой группы людей, объединенных общими внешними признаками (например, профессией), то обычно его называют жаргоном.
^
9. Речь разных групп людей. Жаргоны
Раньше нам приходилось много рассуждать о том, как различия языков мешают людям общаться и как люди стремятся преодолевать эти различия. Это — одно из основных желаний человека: чтобы его понимали.
Однако бывает у человека, оказывается, и другое желание, полностью противоположное: чтобы его не понимали. Кто не должен понимать? Конечно же, «чужие», «враги». А как быть, если «чужие» говорят на том же самом языке? Выход один — надо изобрести особый язык, понятный только «своим». На этом языке можно будет разговаривать о самом важном, о самом тайном — о «своем», о том, что «чужим» не положено знать.
Из этого желания и рождаются особые языки отдельных групп — жаргоны. Языки, которые не положено знать всем тем, кому не положено. Обычно жаргон не отличается от «большого» языка по грамматике, зато отдельные слова в нем совсем не похожи на слова «большого» языка. Они могут заимствоваться из других языков (из одного или сразу из нескольких), могут браться из «большого» языка, но в измененном значении, могут (реже) — специально переделываться из слов большого языка. В жаргоне может быть немного собственных слов (только для самых важных понятий, о которых и идет обычно речь между «своими»), но может быть и так, что почти все слова в нем отличаются от слов «обычного» языка. Тогда это уже скорее не жаргон, а особенный тайный язык. Такие тайные языки были широко распространены в Средние века, когда разные группы людей вообще, как вы помните, сильнее отличались друг от друга.
Самые известные жаргоны — воровские, преступные: эта группа людей всегда была больше других заинтересована в том, чтобы не быть понятой «чужими». Есть такие жаргоны и сейчас. Раньше, кроме того, у разных преступников были разные жаргоны: например, особым был жаргон карточных шулеров (выражение втирать очки пришло в русский язык именно оттуда: если незаметно втереть очки, например, в шестерку — ее можно превратить в восьмерку или десятку). В современном русском языке, особенно в нашу эпоху, прижилось немало слов и выражений из языка преступного мира; теперь они стали понятны практически всем говорящим по-русски. Это катить бочку («несправедливо обвинять»), стоять на стреме («на страже»), стучать (в значении «доносить»), раскалываться (в значении «признаваться»), тусовка («сборище „своих“; компания») и многие, многие другие.
Другая известная группа жаргонов — профессиональные. Они касаются прежде всего той области, с которой имеют дело люди одной профессии (бывает жаргон моряков, солдат, торговцев и так далее); за пределами своей профессии моряки или торговцы обычно говорят (даже друг с другом) так же, как все остальные люди. В старину на Руси был известен жаргон (или даже тайный язык — это как раз тот случай) бродячих торговцев, коробейников (их называли офенями); это один из самых богатых и самых загадочных жаргонов (между прочим, одним из слов «офенского языка» было хорошо знакомое теперь многим клёвый «отличный, замечательный»).
В нашу эпоху среди других профессиональных жаргонов (помимо богатого армейского жаргона) выделяется, пожалуй, жаргон музыкантов.
Впрочем, профессия (или, точнее, род занятий) — не единственное, что может объединять людей, говорящих на жаргоне. Важным признаком бывает возраст говорящих: во всем мире известны молодежные жаргоны (или, например, школьные; впрочем, школьник — это не только возраст, но и занятие). Молодежные жаргоны — не последний источник языковых изменений: ведь, вырастая, говорящие на этих жаргонах не всегда забывают их, и каким-то «молодежным» словам вполне может повезти — они останутся в «большом» языке. Кто знает, вдруг популярные сейчас молодежные жаргонные тормозить (в значении «плохо соображать; замедленно действовать») и тормоз (соответственно «тот, кто склонен тормозить») когда-нибудь войдут в «настоящий» русский язык, и никто не будет удивляться такому, например, объявлению в газете:
Даю уроки латинского, и греческого языка.
Уникальная современная методика.
Особая программа для занятий с тормозами.
Ведь такой была судьба очень многих слов. Даже привычное из привычных русское слово глаз когда-то было таким же жаргонным, как нынешнее слово тормоз. «Нормальным» словом было око (оно и сейчас широко употребляется практически во всех славянских языках — например, в украинском, польском, болгарском), а глаз вплоть до XVI века был известен только в значении «шарик, камушек». Позднее это слово почти полностью вытеснило слово око из русского языка. Первоначально же называть «очи» «глазами» было примерно то же самое, что называть «глаза» «шарами» (как это, кстати, принято в ряде русских жаргонов и до сих пор).
Так бывает не только в русском языке. Во многих романских языках слово со значением «голова» восходит к латинскому слову testa (например, французское tete [тэт] и др.). Однако в латинском языке голова называлась словом caput, а слово testa появилось в латыни позднее и означало нечто вроде «черепок; твердая скорлупа» (так и в современных русских жаргонах голова называется то котелок, то черепок или просто череп).
Так что никто не может знать заранее судьбу того или иного жаргонного слова. Слово может забыться и потеряться уже через десять-двадцать лет, а может остаться в языке надолго. Слово может долгое время прозябать где-то на обочине языка, а потом вдруг «ожить» и снова стать употребительным (как это произошло, например, со словом клёвый).
^
10. Мужская и женская речь
По-разному на одном и том же языке говорят не только жители разных местностей, не только представители разных профессий, не только люди разного возраста. Оказывается, по разному говорят еще мужчины и женщины. Впрочем, в европейских языках это различие обычно не столь заметно, хотя лингвистам в последнее время и здесь удалось обнаружить мелкие, но любопытные отличия. Они проявляются главным образом в выборе отдельных слов. Например, женщины, говоря по-русски, чаще употребляют уменьшительные суффиксы (хорошенький, миленький, славненькая сумочка); слова отличный или здоровенный скорее встретятся в речи мужчины, а какое-нибудь прелестный или безумно очаровательный мы почти наверняка услышим только от женщины. Есть и другие отличия. Конечно, не следует забывать, что в реальной жизни бывают разные мужчины и разные женщины, со своими особыми привычками (в том числе и речевыми привычками — мы не зря начали наш рассказ с индивидуальных отличий говорящих); у нас же речь идет прежде всего о типичных мужчинах и типичных женщинах.
Бывают, однако, языки, в которых речь мужчин и женщин различается гораздо сильнее — вплоть до того, что выделяют особые женские и мужские языки внутри одного и того же языка. Это различие может проявляться в выборе отдельных слов: например, мужчины называют дом одним словом, а женщины — другим; но оно может проявляться даже в грамматике: женщины употребляют особые формы существительных или глаголов, которые не встречаются в языке мужчин.
Значительные различия между речью мужчин и женщин характерны для языков Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (в том числе, например, для японского языка), встречаются они и в языках Австралии, в языках американских индейцев, в языках народов Дагестана. Например, в небольшом андийском языке (на нем говорят жители горного села Анди в Северном Дагестане и еще нескольких соседних сел) слова «я», «ты», «человек», «убивать» и некоторые другие звучат по-разному в речи мужчин и женщин: женщинам положено употреблять одни слова для выражения этих понятий, а мужчинам — другие.
Откуда возникают такие грамматические различия между мужской и женской речью? Лингвисты иногда объясняют их обычаем брать жену из другого племени или народа — обычаем, который был когда-то довольно широко распространен. Естественно, женщины сохраняли какие-то элементы своего родного языка, которые постепенно стали восприниматься как признаки особой «женской» речи. Впрочем, такие объяснения годятся далеко не во всех случаях.
Различия между мужской и женской речью — тоже предмет социолингвистики; сейчас появляется много исследований на эту тему.
^
11. О том, как быть вежливым
Нас с детства учат, что надо вести себя «вежливо». Но попробуем задуматься о том, что же это на самом деле значит — быть вежливым? Это тем более важно, что представления о вежливости (более или менее похожие в своей основе) есть, по-видимому, во всех без исключения культурах, во всех человеческих обществах, известных нам на сегодняшний день.
Начнем с самых очевидных наблюдений. Прежде всего, человек не может быть вежливым сам по себе. Он может быть вежлив (или невежлив) только по отношению к другому человеку (или другим людям). Значит, вежливость — это некоторый способ относиться к другим людям. Точнее, не просто относиться. Правильнее будет сказать, что это некоторый способ вести себя по отношению к другим людям. Можно даже сказать — некоторый способ общаться с другими людьми.
Мы (ограничимся пока русской культурой) довольно легко можем определить, вежлив ли тот или иной конкретный человек, просто наблюдая, как он общается с другим человеком. Мы можем легко это определить, но не так легко будет объяснить, почему мы так считаем. Тем не менее отметим пока это важное наблюдение — вежливость связана с общением, а значит — и с языком. Потому-то мы и говорим о ней в этой главе.
Конечно, можно проявить вежливость (или невежливость), и не вступая непосредственно в общение, под которым мы обычно понимаем обмен словами. Например, не вернуть вовремя взятую у кого-то книгу — безусловно, невежливое поведение. Прочесть чужое письмо — тоже невежливо. Всё это поступки, которые касаются других людей, но они не входят в то, что обычно называют общением. Нас же (поскольку мы занимаемся лингвистикой) в первую очередь будут интересовать те проявления (не)вежливости, которые как-то отражены в словах, в языке. Эти проявления очень разнообразны.
Например, мы знаем, что вежливый человек специально употребляет некоторые «вежливые» слова: спасибо, пожалуйста, простите. Кажется, эти слова почти ничего другого и не выражают, как только желание сообщить другому человеку о своем (к нему) вежливом отношении. Кроме того, вежливость часто проявляется в том, как человек обращается к другим людям, то есть как он их называет. Например, я полагаю, вам нетрудно будет догадаться, что из двух следующих способов привлечь внимание собеседника:
Эй, Санька!
и
Александр Николаевич, позвольте вас отвлечь на секунду! —
второй способ вежливее первого. И тут мы обнаруживаем еще одну любопытную закономерность, касающуюся природы вежливости. Оказывается, быть вежливым особенно важно по отношению к незнакомым людям. Это не означает, конечно, что со своими знакомыми надо вести себя грубо. Ваш приятель не только не обидится, если вы к нему обратитесь первым способом (из приведенных только что), но и сочтет это абсолютно нормальным; более того, он, пожалуй, мог бы обидеться, если бы вы применили к нему способ номер два (в лучшем случае он бы решил, что вы странно шутите).
Почему это так? Наверное, всё дело здесь в том, что ваш приятель давно и хорошо знает вас и знает, как вы к нему относитесь. Вам не надо каждый раз об этом ему специально напоминать. А незнакомый человек этого не знает, и ваша задача (особенно если вы к нему обращаетесь впервые) — показать ему, что вы относитесь к нему хорошо (или, по крайней мере, не относитесь к нему плохо, то есть не желаете ему зла). А если он этого заранее не знает, то откуда же ему это и узнать, как не из ваших самых первых слов, обращенных к нему?
Итак, мы можем сказать, что вежливость — это способ показать незнакомому человеку, что говорящий относится к нему хорошо (или не относится к нему плохо, что почти одно и то же). Не случайно в мире так распространены приветствия (а ведь приветствие — это первое, что незнакомые люди слышат друг от друга), которые состоят из пожеланий чего-то хорошего. Например:
— Мир вам! (а по-арабски это звучит примерно так: Ас-саламу алейкум!);
— Хорошего (вам) дня! (это в точности немецкое Гутен таг! или французское Бонжур!);
— Будьте здоровы! (кстати, именно по такому образцу, в сущности, устроено и русское Здравствуйте!).
Но если бы дело ограничилось только этим, всё было бы слишком просто. На самом деле вежливость — это далеко не только доброжелательное отношение к незнакомым.
Вернемся еще раз к нашим двум примерам. Представьте себе, что Александр Николаевич — это ваш преподаватель математики. Вы можете его знать очень давно и хорошо, но, даже если вы с ним знакомы с самого раннего детства, я сомневаюсь, что вы (будучи в здравом уме) можете применить к нему способ номер один. Это будет, мягко говоря, не очень вежливо. А вот сам Александр Николаевич, между прочим, вполне может назвать одного из своих учеников просто по имени. И никто не упрекнет его в недостатке вежливости.
В чем же здесь дело? Дело в том, что люди, принадлежащие к одному обществу, к одному человеческому коллективу, считают, что между ними существуют различия. И эти различия делают людей в каких-то отношениях неравными. Они как бы образуют длинную лестницу (ученые еще говорят: иерархию), в которой одни группы людей занимают нижние ступеньки, а другие группы — верхние. Помните, как мы похожим образом рассуждали об отношениях между разными языками в обществе? Конечно, взрослые и дети в любом обществе стоят на разных ступеньках (увы, взрослые — выше), и тем более это относится к преподавателям и их ученикам. От учеников общество требует, чтобы они были согласны признать «превосходство» учителей, так же как дети должны быть согласны признать «превосходство» взрослых. И это согласие выражается, между прочим, в том, что чем выше по отношению к тебе находится на воображаемой общественной лестнице твой собеседник, тем вежливее ты должен вести себя по отношению к нему. Заметим, что обратное, вообще говоря, неверно.
Значит, вежливость — это еще и способ показать человеку, что он находится выше тебя на общественной лестнице.
В русском языке (и во многих других языках) способы выражения вежливости по отношению к вышестоящему и по отношению к незнакомому почти во всем совпадают. Это и понятно: про незнакомого человека мы заранее не знаем, кто он, поэтому вежливее всего предположить, что он — уважаемый и знатный господин. Вежливость — это как раз такой замечательный способ общения, где всегда лучше пересолить, чем недосолить.
Теперь, когда мы в общих чертах представляем себе, что такое вежливость, нам легче ответить на вопрос, с кем же надо быть особенно вежливым.
Общий ответ здесь очень простой: с теми, кто стоит выше тебя.
А как узнать, кто стоит выше? А вот это уже вопрос не такой простой. Это в сильной степени зависит от общества, в котором мы живем, от той культуры человеческих отношений, которая там принята. Такая культура есть в любом обществе, и на юге Африки она не менее сложна, чем на севере Европы. И разные культуры дают на этот вопрос очень разные ответы.
Хотя можно попытаться выделить и некоторые общие черты. Во всех обществах взрослый стоит выше ребенка и вообще старший по возрасту — выше младшего по возрасту. Начальники стоят выше подчиненных (будь то предводители воинов, деревенские старосты, верховные жрецы или директора заводов). В остальном — возможны варианты. Могут различаться позиции на общественной лестнице для мужчин и женщин, близких и дальних родственников, вдов и незамужних женщин, земледельцев и воинов; одни профессии или занятия могут считаться «низкими», а другие — «благородными»; многое еще может иметь значение. В качестве общего правила, пожалуй, можно принять, что в современных обществах таких различий между людьми становится меньше — люди в большей степени готовы осознавать себя равными; в обществах, похожих на те, которые существовали в Средние века в Европе (историки часто называют их «феодальными»), таких различий было очень много.
Чем больше таких различий в обществе — тем больше в языке имеется средств для выражения вежливости. Особенно знамениты в этом отношении, как мы уже говорили, языки Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока — например, японский, тайский (на котором говорят в Таиланде) или яванский (на котором говорят жители острова Ява). У японских глаголов, например, имеется даже несколько специальных грамматических категорий, связанных с выражением вежливости (об этом мы еще немного расскажем и во второй части книги).
А как вообще выражается вежливость в разных языках? Об особой системе приветствий (существующей в каждом языке) и об особых формах обращений мы уже говорили. Чтобы правильно поздороваться со своим собеседником и правильно обратиться к нему, вам совершенно необходимо знать, что говорящие на этом языке считают вежливым, а что — нет; чтобы вас должным образом поняли и не вышло недоразумений, это так же необходимо знать, как правила употребления падежей или глагольных времен в этом языке.
Вот, например, как устроена (в самом общем виде) система обращений в русском языке. Мы можем обратиться к человеку на «ты» или на «вы»; мы можем назвать его по имени (при этом имя может быть полным: Послушай(те), Александр — или уменьшительным: Послушай(те), Саша), а можем — по имени-отчеству; наконец, мы можем назвать человека просто по фамилии (без имени и отчества), но зато в этом случае можем еще кое-что добавить перед фамилией, например: Петров, к доске! — или: Гражданин Баранов, пройдите к третьему окошку! (Как-то неприятно это звучит; я, например, не люблю, когда ко мне обращаются просто по фамилии: часто ничего хорошего это не сулит.)
Чтобы выбрать, какое обращение в каждом из этих случаев годится, говорящие по-русски должны знать очень многое. Дети обращаются к взрослым на «вы», но со своими родителями они обычно на «ты» (когда-то это было иначе). Младшие обращаются к старшим на «вы» и называют их по имени-отчеству; старшие обращаются к младшим на «вы» или на «ты» (это зависит от степени близости, от степени «фамильярности» и других причин), но называют их обычно только по имени. Так, студент может сказать преподавателю что-то вроде:
— Простите, Александр Николаевич, я сегодня не успел подготовить эту главу о поверхностном синтаксисе.
(На всякий случай я могу сказать, что поверхностный синтаксис — это сложный лингвистический термин; может быть, когда-нибудь вы узнаете, что это такое.) А преподаватель (если он добрый), скорее всего ответит так:
— Ну что же, Миша, к следующему разу постарайтесь (может быть даже: постарайся) обязательно подготовить!
Интересно, что не все сочетания здесь одинаково возможны. Так, в стенах университета мы вряд ли услышим обращения типа Ты, Александр Николаевич или Ты, Николаич. Во всяком случае, иностранца я бы так говорить не учил. Уж если ты с человеком на «ты» — так называй его просто по имени. Такова современная норма, хотя, например, в деревне (да, пожалуй, и кое-где в городе) и сейчас такие обращения встречаются часто.
Русская система кажется довольно сложной, но системы многих других языков во много раз сложнее. В русском языке всего одно «вежливое» местоимение (Вы), а есть языки, в которых до десятка таких местоимений: одними пользуются дети, когда обращаются к взрослым, другими — слуги, когда обращаются к хозяевам, третьими — жены, когда обращаются к мужьям, и т. д. и т. п. Кстати, почему сказать человеку «вы» (как бы считая, что здесь не один человек, а много) — это вежливее, чем сказать ему «ты»? Некоторые причины для этого, конечно, есть, но во многом это просто культурная условность («Так просто вежливее, и всё», — скажет вам говорящий по-русски). А в итальянском языке «вежливым» местоимением является не столько «вы», сколько «она», «Lei» (первоначально — «она, ваша милость»). Желая вежливо предложить вам сесть, итальянец так и скажет: «Она хочет сесть? Она не устала?» Это значит просто: «Вы хотите сесть? Вы не устали?» Но во многих языках вообще нет «вежливых» местоимений, зато вместо них имеются специальные вежливые слова-обращения. Так, в Польше вежливые люди никогда не будут говорить вам «вы», а скажут «пан» или «пани»: «Пан не хочет сесть? Пан не устал?»
Зато в современном английском языке (особенно в США) система явно проще, чем в русском. Нет двух разных местоимений — «ты» и «вы», — и поэтому что к кошкам и собакам, что к королю и королеве англичане обращаются одинаково—you. И приветствие в Америке есть одно, почти универсальное — короткое Hi! («Хай!»). И студент преподавателю говорит «Хай!», и преподаватель — студенту. Легко, и никаких проблем, правда?
Но вернемся к языкам со сложно устроенной вежливостью — для лингвиста они интереснее. До сих пор мы говорили только об одном типе вежливости — по отношению к собеседнику. Мы выяснили, что собеседника можно по-разному называть и по-разному к нему обращаться. Но ведь в языке это далеко не единственный способ быть вежливым. Например, в японском языке можно (и даже нужно) быть вежливым, рассказывая о ком-то или о чем-то отсутствующем. По-русски мы можем сказать:
Вчера я купил эту книгу для профессора Баранова;
Вчера мой друг купил эту книгу для меня/для профессора Баранова;
Вчера профессор Баранов купил себе эту книгу.
Во всех этих случаях мы употребляем одну и ту же глагольную форму (купил), и это кажется нам абсолютно естественным. А вот для японца такое почти немыслимо. Как профессора Ивана Ивановича Баранова русский студент никогда не назовет, например, «Ваней Барановым», так же точно японский студент не скажет, что его профессор что-то «купил», используя ту же глагольную форму, что и говоря о себе или своем друге. Например, во всех трех приведенных выше предложениях ему понадобятся разные формы одного и того же глагола. Если очень приблизительно передать это по-русски, то получится что-то вроде следующего (только не забудьте, что по-японски будут просто разные формы глагола «купить»):
Вчера я сподобился купить эту книгу для профессора Баранова;
Вчера мой друг купил эту книгу для профессора Баранова;
Вчера профессор Баранов-сан изволил купить себе эту книгу.
О себе в связи с вышестоящим (в данном случае профессором) японец всегда говорит чуть-чуть уничижительно, о близком друге — нейтрально, как о равном, а о профессоре самом по себе — с подчеркнутым уважением.
Этот пример интересен еще и тем, что показывает другую сторону вежливости. Оказывается, вежливость может заключаться не только в повышенном внимании к собеседнику — она может проявляться и в том, что говорящий как бы готов пренебречь собой; он намеренно ставит себя на низкую ступеньку общественной лестницы (может быть, гораздо более низкую, чем та, на которой он на самом деле находится). Такой тип вежливости свойствен многим восточным культурам, но можно вспомнить и русскую старину: ведь когда русский боярин (человек, понятно, не последний в государстве) обращался, например, с просьбой («челобитной») к царю, он писал нечто вроде: «…Бьет тебе челом холоп твой, Гришка…» Заметьте: обращение на «вы» («возвеличивающее» собеседника) тогда не было принято (даже царю говорили «ты»!), а вот «уничижительная» форма вежливости была очень распространена. Зачастую говорящий «принижал» не только себя (называя себя «холопом», «рабом», «Гришкой», а не, например, «Григорием» или тем более «Григорием Романовичем») — уничижительная форма распространялась на всё, что его окружало или имело к нему отношение. Вот, например (в несколько упрощенном виде), очень характерный отрывок из одной челобитной XVII века (пишет стрелецкий полуголова — то есть важный чин! — царю Алексею Михайловичу):
…А как я, холоп твой, дочеришку свою за него, Василья, замуж выдал, и он, Василей, мне, холопу твоему, с дочеришкою моею свиданья мне и по се число не даст…
Здесь говорящий не только себя называет «холопом», но и дочь свою — «дочеришкой»; обычная форма «дочь» в такой челобитной выглядела бы — по нормам того времени — невежливо и даже вызывающе. А если бы он вел речь о своем доме, то должен был бы назвать его — «домишко», двор — «дворишко», ну и так далее. Вежливость бывает и такой тоже.
Три задания, представленные выше, иллюстрируют языковой пуризм (от латинского purus ‘чистый’) — борьбу за чистоту языка, которая возникает в самых разных обществах в разные эпохи. Пуризм часто бывает связан с конструированием идентичности: он необходим для того, чтобы подчеркнуть самостоятельный статус того или иного языка, показать, что он не является вариантом какого-то другого языка и обладает не меньшими выразительными возможностями, чем какой-то крупный и престижный язык. Пуризм особенно характерен для периода становления литературных языков и часто является одним из проявлений национально-освободительной борьбы.
Легко догадаться, от каких языков пытаются отстроиться языки, представленные в наших заданиях. Хорватский в XIX веке испытывал большое влияние немецкого языка, а в XX веке вообще считался частью единого сербскохорватского языка — соответственно, хорватские пуристы стремились противостоять немецкому и сербскому влиянию. Чешский язык тоже вплоть до XIX-го, если не до начала XX века был низкостатусным сельским языком на территории Австро-Венгерской империи, а значит, приходилось делать его непохожим на немецкий (под горячую руку, как видно из задачи, заодно попали и старые заимствования из латинского и греческого: например, предлагалось заменить слово negramotný на bezabecedník, которое, по сути, является калькой немецкого Analphabet). Белорусский язык и в наши дни многим кажется менее престижным, чем русский язык, — а значит, белорусский пуризм стремится противопоставить себя русскому языку.
Можно привести и другие примеры. Так, реформы Мустафы Кемаля Ататюрка в 1920–1930-е годы включали в себя не только перевод турецкого языка с арабской вязи на латиницу, но и изгнание из него сотен арабских слов, которые заменялись как на неологизмы, созданные из используемых турецких корней, так и на архаизмы, которым присваивалось новое значение. В Исландии период языкового пуризма начался в XIX веке (а по мнению некоторых лингвистов, его начало можно датировать даже XVI веком) в борьбе с датским влиянием и продолжается до сих пор, затрагивая в том числе и общеевропейские научные заимствования из классических языков: так, гинекология по-исландски будет kvensjúkdómafræði (досл. ‘наука о женских болезнях’), радар — ratsjá (от слов rata ‘находить дорогу’ и sjá ‘прибор для видения’), а для обозначения СПИДа было создано слово, фонетически похожее на английское AIDS — eyðni (от глагола eyða ‘разрушать’).
При этом есть и немало случаев, когда пуризм не связан напрямую с попыткой оттолкнуться от других языков, а, скорее, отражает общее стремление к языковой чистоте, понимаемой в первую очередь как отсутствие заимствований: так, например, выглядит современная российская борьба с ними (себяшка и режим «всё закрыто» вместо селфи и локдауна):
Совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (23.12.2020)
В. Жириновский:
Русский язык. Мы издеваемся: каждую неделю вносится новое слово. Вы понимаете, что нас будут не уважать? Что это за русские, за народ, культура? У них нет слов. «Селфи» ввели в своё время. Я говорю: какое «селфи», давайте назовём «себяшка» — сам себя фотографируешь. Где-то начали говорить и снова забили: «селфи», «селфи», «селфи». Сейчас: «онлайн». Какой, к черту, «онлайн», когда сто лет мы говорим «заочное обучение». Все люди понимают: студенты находятся дома и приезжают иногда в вузы. Или очное обучение. Тут: «онлайн», «офлайн». Или «локдаун». Какой «локдаун»? По-русски мы дали термин — режим «всё закрыто». Два слова русских: «всё закрыто». Нет, «локдаун». Мы что — английская колония? Но так же нельзя! Любой чиновник, любой журналист-политолог каждую неделю вводит новое слово, нерусское, и миллионы людей в России не понимают, о чём там в Москве говорят. По-английски уже говорим, все слова у нас английские. Поэтому здесь тоже должен кто-то контролировать, навести порядок. <…>
Почему туроператоры продают путёвки в Турцию? Там всё закрыто. Потом будем полгода вывозить их. Куда они сейчас поедут в Турцию на зимние каникулы? Все путёвки распроданы, а все мероприятия запрещены во всех турецких отелях, во всех местах отдыха. Будут из окошка смотреть на море? Это издевательство над нашими туристами! Запретить продажу путёвок за границу, отозвать все путёвки, и пускай люди знают, что туда ехать бесполезно, там введён режим локдауна, всё закрыто, кое-где комендантский час. <…>
В. Путин:
Спасибо большое, Владимир Вольфович.
Обращаю Ваше внимание на то, что Вы сами употребили словечко «локдаун». Так вот жизнь заставляет.
Похожи были и выступления славянофилов двухсотлетней давности (о пуризме того времени см. статью Дмитрия Сичинавы); много калькированных слов и обновлённых архаизмов есть в литературном арабском (словом hatif ‘телефон’ изначально назывался бесплотный голос, обычно джинна, нашептывающий что-либо человеку на ухо) и в современном иврите, который по сути является восстановленным в XX веке древнееврейским языком и был вынужден пройти через этап создания множества неологизмов, обозначающих современные реалии.
Как видно из примеров выше, пуристические стремления в первую очередь проявляются в лексике: это наиболее осязаемая и наиболее доступная для осознанного реформирования область языка, и неслучайно все наши задания посвящены именно словам. Нередко борьба с интернационализмами / заимствованиями систематически распространяется на целые группы слов: например, по-хорватски месяцы называются не januar, februar, mart, …, как по-сербски, а совсем другими словами: siječanj, veljača, ožujak и т. д. (см. задачу «Славянские месяцы»). В русском языке пуризм явно проявился в футбольной терминологии, которая в 1940-е годы резко перешла с английских заимствований на исконные слова: вместо голкипер нейтральным стало слово вратарь, вместо бек — защитник, вместо хавбек — полузащитник (рис. 1), вместо форвард — нападающий. Старые слова, конечно, тоже сохранились (кроме, пожалуй, бека), но перешли в разряд синонимов для спортивных репортажей. Пуристические тенденции в футбольном языке порой неожиданно побеждают и в наши дни: так, в 1990-е годы стало популярным слово сейв, затем его потеснило слово спасение, а сейчас в ходу и то, и другое. Кстати, в свете задания 1 неудивительно, что по-сербски говорят golman, а по-хорватски vratar.
Есть единичные примеры и других пуристических побед XX века: авиаторы и аэропланы были основными славами на заре авиации, но уже к началу (авиатор) и середине (аэроплан) 1920-х сменились лётчиком и самолётом, геликоптер к началу 1950-х проигрывает вертолёту, а вот шофёр держится почти весь XX век и лишь в середине 1990-х уступает водителю (рис. 2).
Впрочем, это именно случайные победы пуризма, а не результат осознанной языковой политики. Например, более детальное рассмотрение истории слов шофёр и водитель показывает, что изменение не происходило так, что люди, заботящиеся о чистоте языка, стали говорить водитель и повлияли на остальных. Тот же Национальный корпус русского языка свидетельствует, что это слово в 1940–1950-е годы стало набирать популярность в речи мужчин, а женщины в основном пользовались словом шофёр; эта разница сглаживалась 40 лет. По-видимому, водитель начал своё распространение как престижный технический термин, а не как престижное слово с исконным корнем.
Понимание того, что такое чистота языка, может разниться. Это хорошо видно на примере сербского и хорватского языков. Если нормализаторы хорватского языка стремятся изгнать из языка заимствования и заменить их славянскими корнями, то для нормализаторов сербского языка характерна другая стратегия: внимание к диалектам и к тому, как реально говорят люди, чтобы литературный язык не получался искусственным. В каком-то смысле это тоже пуризм, хотя и совсем другого толка.
Другой пример столкновения двух разных пуризмов демонстрирует мальтийский язык. Около пятой части его словарного состава — английские слова (оставшиеся 4/5 примерно поровну распределены между словами арабского и итальянского происхождения), что вызывает орфографические проблемы. Мальтийская орфография основана на фонетическом принципе, поэтому пуристическая позиция Национального совета по мальтийскому языку состоит в том, что английские заимствования должны адаптироваться и записываться в соответствии с их звучанием — как и другие мальтийские слова: wejter < waiter ‘официант’ (буква j обозначает звук [й]), xorz < shorts ‘шорты’ (x — [ш], z — [ц],), fjuwil < fuel ‘топливо’, bajsikil < bicycle ‘велосипед’ (сейчас, впрочем, в этом значении чаще используется слово rota от сицилийского rota ‘колесо’). Однако такой подход вызывает бурю негодования у многих рядовых мальтийцев, которым это видится безграмотным искажением английских слов — что, безусловно, также является пуристической позицией. В качестве компромисса в печатных текстах разрешается оставлять слова в английской орфографии, записывая их курсивом (рис. 3):
Мальтийский пример показывает, что объектом пуристической борьбы может быть не только лексика. Ещё один пример орфографического пуризма (правда, довольно нестандартного) представлен в задаче «Белорусская орфография». Пуризм встречается и в морфологии — в белорусском языке не одобряется использование суффикса —цель, который оценивается как русизм: вместо слова прасіцель ‘проситель’ некоторые лингвисты рекомендуют употреблять слово просьбіт, вместо гучнагаварыцель ‘громкоговоритель’ — гучнагаварыльнік, вместо вадзіцель ‘водитель’ — образованное от глагола кiраваць ‘управлять’ слово кіроўца (несмотря на присутствие всех трёх заменяемых слов в словарях). Заметим, кстати, что суффикс —telj, наоборот, предпочитается в хорватском на месте сербского —lac (соответствует русскому —лец, как в словах страдалец и сиделец): хорв. slušatelj ~ серб. slušalac ‘слушатель’, хорв. gledatelj ~ серб. gledalac ‘зритель’, букв. ‘глядатель’ (а в задаче мы видели слово skladatelj ‘композитор’). А в стремлении сделать свою речь менее похожей на русскую многие говорящие по-белорусски предпочитают вопреки словарю использовать в родительном падеже единственного числа мужского рода окончание -у, а не —а, а во множественном числе — -аў/-яў вместо нулевого: з берагу ‘с берега’, для чалавеку ‘для человека’, партыяў ‘партий’, жанчынаў ‘женщин’ (впрочем, до упомянутой в задаче реформы 1933 года такие формы действительно были более распространены, а для части слов характерны и сейчас).
В радикальных же случаях пуризм может приводить фактически к созданию нового языка. Так, например, появился нюнорск — новонорвежский. Из-за того что Норвегия больше 400 лет была под властью Дании, норвежский язык образованных горожан очень сблизился с датским. После обретения Норвегией независимости это не могло не осознаваться как проблема. Одним из способов её решения стала деятельность филолога Ивара Осена, который сконструировал новый язык на основе деревенских диалектов, в которых он искал древненорвежские черты — в фонетике, грамматике и лексике (подробнее об этом можно прочитать в отрывке из главы 4 книги «Конструирование языков»).
Приведённые выше примеры хорошо демонстрируют, кто является движущей силой языкового пуризма.? На заре становления литературных языков это обычно отдельные личности, но когда тот или иной литературный язык уже закрепился и его самодостаточность не вызывает сомнений, пуризм часто переходит к языковым академиям. Первой такой академией стала флорентийская Академия делла Круска, основанная в 1582 году, но наиболее важным образцом для подражания в Европе и в мире послужила Французская академия, которую в 1635 году учредил кардинал Ришелье (и которая по сей день — впрочем, довольно безуспешно — пытается бороться с англицизмами во французском языке). По её образцу в 1713 году возникла Испанская королевская академия, в 1783 году — Академия Российская, в 1786 году — Шведская академия, и так далее. Из недавних органов такого рода можно вспомнить Академию языка иврит, которая функционирует с 1953 года, и вышеупомянутый Национальный совет по мальтийскому языку, созданный лишь в 2005 году.
Языковые академии чаще всего занимаются тем, что изобретают новые слова и дают рекомендации, какие слова и грамматические конструкции не стоит употреблять. Но их деятельность не ограничивается только указаниями, как надо и как не надо говорить (прескрипцией). Наиболее эффективный способ формулировать, какие слова должны быть в языке, а какие нет, — это издать словарь, а в словарь с неизбежностью попадают и беспроблемные слова: вы можете обсуждать, надо ли говорить фонтан или водомёт, но если вы издаёте словарь, в него придётся включить и самые обычные слова типа и, человек, красивый, бежать и т. д. Именно поэтому языковые академии часто становятся центрами описания реального языкового употребления (дескрипции) и издают авторитетные словари. Так, Шведская академия выпускает свой словарь с 1893 года и дошла уже почти до самого конца алфавита — до слова väva ‘ткать’. А Словарь Академии Российской, изданный в 1789–1794 гг., стал первым толковым словарём русского языка.
Задание №1 (автор — Александр Пиперски) использовалось на олимпиаде 8-й Летней лингвистической школы в 2006 году.
Задание №2 (автор — Антон Сомин) использовалось в онлайн-курсе «Лингвистическая антропология» платформы Сириус.Курсы в 2021 году.
Задание №3 (авторы — Александр Пиперски и Антон Сомин) использовалось на II туре XLVII Московской традиционной олимпиады по лингвистике в 2017 году.
Литература:
1) Чуковский, К. И. 1962. Живой как жизнь. М.
2) Arkhanhelska, Alla. Purism: transformations on the way to a revival of the Czech and Ukrainian literary language / Linguistic Studies. 2018. V. 36. Pp. 97–110.
3) Edwards, John. 2009. Language and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
4) Greenberg, Robert D. 2009. Language and Identity in the Balkans. Oxford: Oxford University Press.
5) Naylor, Max. 2013. The myth of linguistic purism in Icelandic. Dissertation.
6) Thomas, George. 1991. Linguistic Purism. London: Longman.
Картошка
Александр Дудин -Енисейский
Расписными пирогами
не заманишь за границу.
Не мечтаю я о звёздной
артистической поре.
Ведь люблю я не хот-доги,
не какую-то там пиццу,
а обычную картошку,
запечённую в костре.
Жареная картошка с луком, колбасой и морковкой
Александр Когадеев
А кто не любит жареной картохи?
Таких, признаюсь, в жизни не встречал.
Добавишь луку, колбасы, моркови —
Отпадный вкус, не блюдо — идеал!
Конечно это вовсе не Макдональдс,
С соломой жареной в масляном кипятке.
Домашнее вкуснейшее жаркое,
Любой сготовит, острый нож в руке
Очистит сколько надо нам картошки,
Десяток клубней, отвечаю здесь!
Морковки крупной штуку чистим в плошку,
С водой холодной, полежит, как есть.
Две луковицы чистим мы умело,
Открою тайну, это не секрет.
Чтоб лук при резке, не распался, в дело,
Оставим корень, пригодится впредь.
Лишь аккуратно грязь слегка подрежем,
И лук кидаем в воду, где морковь.
В воде, с морковкой станет снова свежим,
Тугим, упругим, резать легче в срок.
Картофель нарезаем крупно очень,
Лежать ему в большой сковороде.
В кипящем масле зарумянит щечки,
Минуты три — четыре, быть беде,
Коль мы его маленько передержим,
Поэтому лопаткой снизу вверх,
Перевернем, огонь слегка уменьшим,
Чтоб меньше гари, он нагрелся ведь.
Пока бока картошечки мягчеют,
И золотятся, дивный аромат,
Вдыхаем, мы морковку измельчая,
На терке крупной, режем лук, на лад,
Идет у нас, конечно же, процесс,
Когда картошка подрумянится довольно,
Морковку с луком подаем в замес.
Да тут же и подбрасываем соли.
Тут до готовности совсем уж недалече,
Все под контролем, даже лучше, господа!
Добавим лишь колбас немного к печи,
Получится вкуснейшая еда!
Колбаски грамм сто пятьдесят вареной,
Копченой или просто ветчины,
Порежем и подкинем тут в жаркое,
Минут на десять, дольше нет нужды.
Мешать все регулярно, не забудем,
Примерно так минуты через три.
Без крышки обойдемся, в радость людям,
И вид и запах, кто не верит, посмотри!
Ну все, готово, выкл, минут пятнадцать,
Стоит на плитке, нужно потерпеть!
Слегка остынет, надо пропитаться,
Жаркому вкусом дивным тут успеть.
Теперь за стол, жаркое на тарелки,
Здесь главное — язык не проглотить!
Вкушают пусть такое чудо детки,
А если будет мало — повторить!
Как делать драники?
Андрей Владимирович Медведев
Как делать стихи?
В. Маяковский
Однажды в духе футуризма
забацал «Драники» экспромтом,
где Маяковского харизма,
и говорилось вот о чём там:
«мной блюдо драники любимо,
а вы, сосед, ступайте мимо».
Не обошлось и без концепта…
(подробнее — в оригинале*)
А публика ждала рецепта,
который многие не знали.
Народу крикну я: «Товарищ,
ура! — сегодня их нажаришь».
Итак, с полдюжины картошин
очисти, размельчи на тёрке.
И чесночок, что мелко крошен,
пускай очутится в той горке.
Добавь и каплю слёз в готовку:
натри лучок — одну головку.
Крахмальный дух витает в кухне…
Насыпь в картофельные стружки
муки три ложки, соды, бухни
чету яичек от несушки,
сто грамм напитка от бурёнки,
съедобный камень, что в солонке.
Мешаешь — тщательно, в охотку.
А если ложка вдруг увязла,
плесни водицы… Сковородку
разогреваешь, вылив масла.
Как заскворчит, лепи лепёшки,
промолвив «дзякуй»* поварёшке.
Сочны, румяны, золотисты…
И каждый — солнышко — горячий.
В приготовленье окунись ты,
а в поедание — тем паче.
Не надоест мне эта пища.
С душистым перцем — вкуснотища!
Есть наблюденье (коль не глупый
и любишь русский, я услышан).
Ваятелей блинцов — две группы:
одни — с мукой; другим излишен
сей компонент — без мучки лепят:
мол, твёрдо с нею… (детский лепет)
Не жму им руки — в знак протеста.
Мой аргумент? Словарь открою:
блины — изделия из теста;
последнее – всегда с мукою.
Стихи без ритма — проза это…
А драник без муки – котлета!
* Дзякуй — «спасибо» по-белорусски
Ода жареной картошке
Андрей Данкеев
Люблю я и окрошку,
люблю и винегрет,
но жареной картошки
вкуснее — в мире нет!
И если уж о пище
затеял я рассказ,
возьму-ка и начищу
картошечки сейчас.
На тонкую «соломку»
её нарежу я.
И белую солонку
возьмёт рука моя.
И с маслом сковородка
на печке запоёт…
Тут в рифму лезет водка —
ну, как же без неё!
Вот это настоящий,
хоть летом, хоть зимой,
румяный и хрустящий
рабочий ужин мой.
Ах, что за ужин славный!
С лучком да с огурцом!
И чай заварен травный,
с душистым чабрецом.
Всё! Животу в угоду, —
а музам на беду, —
не дописавши оду,
я ужинать иду!
Драники
Анна Будзько
В воскресный день, как и обычно,
На завтрак драники у нас.
Готовить стало их привычно,
А блюдо это — просто класс!
Здесь нет особого секрета,
Ведь драник, это тот же блин.
Хоть на изыски он не метит,
Но очень многими любим.
Начищу и натру картошки
Вручную, будет так вкусней.
Чеснок и соль, муки две ложки,
Да в сковородку поскорей.
Немало выслушав напраслин,
Картофель ценность всё ж хранит.
Скворчат блины в кипящем масле,
Их запах дразнит аппетит.
Лежат, как солнышки, на блюде,
Блестящей корочкой манят.
Кто драник съел,тот не забудет,
Они особый вкус таят.
С густой холодною сметаной,
Горячий драник — благодать!
Готовить их не перестану,
И всех, кто дорог, угощать.
Картошка
Бабка Ёшка
Этот овощ любят люди,
Рады видеть в каждом блюде!
Он большим и детворе
Дарит чипсы и пюре,
В щах, салатах и в окрошке
Пробуждает аппетит…
И пока едим картошку,
Нас никто не победит!
Картофельная запеканка с мясом
Баженов
В чём-то лазанья с картошкой,
Где-то Пирог пастуха,
И даже пицца немножко —
Так запеканка вкусна!
Картофельные биточки
Баженов
Холодильник открываю —
Там вчерашнее пюре,
Однозначно понимаю,
Что не вкусно это мне.
Чтоб пюре не пропадало,
Есть проверенный рецепт
Вкусных, нежных, ароматных
Из картофеля котлет!
Картофельные зразы
Баженов
Котлеты с картошкой,
Знакомые всем,
Готовят повсюду,
Я тоже их ем.
Похожий состав
У картофельных зраз,
Но нравятся больше
И радуют глаз.
А если ещё
Сверху соус грибной —
Нельзя оторваться,
Ведь вкус-то какой!
Поэтому искренне рекомендую:
Нажарьте себе сковородку-другую,
Полейте сметаною, соусом, маслом…
Потратите время отнюдь не напрасно!
Картофель
Борис Межиборский
КАРТОФЕЛЬ
Картошка, картошка,
Ты лучшая еда,
Сварю тебя немножко,
И буду сыт всегда.
Сорву на огороде
Почищу пред едой,
Потом на сковородке
Пожарю, ой-ой-ой.
Я скатерть-самобранку,
Раскрою над столом,
И пусть американка,
Украсит каждый дом.
Седой октябрь расплачется
В серебряных сетях,
И в жаровне расплавится
Картошечка в гостях.
Картошка, картошка,
Пришла к нам навсегда,
Тебя сварю немножко
Ты вкусная еда.
Ах, картошечка-картошка!
Валентина Гвоздева
Ах, картошечка-картошка —
На Руси авторитет!
Коль обжарена немножко —
Ничего вкуснее нет!
Ну а если со сметанкой —
Можно проглотить язык.
А с селедочкой из банки
Ты вкуснее, чем балык.
Ты вкусна до одуренья
С малосольным огурцом,
И идёшь без сожаленья
Со вчерашнем холодцом,
С мясом, рыбой и грибами,
С молоком, коль оно есть,
С помидорами-плодами,
Словом, всё не перечесть.
А лешей всего на свете,
Я хочу отметить здесь, —
Любят взрослые и дети
Молодой тебя поесть.
Ах, картошечка, картошка —
На Руси авторитет!
Коль обжарена немножко —
Ничего вкуснее нет!
Баллада о картошке в мундире
Галина Дядина
Она вчера была
В окопе,
И вот теперь она —
В укропе,
В кастрюле,
Словно штаб-квартире,
Она солдат,
Герой в мундире!
Враги,
Готовьте нападенье, —
Она не сдастся на съеденье!
Не схватишь голыми руками
Бойца с горячими боками!
Картошечка
Ева Гущина
Пеките картошечку чаще
И лучше всего — в кожуре.
В духовке, в печи настоящей,
А может быть, — и на костре.
И это вкуснейшее блюдо
Здоровье пусть вам принесёт,
Порадует сердце, желудок
И будто — в поход позовёт.
За ветром шальным, за простором,
За нашей «святой простотой»,
За давним ночным разговором.
-Услышишь ли ты, мой родной?
Пусть юность, надежда продлятся,
Улыбка затеплит глаза.
Пусть жаркие клубни дымятся.
Прочь хвори! Поднять паруса!
Стихи — загадки для малышей
Евгения Урусова
Часто варим на обед,
Добавляем в винегрет,
Любят дети, даже крошки,
Блюда из простой…
(картошки)
Учимся готовить-Картошечка
Елена Гурковская-Ночная Фея
Тонкой стружечкой в лукошко
чистим бережно картошку,
под водой ополоснем,
резать дольками начнем,
Ну, не дольками — соломкой,
можно толстой, можно тонкой.
В это время на плиту
ставлю я сковороду,
а как только раскалится,
будет сало в ней топиться.
И в то сало, в шкварочки
бросим для зажарочки
мы картошечку свою,
помешаю, подсолю,
а теперь достану лук
и ножом его тук-тук.
(Лук не репку, а перушку)
Вместе с ним крошу петрушку
и укропчик — тоже дело.
Чтоб она не пригорела,
подождем немножко…
Сжарилась картошка!
Хором есть ее начнем,
да с хрустящим огурцом.
Вкуснотища! Красота!
Я б не справилась одна.
Мне ребятки помогли —
— Вы помошнички мои!
Вегетарианцам с любовью
Ирина Перелётная
Сегодня я под спецзаказ
Готовить буду зразы.
От мяса кто отводит глаз,
Готовьтесь слушать сказы.
Картошку чистить не спешим,
А варим прям в одёжке.
Почистив, в мясорубку жим,
Яйцо, муку немножко.
Соль, перец — это сам собой
Вымешивай, старайся.
Отставив в сторону , накрой
Начинкой занимайся.
Грибочки с луком протушить
Опять же соль и перец,
И приготовиться лепить
Насколько ты умелец.
Пюре в ладони в шар скатать,
Приплюснуть , в центр начинку
Соединив края , обмять
Как? Посмотри картинку.
И всё- осталось обвалять
В муке и на обжарку.
До вкусной корочки- снимать
И подавать не жалко.
Сметанка к ним и затевай
Пир вегетарианцев.
Уверена-тут не зевай,
А после все на танцы.
Драники. Гастрономический экстаз
Надежда Бесфамильная
А как насчёт картофельных оладий?
Вкуснее блюдо мне представить сложно…..
Такое приготовить каждый сможет,
Я бланманже предам оладий ради:
Помытый и очищенный картофель
Потрём на тёрке – не на мелкой самой,
Порежем лук и кубиками сало
(Но это позже)… Да! Глоточек кофе
Здесь в самый раз вкусить, ведь день воскресный,
И спешка ни к чему, всё время – наше,
И солнечные зайцы резво пляшут,
А мы вернёмся к главному процессу:
Одно яйцо и ложечку сметаны,
По вкусу соль теперь добавим в массу,
И на сковороде в кипящем масле….
Всё, больше я рассказывать не стану….
Сглотнуть слюну, вслед — кофе два глоточка
И быстро на отдельной сковородке
До розовой хрустящей вкусной корки
Лук с салом. Ну а дальше – длинный прочерк
… и многоточья, вздохи, всхлипы, стоны,
Один, еще один, не удержаться…
—
…Ах, маленькое утреннее счастье,
Твои давно прописаны законы!
Картошечка печеная
Наталья Сырхаева
Картошечка печеная , ах как же ты вкусна,
Достала тебя нынче я из майского костра.
Мундирчик твой припудренный горячею золой,
Дымком пропитан ласковым на углях под луной.
Полить тебя бы маслицем, нет, лучше посолю
И ключевой водицею потом тебя запью.
Есть в простоте обыденной свой аромат и вкус.
А что, друзья, вкуснее вам судить я не берусь.
Ах, картошечка
Ольга Васильевна Савченко
Ах, картошечка, картошка,
Ароматная, с дымком,
Не нужна к ней даже ложка,
Коль пеклась под угольком.
И пюре вкусно на диво,
Напитавшись молоком,
Без картошки — сиротливо,
Даже если стол битком.
Фри, поджаренное в масле,
Как и драники, в чести,
И в окрошку с кислым квасом
Её можно поместить.
А была американкой,
Даже был протестный бунт,
Отвергали иностранку,
А теперь к обеду мнут.
Ах, картошечка, красотка,
Наша русская душа,
Под селёдочку в охотку
До чего ты хороша!
Ода картошке
Ольга Суслова
«Ах, картошка, объеденье,
Кто картошку не едал!»
С аппетитом, без сомненья,
Всю с тарелки вмиг сметал!
Запеканкой и варёной,
Как гарнир, и как пюре,
Да и жареной, печёной —
И в обед, и на заре.
Всё съедается, до крошки —
Ни к чему помощник здесь.
Хороша она в окрошке,
Блюд с картошечки не счесть.
Деревенское застолье —
Сельдь с картошкой и лучок,
Здесь не надо даже соли,
Лишь добавить чесночок.
Ах, картошка — овощ добрый,
Встала с хлебом в один ряд.
Это знают все без пробы —
Так в народе говорят.
Вкусная картошка
Ольга Шалимова
Картошечка, картошка!
Где побольше ложка?
Очень вкусное пюре
На обеденном столе!
А еще картошка фри!
В огороде собери,
Накопай картошечку
Отряхни немножечко,
И почисти, посоли,
В свежем масле отвари,
Похрусти картошечкой,
Улыбнись немножечко!
Картошка фри
Ольга Якухина
Кипит фритюр в кастрюле,
На масле-пузыри.
Картошку окунули-
Надеюсь, не сгорит!
Не хуже,чем в «МакДаке»!
Я масло посолю.
И угощу собаку,
Да и сама люблю!
А то мне надоело:
В мундире,да пюре…
А маслице запело
В кастрюле на жаре…
Мешаю ложкой дольки,
Их жар позолотит.
Держать их нужно сколько?
Увы, рецепт забыт!
Но вот покрылись коркой!
Пора и выключать.
Их выложу я горкой.
Пора гостей встречать!
Картошка фри! Как много в этом блюде… Шутка
Рина Р-Ич
Картошка фри! Как много в этом блюде
жиров и соли, знают это люди,
но повсеместно на огромном шаре
во вред утробе мир её вкушает,
в родных пенатах, да и за кордоном,
на Эльбе, Сене и на Волге с Доном,..
не стану жарить овощ во фритюре,
в мундире съем, и ломтиками в тюре!
Тушёная картошка с мясом
Сергей Крамер2
Одним из главных кулинарным выкрутасом
Возьмём тушёную картошку с мясом.
Православные у нас, нам свинина в самый раз.
И картошечка у нас — это просто высший класс!
Покупаем мясо свежим,
Мелко на кусочки режем.
Чуть обжарить, посолить
И в большой казан сложить.
Лук порезать мелко, ловко
И пассировать с морковкой.
Перец, соль, лавровый лист.
До картошки добрались.
Её тщательно помыть,
От кожуры освободить,
Всю разрезать пополам
И отправить в наш казан.
До краёв водой залить,
Ну и зелень покрошить.
Казан крышкой накрываем,
Внутрь печки русской ставим.
И пускай себе томится —
Нигде лучше не сварится.
Как из печки достаём,
По тарелкам разольём —
В мире нет вкуснее блюда,
Как с солёным огурцом.
(Коль русской печки нет нигде,
То можно просто на плите.)
Картофель фри
Сон Светлана
Все знают это с самых ранних лет,
Нам на картофель-фри — большой запрет!
И почему неправильная пища,
ну как назло, такая вкуснотища!
Немодный Картофель
Степанова Елена Анатольевна
Несчастный Картофель
В обиде на мир:
В его гардеробе
Есть только мундир.
Он самый немодный
Из всех овощей.
Купить бы хоть
Парочку новых вещей!
Неужто ему
Так не скажет никто:
— Смотрите, смотрите
Картофель в пальто!
Похвалялись две картошки…
Талеко
— Я картошка круглая,
Красивая и смуглая!
Чтобы не состариться,
Пойду в кастрюле париться!
— Я картошка белая,
Сильная и смелая!
Закаляться стану я
В бассейне со сметаною!
Ода жареной картошке
Тамара Липатова
Люблю картошечку
С румяной корочкой —
Такой вкуснятинки милее нет!
Не надо устриц мне
Ни фуа-гра в вине
И им горячий свой я шлю привет!
А вот селёдочка
С лучком колечками
Полита маслицем, так хороша,
Когда к картошечке
На стол поставлена,
Тогда от радости поёт душа!
Ах ты, картошечка,
С румяной корочкой
На сковородочке шкворчишь-поёшь!
Пожалуй лучшего
Для гостя милого
Под рюмку водочки ты не найдёшь!
Картошечка
Татьяна Сивова
Коль картошка в доме есть
Всегда будет что поесть.
Вторым хлебом на Руси
Картошечка считается,
В огородах по весне
Первая сажается.
На столе она царица
В любом виде, вся сгодится.
Жарена и парена, просто в кожуре
Всегда по серединочке
Картошка на столе.
А вокруг неё капуста,
Огурчики, грибочки
Не могу дальше писать
Прям, дошла до точки.
Поспешу скорей на кухню
Картошечки зажарю
До чего же я её братцы уважаю!
Говорят, что, мол, вредна
Влияет на фигуру,
Говорить про такое
Можно только с дуру
Испокон веков едали
Что-то не толстели
Всё наверно от того,
Без дела не сидели!
Жареная картошка
Фаина Фанни
Я сегодня утром встала,
Тюк с картошкою достала.
Выбрав поудобней место,
Села в старенькое кресло.
Положив нога на ножку,
Стала чистить я картошку.
Всё идёт пока по плану,
Предо мной два килограмма.
Я сижу себе и чищу,
Приготавливаю пищу.
Чищу также я лучочек,
Всё потом рублю в брусочек.
Отработано всё чётко,
Масло лью на сковородку.
Разогрею масло малость,
Бросить всё туда осталось.
Не варить, тушить иль парить,
Буду я картошку жарить.
Я огонь пока прибавлю,
Соли чуточку добавлю.
То ж бесхитростное дело,
Главное: не погорела б.
Я три раза подходила
И картошку ворошила.
Там под крышкою ей жарко,
Всё в порядке; есть поджарка.
Подожду ещё немножко,
И пойду , возьму я ложку,
Хлеба чёрного кусочек,
Есть хочу, ну нету мочи.
С маслом уберу бутылку,
Нет, возьму я лучше вилку.
Есть картошку вилкой ловко,
Для борща лежит пусть ложка.
Без котлеты и сосиски,
Положу картошку в миску.
За компьютер пойду, сяду,
И картошку ставлю рядом.
Аромат на всю квартиру,
Открываю я стихиру.
Чтеньем буду наслаждаться,
И картошкою питаться.
Рифма — тонкое искусство,
Я читаю…очень вкусно.
Картофель фри
Фомин Сергей Леонид
Беру рукой, пошире рот.
И прячу?! Правильно, в живот.
Еще бы кетчупа немножко,
я всю бы спрятала картошку…
Картошка
Фомина Ольга Алексеевна
Без неё питанье —
Войско без солдат;
Без полозьев сани —
Люди говорят.
А народ, он знает,
И который век
Он картошку славит,
Русский человек.
Тут она — основа,
Не поспоришь с ним.
С аппетитом снова
Следуем за ним.
Расступись, кумиры,
Тут крещёный мир
В честь её мундира
Начинает пир!
Оценить картошки
Вкус и аромат
Да отведать плошку
Каждый будет рад.
Славно натомилась
В чугунке, в печи.
Ну, так сделай милость
И на стол мечи.
Что за наслажденье —
Аромат вдыхать,
С клубней в нетерпенье
Ей мундир снимать!
Заждалась, поди-ка,
Так не дай остыть,
Честь ей окажи-ка, —
Как без чести жить?
Тут её заждался
Славный молодец, —
Ей залюбовался
Бочки огурец.
Вот расположилась
С бравым молодцом,
Чтобы не тужилось
Сельдь полукольцом.
Без картошки тошно
Даже щи хлебать,
Без картошки можно
Мир поколебать!
Жареной, тушеной,
К мясу на гарнир,
Предлагает выбор
Кулинарный мир.
Хороша в окрошке,
Нечего сказать, —
Той ведь без картошки
Вкуса не видать!
До всего ей дело,
Даже до котлет,
Из картошки целой
Делают крокет.
Вечером хорошим,
По ночной поре,
Запеки картошку
С кожурой в костре!
Кто хоть раз отведал,
Вымазавшись всласть,
Тот картошке белой
Отдал вкуса власть.
Хорошо, что в поле
Вскопана верста.
Ешь картошки вволю,
А налей полста!
Картошка
Юрий Асмолов
Покорительница мира:
На престол-на стол взошла,
Хороша и без мундира,
И в мундире хороша!
Хороша на сковородке…
Моя матушка права:
Можно жизнь прожить без водки,
Без арбузов, без селёдки,
Без картошки — чёрта с два!
Почесав крутой загривок,
Человек даётся диву:
Каждый день картошку ест —
И никак не надоест!
Наминает кто-то с сальцем,
Кто-то ест вприглядку с ним:
Не равняем шею с пальцем —
Мы картошечку едим!
Налетели к нам оравой
Колорадские жуки,
Конкурентов мы — отравой:
Нате! Ешьте! Жу-ли-ки!…
Кто-то с сошкой, кто-то с ложкой,
Но — как прежде, так и впредь –
Выручалочка-картошка,
Ты не дашь нам умереть.
Картошка
Юрий Ткаченко
Не зря зовут нас часто — «Бульбаши».
Мы, без нее прожить, действительно не можем.
Вас угостим мы рыбой, мясом, от души,
А на гарнир, ее «родимую», предложим.
Она была завезена Петром.
Не знал народ, как есть ее, заразу.
Но, пригрозил царь Петр, топором.
Так и прижился, корнеплод сей, по приказу.
Прошли века, приноровился люд.
Толченка, фри, оладьи, запеканки —
Писать устанешь. Больше сотни блюд,
Сейчас готовим мы, из иностранки.
Друзья, прошел я множество дорог,
Как говориться, путешествовал «немножко»
В моей стране, переступил порог,
Зовут к столу, а там парит картошка.
4 просмотров
Римма Погребицкая уже больше 20 лет живет в Америке, ее муж мотается между Вьетнамом, США и Беларусью. Их история – о том, как важно никогда не сдаваться.
– В свое время я окончила филфак БГУ – довольно неплохо писала. Даже была мысль написать книжку о своей большой любви. Но в Америке я, честно говоря, деградировала. Уже не под силу это все – работа, дела.
– Было бы вдохновение…
– Как-то все сошло на нет. Все, что я умела, будто осталось в прошлой жизни. Но мне кажется, что эта история очень интересная.
Я родилась в Минске, училась в школе №136, окончила в 1980 году, поступила в БГУ на филфак. И в 1985-м пришла на работу в Минский пединститут на кафедру русского языка для иностранцев. Я была заведующей лингафонным кабинетом. У нас были студенты-вьетнамцы, несколько кубинских аспирантов – я проводила с ними лабораторные по фонетике.
История любви: я сразу сказала: «Да-да-да-да-да!»
– В 1987 году в Минск приехал мой будущий муж Фам Динь Тхань. Он бывший военный летчик. Учился во Фрунзе, не окончил – самолет разбил. Потом поступил в Ханой в пединститут, и на третий курс группа вьетнамских студентов приехала в Минск учиться.
До этого я была в браке: мы с бывшим мужем прожили три месяца вместе, у нас родилась дочка. Когда мы поженились, Тхань ее воспитал – для нее он единственный папа, самый любимый, самый хороший.
У нас в браке есть еще одна дочка – Лиля. Старшей сейчас 36 лет, младшей – 33. Пятеро внуков от старшей дочери.
Так вот, мы встречали вьетнамцев на вокзале. 17 августа – я этот день запомнила на всю жизнь. Увидела его, и у меня все внутри остановилось – первая любовь, такая сильная, до сегодняшнего дня. 33 года вместе!
– Кто проявил инициативу?
– Он бегал от меня.
Мы, педагоги, дежурили в общежитии по выходным. Однажды я пришла на дежурство, а там драка между вьетнамскими мальчиками и нашими. Наши выпили, стали к вьетнамским девочкам приставать, их мальчики стали защищать. А мой муж всегда в первых рядах! Он выскакивает: тут кровь течет, тут перья присохли.
Когда конфликт уладили, его нужно было вести к врачу – я его взяла, и мы пошли. Он немножко был лентяй ходить, но как-то не мог предложить поехать на такси. Потом уже, когда поженились, рассказал: «Мы с тобой идем, а у меня так болят ноги, я тебя так ненавижу, что ты меня потащила в эту поликлинику!»
Когда я дежурила, я всегда приходила к нему в гости, мы пили чай, разговаривали – настолько было интересно с ним. Он был старше всех студентов: второе высшее образование, очень начитанный, прекрасный русский язык. Конечно, он видел, что я к нему проявляю какие-то чувства.
Однажды мы пошли в кинотеатр «Беларусь» на фильм «Жюльетта» Жана Маре. Вышли из кинотеатра, и он мне говорит: «Выходи за меня замуж». Настолько этой историей был потрясен, что чувства нахлынули. Я сразу сказала: «Да-да-да-да-да!»
У меня даже мысли не было, что он «бедный вьетнамец». Когда мы уже были женаты и его не хотели оставлять в СССР, мой папа сказал: «Продадим машину, библиотеку, выкупим его, чтоб ты не страдала». У нас была очень хорошая библиотека, по тем временам книги ценились.
Он даже друзьям иногда рассказывал: «Я был покорен тем, что она зимой меня возле общежития ждала». В мороз! У него до сих пор эта привычка: уже 58 лет он всегда везде опаздывает, если я его не подталкиваю.
«Вас все равно не поженят, это нереально»
– В 1980-е годы вьетнамцам в СССР не давали разрешения на брак. На то время в Минске была только одна пара, которая добилась разрешения, – наши друзья. Его даже в тюрьму посадили, а она бегала беременная вокруг тюрьмы, чтобы его выпустили. Потом все-таки расписали. Мы были вторыми.
– В смысле «разрешение»? В Советском Союзе? Или разрешение от Вьетнама?
– Был договор между СССР и Вьетнамом, чтобы браки не регистрировать, потому что вьетнамцы не хотели возвращаться домой. Русские жены ехать туда не хотели. И, когда в 1989 году мы поехали во Вьетнам, я поняла почему.
Я была комсомолка, активистка и считала, что если написать письмо генеральному секретарю ЦК КПСС, то весь вопрос решится. Сначала писала Терешковой в Комитет советских женщин, в Минюст СССР, ну и последней инстанцией был Горбачев.
Я очень трогательно расписала всю свою жизнь – первый брак не удался, муж пил, дочка есть, как Тхань относится к моей дочке, как мы хотим быть вместе. Пришел ответ: если есть подтверждающие документы, что он не состоит в браке во Вьетнаме, – разрешить.
Мы написали его папе, он занимал какой-то пост. Пришла справка с печатью. Но письмо на вьетнамском языке – в восьмидесятые годы найти переводчика было практически нереально. Мы поехали в Москву, во вьетнамское посольство.
Чужих на территорию не пускали – пуcтили только его. Он вышел с каким-то мужчиной: «Если я вам переведу это письмо и заверю, то практически я вам дал разрешение на брак. Горбачев вам разрешил, а я не могу вам дать такое разрешение, меня снимут с работы».
Была зима, мы стоим под окнами этого посольства, обняли друг друга, я рыдаю. Видимо, этот мужчина посмотрел в окно – вышел без куртки, в одном костюме, какой-то шарфик на нем был: «Дайте эту вашу бумагу». Приносит через несколько минут – стоит печать, подпись.
Я не знаю, как его зовут. Но то, что он сделал, решило всю нашу судьбу.
На кафедре был скандал: «Вот сейчас он сядет в поезд и уедет, а ты останешься»
– Декан факультета очень не любил Тханя. Мой муж всегда что-то придумывал. На вьетнамский Новый год он купил живых петухов (это традиция) и привез в общежитие. Петухи сбежали и бегали по коридорам, а вахтеры их ловили. Декан был в ярости.
Мы все скрывали от кафедры, но они узнали, и все против нас ополчились. Был такой скандал, не передать!
На тот момент я уже была беременна: нам сказали, что, если у вас не будет ребенка, ничего не получится – нужен веский аргумент. Я ушла в декретный отпуск, Тхань остался в институте.
3 мая мы еще раз съездили в Москву – его папа транзитом летел из Вьетнама, хотел познакомиться, потому что было неясно, пустят ли нас вообще во Вьетнам.
На следующий день, 4 мая, мы поженились в Минске.
Тхань пришел в институт через пару дней, а декан ему говорит «Ну все, ты мне надоел, я тебя отправляю обратно во Вьетнам, билет тебе заказываем, уезжай». А он отвечает «Ну мне же положено три дня на свадьбу». Декан: «Как? Кто тебе разрешил?» А он говорит: «Спасибо Михал Сергеевичу Горбачеву». На это декан уже сказать ничего не мог.
В начале июля студенты уезжали на родину – все очень плакали, что Тхань остается: такого красивого парня потеряли! Мы пришли их провожать на вокзал, он стал заносить вещи в поезд своим друзьям. А декан стоит рядом: «Вот сейчас он сядет в поезд и уедет, а ты останешься». Мне через 20 дней уже рожать, а я стою и плачу…
Дочка родилась 25 июля. Мы жили у моих родителей. Денег, конечно, не хватало. Он пытался, как все, купи-продай. Потом началась перестройка – он ездил, покупал косметику, продавал ее.
Однажды ночью Тханя остановили, нашли ящик с этими тенями. Началось разбирательство, пришли к нам домой с обыском. Дома стоят коробки с детским питанием – мы получали бесплатно в поликлинике. Милиционер говорит: «О, они еще и питанием детским торгуют».
Мы взяли адвоката и, можно сказать, отделались легким испугом – два года работ. У меня дядя работал в то время в филармонии, в ансамбле танца у Дудкевича, и Тхань пошел туда гардеробщиком.
Поездка во Вьетнам: «Мне стало плохо, такого я не видела никогда в жизни»
– Потом все наладилось, мы поехали во Вьетнам – в 1989 году. Я даже не подозревала, что такое может быть. Как у нас показывали фильмы о гражданской войне, о разрухе – вот такое я там увидела.
Сестра мужа работала в «Интуристе». Мы приехали в Ханой и сидели рядом в кафе. Я увидела детей, мальчика и девочку, 4-5 лет. С сумой через плечо – как в кино показывают беспризорников в 1930-е: грязные, оборванные дети просили милостыню. Мне стало плохо, такого я не видела никогда в жизни. Мы купили им еды.
Конечно, сам Ханой… Маленькие домики, грязные улицы, среди всего этого кошмара – памятники старины, красивенные пагоды. Маленькие магазинчики, где за бесценок можно купить серебряные вещи, фигурки из сандалового дерева.
Иностранцев было мало, в то время в Ханое были в основном русские – строили электростанцию Хоа Бинь. На выходные все они ехали в центр Ким Лиен, там были адаптированные магазины, можно было купить что-то из европейского питания, европейскую одежду.
А потом мы поехали к родителям мужа – 200 километров от Ханоя, но дорога заняла целый день. Его брат был водителем автобуса, приехал за нами очень рано: выехали затемно и приехали в Туен Куанг ночью.
Фонарные столбы стоят на очень большом расстоянии, дорога темная, а дети из деревень собираются под этими столбами, чтобы поиграть. Мы едем очень медленно, кучки детей играют под фонарями в какие-то свои игры, в деревнях дверей в домах нет, видны проемы – где-то стол, керосинка чадит на столе.
Встреча с родственниками: «Они поняли, что для меня все необычно, посадили меня с мужчинами»
– У меня был шок. Мы едем, и я говорю мужу сквозь слезы: «Ты знаешь, мне очень нравится твой Вьетнам, очень. Но давай мы не будем здесь три месяца, а хотя бы месяц…»
Появление белого человека в маленьком городке было сенсацией. На меня ходили смотреть, как в зоопарк, дети показывали пальцами.
Папу я уже знала. Мамина реакция – я даже не представляла такого. Он привез белую женщину, совершенно не похожую на их девушек, а мама меня обняла так тепло, так крепко меня обняла и стала плакать. И так мы с ней, обнявшись, сидели. Мама была замечательная и папа. Они очень нас любили.
Когда умирал его папа, я была в Америке. Мне стало плохо, никогда так не было: холодный пот, сердце, давление. Я легла. Приехала моя мама, она врач, померяла давление – очень высокое. Позвонили на работу, что я не приеду. Вызвать «эмердженси» невозможно, очень дорого.
Мама дала какие-то таблетки. И так же резко, как мне стало плохо, все прошло в один момент. Я села в машину, поехала. Через полчаса звонит муж из Минска: «Римма, час назад умер папа». Он умирал в сознании – у меня такое чувство, что он думал о нас в последний час, прощался. И, когда ему было плохо, когда он уходил, я в Америке почувствовала.
Так вот, первая встреча. Накрыли стол – ну, не стол: за столами они не сидели, на циновках. На одной половине мужчины сидят, а на другой – женщины с детьми. И у меня такая растерянность: господи, сейчас он сядет там, а я – с какими-то чужими тетями, что я буду делать с этими палочками?
Они, видимо, поняли, что для меня это как-то необычно, посадили меня с мужчинами. Потом я приезжала и уже сама садилась с женщинами – хотелось показать, что я принимаю их традиции, уклад жизни. Это моя семья, я их очень люблю.
– Мне кажется, у нас такая белорусская черта – стараемся в другой культуре соответствовать.
– Друзья мужа считают, что ему повезло со мной. Уже многие поразводились, а мы до сих пор вместе, хотя он сейчас живет на три страны: Вьетнам, Беларусь и Америка.
Я всегда вьетнамцев в нашем доме принимала так, как положено в их традиции: подала чай, какие-то фрукты – и ушла в свою комнату, а они уже сидят, курят, разговаривают. Через какое-то время опять пришла – еще налила чай, может, поесть… Это обязательно для вьетнамской жены – не мешать, когда мужчины разговаривают, и вовремя подать чай, кофе, еще что-то.
У меня есть восточные корни – мама наполовину азербайджанка. Армянские, азербайджанские, грузинские женщины приспосабливаются, слушают своих мужчин.
– А вьетнамский выучили?
– Пыталась, но не выучила, потому что говорю, только когда бываю во Вьетнаме. Чтобы с семьей можно было общаться: «спасибо», «воды», «поесть». Младшая в детстве понимала все по-вьетнамски, но сейчас уже 33 года – ничего не помнит. Обе жалеют, что папа их не научил.
– Ну, еще не поздно.
– У них уже другие проблемы. Одна детьми занимается, у нее работа и муж, пятеро детей. Вторая в банке карьеру строит. От операционистки дошла до менеджера.
Как на Ждановичах появился «Сайгон»: «Мы поставили соусы на столах – алкоголики приходили за бесплатной закуской»
– Расскажите, как открывали бизнес.
– У нас был минский друг, он в свое время работал шофером на «Беларусьфильме». Во время перестройки он потерял работу – и вот однажды приходит к нам домой в костюме, при галстуке и говорит: «Ребята, я открыл фирму, назвал ее “Самсон”. Его фамилия Самсонов. Это меня жутко возмутило – блин, скромнее надо быть!
«Идите ко мне на работу, я вам буду платить по 100 долларов». Мой муж, конечно, засмеялся – в то время, занимаясь каким-то своим бизнесом, он имел другие деньги. А меня заела гордость: без образования, пришел тут. А почему мне не открыть фирму?! В то время все открывали.
Взял юриста, он тебе подготовил пакет документов, заверил – все. У тебя есть фирма. Муж сказал: «Вот тебе деньги, делай что хочешь». Так у нас появился «Сайгон», многопрофильное торгово-коммерческое предприятие. Три работника: я – директор, наш друг Сергей Артеменко – коммерческий директор, и бухгалтер.
В Минске в то время не было посуды, мы купили трейлер, поехали в Радошковичи на завод керамики. Торговали на стадионе «Динамо», прогорели, потом сами этой посудой пользовались.
Съездили с мужем на отдых в Италию, пару раз попали во вьетнамские рестораны. В Америке у меня была бабушка – были у нее в Чикаго, потом поехали в Нью-Йорк. Попали во вьетнамский район, а там такая вкусная еда в ресторанах! Мы посмотрели, сколько там людей: «Давай на основе нашего “Сайгона” попробуем кафе».
Открылись в 1995 году. Еще ничего не было – палатки, Ждановичи только начинали строиться. Мы поставили фургончик под номером 53. У нас были два вьетнамских повара, муж и жена, мы сняли им квартиру – и стали готовить.
Меню было скромное, но очень вкусное: суп «Фо», блинчики «Нем», котлетки «Чаран», мясо «Бо Сао», салат «Го се Фай». Цены были низкие, народ пошел. Как-то Тхань нашел обалденного повара – он делал очень вкусный суп из креветок и подавал его в апельсине.

Мы на столы, как в Америке, поставили соусы. К нам приходили алкоголики, доставали свой хлеб, мазали этот кетчуп, наливали себе и закусывали. Потом уже, конечно, мы стали соусы убирать…
На рынке тоже торговали – ездили в торговые дома Вьетнама в Москве, привозили куртки, спортивные костюмы, майки, а вьетнамцы продавали здесь в палатках, они тоже у нас числились в «Сайгоне». Я занималась документами – регистрировала их, делала санкнижки работникам кафе.
Когда построился рынок, появились бандиты. Спортсмены ходили по рынку, могли снять любую вещь, которая им понравилась, любой костюм, любую куртку – и, конечно, никто не открывал рот. Потом они пришли в кафе, у нас уже было три «Сайгона».
Я ходила по рынку с сумочкой через плечо и собирала выручку – часть сдавали в банк, а часть я должна была заплатить этим качкам. В определенный день мы садились с ними в кафе, и я с ними рассчитывалась… Сейчас я думаю: «Господи, я же ходила с этой сумкой, у меня там было полно денег, что им стоило где-нибудь за углом кафе дать мне по голове, вырвать эту сумку и уйти?»
Мы сделали службу доставки, такого в Минске не было – стали ездить по разным предприятиям: собирали заказы, привозили еду, оставляли визитки, работали на выставках. К концу девяностых милиция прижала бандитов, они уже на рынке так себя вольготно не чувствовали, но приходилось платить в другие инстанции.
«Да, во Вьетнаме есть специализированные кафе, но шашлык из собаки – это очень дорого»
– Это был тяжелый труд. За всем нужен был глаз да глаз. Как-то я зашла к поварам домой и увидела, что они в ванне моют одноразовую посуду. У меня волосы зашевелились – мы быстренько эту проблему закрыли, конечно.
В 2000-е, когда я уже была здесь, в Америке, а муж еще был в Минске и все функционировало под нашим именем, про «Сайгон» начали писать в газетах, что мы отлавливаем собак на Ждановичах, что из собак и кошек делаем шашлык, – я так тогда возмутилась! Во Вьетнаме есть специализированные кафе, и шашлык из собаки – это очень дорого. Конечно, здесь этим никто заниматься не будет.
Стали обвинять в антисанитарии – да, в 1990-е такое было, но я их строила, ходила и проверяла всех. В 2000-х уже и мойки были как нужно, и посуда, все делалось с максимальным вниманием.
Просто конкуренты решили нас задавить. Один из комментариев был: «Я знаю эту семью, знаю, как там это все у них делается». А я этого человека не знаю! Было неприятно. Потому что мы, конечно, очень старались – и людям нравилось.
– А на данный момент вы этим еще владеете?
– Нет. Сейчас название «Сайгон» осталось, но ни меня, ни мужа уже в учредительных документах нет. Кто там сейчас, я не знаю. Мой муж сейчас большую часть времени находится во Вьетнаме и здесь. В Беларуси у нас осталась квартира, но нужно лететь через Турцию, это очень дорого, лучше подождать, пока все наладится.
Переезд в Америку: «Директор фирмы режет колбасу»
– Как вы решили переехать?
–Я уже 22 года в Америке и очень жалею об этом решении, хотя есть работа, квартира, машина, езжу раз в год отдыхать – чаще на Ямайку.
У меня здесь была бабушка и тетя по папиной линии. Когда мы съездили в 1994 году в Америку, появилась мысль переехать. Стали оформлять документы. Но пошел бизнес, мы открыли одно, второе, третье кафе – уже как-то было жалко уезжать.
А папа мой настроился серьезно: у него и мама здесь, и сестра была, и племянница. И детей наших настроил на этот переезд, особенно старшую дочь. Она бредила Санта-Барбарой и всеми этими фильмами. Но я же ребенка одного не отпущу.
И мы все приехали, мы с мужем – временно. Пробыли три месяца, получили тревел-паспорта и вернулись в Минск, потому что если не контролируешь, сам не занимаешься, то бизнес со временем перестает существовать или работает на другой карман.
Каждый день я приходила домой, заходила в детскую комнату и рыдала. В конце концов муж сказал: «Поезжай. Ты с детьми там, я здесь, я буду ездить, ты будешь ездить». Я поехала. И так семь лет носилась туда-сюда. Пошла работать здесь.
В Минске муж дал мне возможность научиться чему-то – зарабатывать, заниматься бизнесом. Здесь, в Америке, я была никем. Пошла работать в русский магазин. На мне украшения с бриллиантами – директор фирмы стоит и режет колбасу!
За это мне потом было очень стыдно, но каждый любит немного похвастаться… Один дедушка слушал мои минские истории и говорил: «Деточка, замечательно. Ты там хорошо поднялась, но, когда ты здесь добьешься того же, ты сможешь с такой же гордостью об этом говорить!»
Потом перешла в другой магазин. Там была менеджером девочка из Минска, она знала меня до этого. Она водила друзей и показывала меня со стороны, говорила: «Знаешь кто, там стоит? Это стоит директор “Сайгона”». Тогда уже я молчала про свое прошлое – мне было стыдно, что я работаю в магазине, что ухаживаю за дедушками и бабушками – горшки и все такое.
Проработала в магазине 9 лет. 1 января 2013 года пришла на работу, и хозяин мне говорит: «Вчера был твой последний рабочий день…» Иногда захожу на шопинг в этот магазин, и он меня зовет назад, но тогда я ночью просыпалась и плакала: «Как же так? Как он так со мной?»
Я подтвердила свой диплом и устроилась в детский сад работать, была такая счастливая, что менеджер из магазина потом сказала хозяину: «Ты знаешь, Римма должна тебе коньяк поставить за то, что ты ее выгнал».
– Что вы посоветуете женщинам, которые хотят развить успешный бизнес?
– Честно, если бы мне сейчас вернуть все назад, я бы не занималась бизнесом, а только домом – чтобы мужу было хорошо, чтоб было хорошо детям.
Я потратила очень много времени на этот бизнес, не думая о том, что мои дети с бабушкой и дедушкой. Я ездила по командировкам, все куда-то бежала – в санстанцию, к бандитам. Все это могло закончиться неизвестно чем. В какой-то момент в ОБЭПе мне сказали, что я сяду, а муж будет носить передачи, потому что всё на мне.
Родители Риммы.
Я считаю, что надо выбирать – или бизнес, или семья. Вместе это нереально, чем-то нужно пожертвовать. И потом: мужчины, мужья не очень любят успешных женщин. Особенно восточные мужчины. Хотя мой муж разрешал мне заниматься тем, чем я хочу, поощрял это.
Мне нравилось. После школы я работала курьером в облисполкоме, потом культорганизатором на турбазе в Ждановичах, после университета была завкабинетом, а тут я директор фирмы – визитки, машина, норковая шуба. Теперь я понимаю, что это было в ущерб семье.
Поэтому я даю женщинам, которые хотят заниматься бизнесом, только один совет: если у вас есть семья, посвятите себя ей. А если нет, тогда дерзайте.
Римме хочется написать книгу о своей жизни, но мотивации недостаточно – поглощают будничные дела. Вы очень поможете, если напишете в комментариях пару слов поддержки!
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: из архива героини; unsplash.com







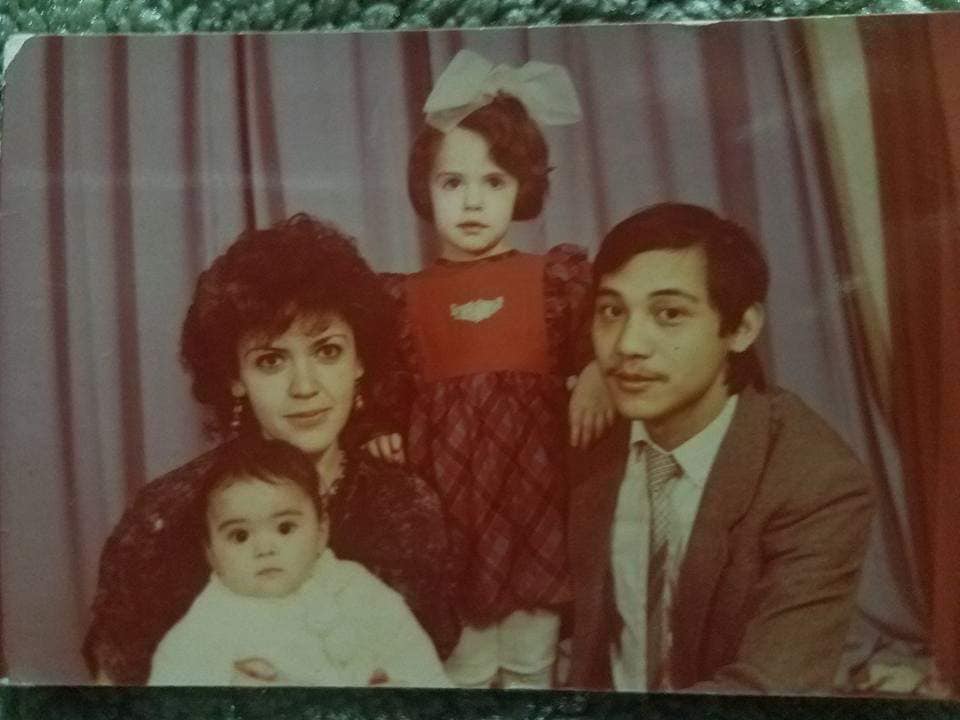
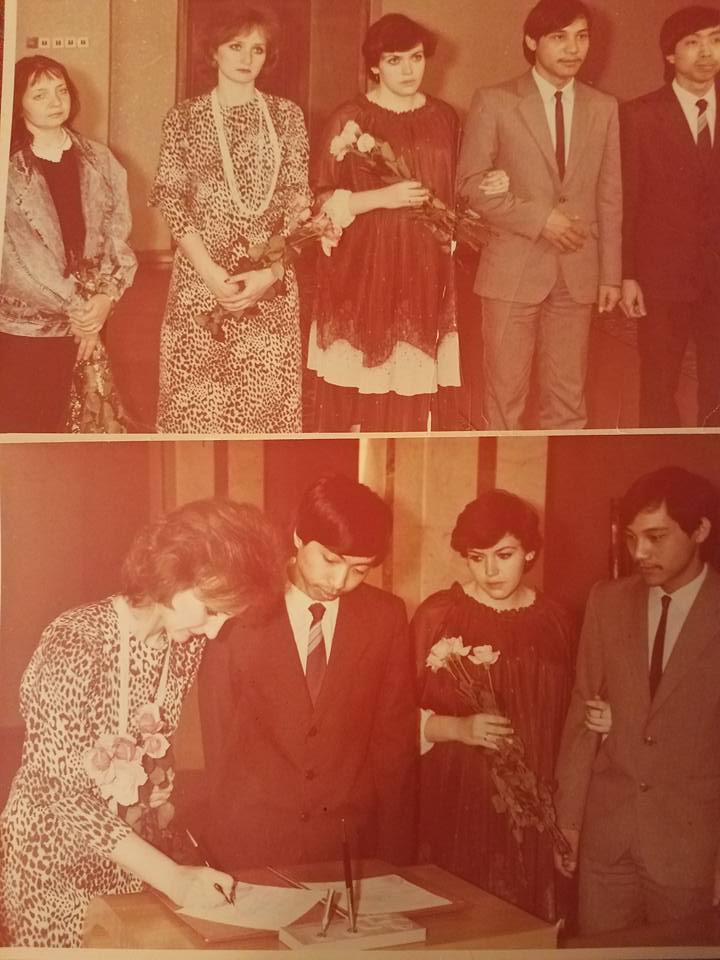
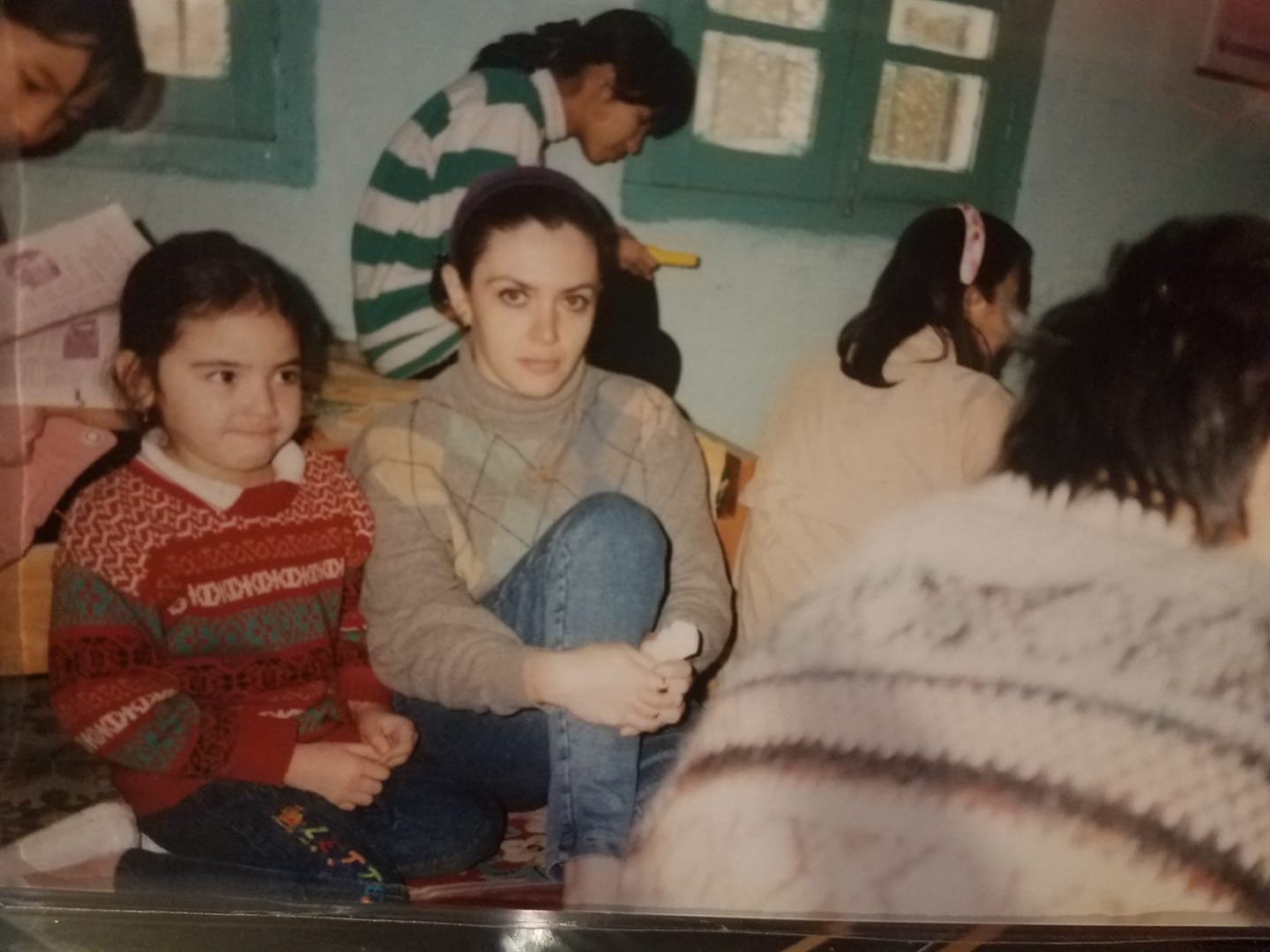



.jpg)