А. С. Пушкина не зря называют величайшим русским поэтом и писателем. Многие вопросы затрагивал он в своем творчестве, в том числе и об истинных причинах бед самых слабых и незащищенных людей в обществе. Эту же проблему затрагивает он и в повести “Станционный смотритель”.
Самсон Вырин — один из главных героев повести. По должности он станционный смотритель, а значит, “сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда”. Неказисто и небогато его жилище, украшенное лишь картинками с изображением истории блудного сына. Единственной настоящей драгоценностью была его четырнадцатилетняя дочь Дуня: “ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала”. Красивая, расторопная, работящая девушка была гордостью своего отца, однако и проезжающие через станцию господа не оставляли ее своим вниманием: “Бывало, кто ни придет, всякий похвалит, никто не осудит”.
Вот почему становится понятной трагедия станционного смотрителя, внезапно потерявшего дочь, которую проезжий гусар обманом увез с собой в город. Проживший жизнь Самсон Вырин прекрасно понимает, какие беды и унижения могут случиться с его юной, беззащитной в чужом городе Дуней. Не находя себе места от горя, Самсон решает ехать на поиски дочери и любой ценой вернуть ее домой. Узнав, что девушка живет у ротмистра Минского, отчаявшийся отец направляется к нему. Смутившись от неожиданной встречи, Минский объясняет смотрителю, что Дуня любит его, а он, в свою очередь, хочет сделать ее жизнь счастливой. Он отказывается вернуть дочь отцу и взамен сует ему крупную сумму денег. Униженный и негодующий Самсон Вырин с гневом выбрасывает деньги, однако и вторая его попытка вызволить дочь оканчивается неудачей. Смотрителю ничего не остается, как вернуться ни с чем в пустой, осиротевший дом.
Мы знаем, что недолгой была жизнь станционного смотрителя после этого случая. Однако знаем мы и другое — что Дуня действительно стала счастливой “барыней”, обретя новый дом и семью. Я уверена, что если бы ее отец знал об этом, он тоже был бы счастлив, но Дуня не посчитала нужным (или не смогла) вовремя предупредить его об этом. Виновато в трагедии Самсона Вырина и общество, где человек, занимающий низкую должность, может быть унижен и оскорблен — и никто не вступится за него, не поможет, не защитит. Постоянно окруженный людьми, Самсон Вырин всегда был одиноким, а это очень горько, когда в самые тяжелые минуты жизни человек остается наедине со своими переживаниями.
Повесть А. С. Пушкина “Станционный смотритель” учит нас внимательнее относиться к окружающим людям и ценить их за чувства, мысли и поступки, а не за чины и должности, ими занимаемые.
Главным героем повести Пушкина “Станционный смотритель” является Самсон Вырин. Автор, описывая трагическую жизнь этого человека, сумел вызвать у читателей сочувствие и сопереживание к простому человеку.
Вот история, описанная в повести. У бедного станционного смотрителя растет красавица дочка Дуня. Она нравилась всем, кто останавливался на станции, была всегда весела и приветлива. Однажды один проезжий гусар ночевал на станции. Наутро он сказался больным и остался еще на несколько дней. Все это время Дуня ухаживала за ним, подавала питье. Когда гусар выздоровел и собрался уезжать, Дуня решила посетить церковь. Гусар предложил ее подвезти. Самсон сам разрешил дочке ехать с молодым человеком, сказав: “Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест, прокатись-ка до церкви”. Дуня уехала и больше не вернулась. Самсон понял, что гусар увез ее с собой, да и болезнь его была ложная, он притворялся, лишь бы подольше остаться на станции. Бедный старик слег от горя, а как только оправился, поехал в Петербург икать дочь. Он нашел гусара Минского, проследил за ним и ворвался в комнату к Дуне. Та была в красивом платье, в богато обставленных покоях. Старик просит Минского отпустить с ним
Дуню, но тот выгнал его, приказав больше никогда не появляться. Вернувшись на станцию, Самсон только и думал о том, что гусар погубит его дочь, натешится и выгонит ее на улицу, а там она совсем пропадет. С горя он начал пить и вскорости умер.
Пытаясь ответить на вопрос, кто же виноват в его гибели, мы находим ответ в самой повести. В начале повествования рассказчик, попав в дом Вырина, рассматривает висящие на стене картинки. Они рассказывают об истории блудного сына. Сначала мы думаем, что они символизируют жизненный путь Дуни. Но, дочитав до конца, понимаем, что картинки созвучны с жизнью Самсона Вырина. Картинка, где сын уходит из дому, говорит о том, что Самсон “уходит” от дочери. Он не верит в ее счастье, подозревает, что гусар обманет ее. Он не способен представить, что Минский женится на Дуне. На второй картинке сын окружен ложными друзьями. Так и Самсона обманул доктор, который приходил лечить якобы заболевшего гусара. Доктор подтвердил болезнь, побоялся рассказать Вырину правду. А сам он поверил ему, не догадываясь, что доктор сговорился с Минским. На третьей картинке изображен скитающийся сын, пасущий свиней. Так и Вырин, оставшись без дочери, начал пить от тоски, превращаясь из бодрого мужчины в старика. Последняя картинка говорит о “возвращении” отца к дочери после смерти. Дуня приехала навестить отца и нашла его на кладбище. А ведь Минский женился на ней, у них родились дети, жили они в достатке и любви. Так Самсон Вырин оказался сам виноват в своей нелегкой судьбе. Не веря в счастье дочери, он изводил себя мыслями о ее падении. Воспоминания о Дуне вызывали в нем боль и горечь, он корил себя, что сам разрешил ей поехать с гусаром в церковь. Запив с горя, он пришел к плачевному концу. А мог бы общаться и с дочерью, и с мужем ее, и с внуками.
Так автор, сочувствуя переживаниям старика, дает понять читателям, что осуждает ограниченность мыслей “маленького человека”, не способного верить и надеяться на лучшее. Но при этом Пушкин не презирает Вырина, а пытается понять природу этих самых мыслей.
Сочинение
“Станционный смотритель” — одна из повестей, вошедших в известное произведение А. С. Пушкина “Повести покойного Ивана Петровича Белкина”. В “Станционном смотрителе” автор знакомит нас с тяжелой, безрадостной жизнью простых людей, а именно — станционных смотрителей, во времена крепостного права. Пушкин обращает внимание читателя на то, что во внешне бестолковом и бесхитростном исполнении своих обязанностей этими людьми кроется нелегкий, часто неблагодарный труд, полный хлопот и забот. Что только не ставят в вину станционному смотрителю? “Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель… ”. Мало кто из проезжающих принимает станционных смотрителей за людей, больше за “извергов рода человеческого”, а ведь “сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые”. Мало кто из проезжающих интересуется жизнью станционных смотрителей, а ведь, как правило, у каждого из них — непростая судьба, в которой с избытком хватает слез, страданий и горя.
Жизнь Самсона Вырина ничем не отличалась от жизни таких же, как и он, станционных смотрителей, которые, чтобы иметь самое необходимое для содержания своей семьи, готовы были молча выслушивать и так же молча сносить бесконечные оскорбления и упреки в свой адрес. Правда, семья у Самсона Вырина была небольшой: он да красавица дочка. Жена Самсона умерла. Ради Дуни (так звали дочь) и жил Самсон. В четырнадцать лет Дуня была настоящей помощницей отцу: в доме прибрать, приготовить обед, прислужить проезжему, — на все она была мастерица, все у нее в руках спорилось. Глядя на Дунину красоту, добрее и милостивее становились даже те, кто грубое обращение со станционными смотрителями взял себе за правило.
В первое наше знакомство с Самсоном Выриным он выглядел “свежим и бодрым”. Несмотря на нелегкую работу и зачастую грубое и несправедливое обращение с ним проезжающих — неозлобленного и общительного.
Однако как может изменить человека горе! Всего через несколько лет автор, встретившись с Самсоном, видит перед собой старца, неухоженного, склонного к пьянству, тускло прозябающего в заброшенном, неубранном своем жилище. Его Дуня, его надежда, та, что давала силы жить, уехала с малознакомым гусаром. Причем не с отцовского благословения, как это принято у честных людей, а тайком. Самсону было страшно подумать, что его милое дитя, его Дуня, которую он как мог оберегал от всяких опасностей, так поступила с ним и, главное, с собой — стала не женой, а любовницей. Пушкин сочувствует своему герою и относится к нему с уважением: честь для Самсона превыше всего, превыше богатства и денег. Не один раз судьба била этого человека, но ничто не заставило его так опуститься, так перестать любить жизнь, как поступок горячо любимой дочери. Материальная бедность для Самсона ничто по сравнению с опустошенностью души.
На стене в доме Самсона Вырина висели картинки с изображением истории блудного сына. Дочь смотрителя повторила поступок героя библейской легенды. И, скорее всего, как и отец блудного сына, изображенного на картинках, станционный смотритель ждал свою дочь, готовый к прощению. Но Дуня не возвращалась. А отец не находил себе места от отчаяния, зная, чем зачастую заканчиваются подобные истории: “Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу, вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы… ”
Ничем хорошим не закончилась и попытка станционного смотрителя вернуть дочь домой. После этого, запив от отчаяния и горя еще больше, Самсон Вырин умер.
В образе этого человека Пушкин показал безрадостную, наполненную бедами и унижениями жизнь простых людей, самоотверженных тружеников.
В повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» автор стремится донести до читателя образ «маленького человека» в России. Мы видим, насколько бесправен и унижен этот человек, насколько он подвержен гнёту и оскорблениям тех, кто считает себя выше его по положению или материальному достатку.
В этой повести образ такого человека представлен в лице Самсона Вырина. Это пожилой человек, станционный смотритель, который принимает у себя в избе каждого проезжего путешественника, обеспечивает ему крышу над головой, пищу, а на утро готовит лошадей в дорогу. Для Самсона эти обязанности не в тягость, напротив, он выполняет их честно и со всей ответственностью. Но благодарности старик за это не видит. Пользуясь его низким положением, каждый заезжий его унижает, срывается за свои неудачи и плохую дорогу. Несмотря на все попытки обидеть его, смотритель не разочаровывается в жизни и своей работе. Он терпеливо и безропотно сносит все тяготы и испытания. Все потому, что у него есть смысл в этой жизни, есть ради кого трудиться. Это его единственная дочь Дуня четырнадцати лет. После смерти жены это отрада его и утешение. Самсон Вырин дарит ей всю свою любовь и заботу, ведь больше у него никого нет на всём свете. Отец отдаёт себе отчёт в том, что, кроме него, некому будет заботиться о его Дуняше, и старается ради неё из всех сил.
Образ Самсона передан со слов рассказчика, проездом посетившего эту станцию. Он отмечает, что в первую встречу старик выглядит благообразно и свежо, чинно и дружно живёт себе со своей дочкой. Дуня взяла на себя все хозяйство и хорошо его ведёт, держит дом в чистоте, в опрятности. Путешественники, плохо обращающиеся с Выриным, оттаивают при виде Дуни и меняют своё отношение. Самсон горд своей дочерью.
Спустя некоторое время рассказчик, снова волей судьбы оказавшийся на этой станции, видит, как сильно изменился Вырин, постарел от горя. Его дочь, его кровиночка, убежала с богатым проезжим офицером. Старика сломил этот её поступок. Он не в силах понять, как она могла с ним так поступить, ведь он ничего никогда для неё не жалел. Даже бедность старика не сломила так, как этот позор. Дуня теперь находится в унизительном положении содержанки офицера, что для Самсона большой позор. Он знает, что случается с наивными девушками, которые вот так повелись на богатство и притворные слова богатых людей: они оказываются на улице. Он опасается, что его дочь ждёт та же участь.
Несмотря на все это, он готов простить и принять Дуню, если бы она пришла обратно. Но та и думать забыла об отце. Не зря в избе у Самсона Вырина висят картинки, изображающие сюжет из Евангелия про блудного сына. Но если блудный сын все же вернулся в отчий дом, то Самсон свою дочь так и не дождался. Потерян смысл жизни, трудиться и жить больше не для кого. Он начал выпивать от невыносимой жизни и сильно опустился. Самсон Вырин – человек чести, для которого на первом месте чистая совесть и незапятнанность, поэтому это испытание так его добило.
Автор повести жалеет главного героя и призывает читателя проникнуться его положением и понять, что маленького человека ждали в то время только тяжкий труд, грубое и бесчеловечное обращение и бесправие.
«Я каждой клетки выросший двойник…»: книга Гоши Буренина как событие в культуре
25 сентября 2021 в формате Zoom-конференции состоялась презентация книги поэта Гоши Буренина (1959 – 1995) «луна луна и ещё немного», вышедшей в серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались» (предисловие Валерия Шубинского, отзыв на обложке – Данилы Давыдова). Разговор коснулся такого явления, как львовская поэтическая школа, к которой принадлежал Буренин, и причин её «потерянности» в потоке поэзии 80-х и 90-х.
В презентации приняли участие:
Евгений АБДУЛЛАЕВ – прозаик, поэт, литературный критик, член редакционного совета журнала «Дружба народов»;
Ксения АГАЛЛИ – писатель, редактор, первая жена Гоши Буренина и хранительница его архива;
Алексей ЕВТУШЕНКО – прозаик, поэт, сценарист, друг Гоши Буренина;
Валерия ИСМИЕВА – поэт, искусствовед, кандидат философских наук;
Александр МАРКОВ – литературовед, доктор филологических наук, доцент РГГУ;
Сергей МЕДВЕДЕВ – редактор сайта о поэзии Prosodia.ru;
Елена МОРДОВИНА – прозаик, литературный критик, главный редактор журнала «Крещатик»;
Михаил ПАВЛОВЕЦ – кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, учитель словесности Лицея НИУ ВШЭ;
Юлия ПОДЛУБНОВА – поэт, литературный критик, кандидат филологических наук;
Елена СЕМЁНОВА – поэт, книжный обозреватель, обозреватель «НГ Ex Libris» (книжного приложения к «Независимой газете»);
Валерий ШУБИНСКИЙ – поэт, историк литературы, редактор журнала «Кварта», автор предисловия к книге Гоши Буренина.
Вели мероприятие Борис КУТЕНКОВ и Ника ТРЕТЬЯК.
Борис Кутенков: Спасибо всем, кто пришёл сегодня на эту презентацию. Сегодня мы представляем четвёртый сборник нашей книжной серии «Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались», книгу Гоши Буренина «луна луна и ещё немного». Напомним, что первые три сборника были: «Прозрачный циферблат» Владимира Полетаева, «Ещё одно имя Богу» Михаила Фельдмана и «Грубей и небесней» Алексея Сомова.
Хотелось бы немного рассказать об Игоре Буренине.
Гоша (Игорь) Буренин (1959–1995) родился в городе Лихене (Германия) в семье военного. Семья часто переезжала. В 1981 году окончил Львовский политехнический институт по специальности «Архитектура». Долгое время работал главным художником в Львовском театре Бориса Озерова «Гаудеамус». Несколько лет прожил в Ленинграде; последние годы – в Ростове-на-Дону, где и был похоронен.
«…могила на Северном кладбище в Ростове – пример отчаянной бренности бытия: едва различимый в бурьяне холмик у самой дороги, по соседству с мусорной кучей, в ряду безликих бугорков с табличками «Неизвестный мужчина». Правда, на его собственной жестяной табличке написано «Игорь Буренин». Известный мужчина, стало быть», – так пишет о месте упокоения поэта Максим Белозор в своей книге «Волшебная страна».
Наше издание – это второй сборник Гоши Буренина. Его первая книга, вышедшая посмертно, в 2005 году, давно стала библиографической редкостью. Знающие говорят, что «в Интернете удалось обнаружить всего одно актуальное предложение о ее продаже – на букинистическом сайте». Этот сборник был издан в количестве около ста экземпляров, нынешний – тиражом в 1350 экземпляров.
Новая книга представляет собой расширенное и дополненное переиздание того сборника. В руках у меня её пока нет – жду, что со дня на день она придёт из типографии, но электронный вариант можно скачать в Сети.
При работе над этим сборником мы сотрудничали с Ксенией Агалли, первой женой Игоря Буренина и хранительницей его архива и архива ещё одного замечательного поэта, друга и учителя Буренина, Сергея Дмитровского. И это было очень приятное сотрудничество, позволившее выпустить книгу без ошибок и с бережным отношением к текстологической стороне материала. Как многие из вас, наверное, знают, мы очень внимательно работаем с текстами и вокруг нас образовалась команда наследников и друзей героев нашей антологии – все по-разному относятся к наследию своих близких, но довольно мало случаев, когда человек всесторонне помогает в работе, готов перечитывать книгу и что-то советовать в её составлении. Случай с Ксенией был именно таким, редкостным.
С составлением история тоже непростая. Я первоначально составил книгу и предложил для неё несколько названий, одно из них было «Ресничный букварь», но Ксения не согласилась с предложенным вариантом составления и названием – и я понял затем, что для этого у неё была веская причина: сборник Игорь Буренин составил перед своей смертью, и это редкий случай, когда нам удалось соблюсти авторскую волю.
И давайте прочитаем предисловие Ксении к книге:
Гоша Буренин родился архитектором, учился на архитектора, жил как архитектор и, смею надеяться, перед смертью не успел до конца развоплотиться и сохранил в крови – или хотя бы в сукровице – умение разглядеть в наружном веществе арки и колонны, капители и фронтоны, и пригвоздить их к плоской белой поверхности, обвести тонким пером с тушью, чтобы и мы, слабовидящие, заметили и восхитились. Когда не стало пера и туши, когда отобрали пергулы и карнизы, Гоша стал – хотя всегда им был – художником и начал все больше рисовать и все меньше чертить. И так, знаете ли, удачно, что его работы норовили прикарманить все кто мог – от галерейщиков и организаторов выставок до почтенных психиатров, убеленных должностями, званиями и сединами. Не будем винить Гошу за то, что это его огорчило (а вы думали – обрадовало?), – настолько, что он отвернулся от бумаги для рисования и обратился к машинке для печатания, решив подчинить и взнуздать слово так же бережно и так же безукоризненно, как он до этого поступил с линией и цветом, плоскостью, пропастью, воздухом и вздохом. Для этого пришлось разъять себя на молекулы и воздвигнуть заново. Не его вина, что конструкция получилась хрупкой и не очень долговечной, – она оказалась не менее плодоносной и щедрой, чем предыдущая. Просто быстро кончилась. Перед вами некоторая часть того, что осталось от нее – вместо нее – из нее.
Также я очень горжусь, что предисловие к книге написал Валерий Шубинский, который рассказал в нём о львовской поэтической школе и о несостоявшейся встрече с Бурениным. Одно из послесловий принадлежит литературоведу Валерии Мориной – которая писала под руководством Михаила Павловца диссертацию о львовской школе. И Валерий Шубинский, и Михаил Павловец присутствуют сегодня с нами и скажут своё слово.
Хочу сказать и про обложку: мы долго думали над ней и решили выбрать рисунок Буренина – это акварель 1983 года. Как написал про неё критик Станислав Секретов, это «две горы, два дерева, два цвета. Столкновение, но в то же время и симбиоз двух миров».
Сегодня я призываю читать стихи Буренина, говорить о нём и попытаться осмыслить – что такое явление поэзии Игоря Буренина, что такое феномен львовской поэтической школы? С нами присутствуют как литературоведы, уже изучавшие творчество Игоря Буренина, так и его друзья, люди, знавшие его при жизни. И хотелось бы прочитать пару стихотворений.
* * *
на дне языка в голубиных потёмках живого –
за земли ушедшей под воду голодной низины
отдавший и вязкую спелость инжира в корзинах
и сизый в глубоком глотке голубеющий воздух –
по локоть навеки в капканах слепой ежевики
родимых ежей пересчитывать – бывшая воля –
но выдрать из гнёзд позвонков где живое нервозно
первину от имени, ткань известковоязыких
в тени языка за раскованной косностью нёба –
гортанные дыры и чёрные сквозь ножевые –
какие миры вырезают дороги кривые
из круга камней и крапив перепонок и рёбер!
какие места! мы здесь чудом на дне побелевшем:
помёт на уступах и в корни ушедшая речка
и с миром совпавшие в сумерках – русло и рельсы
картина горы и гора над серпом побережья
* * *
мой близнец, божевольная золушка, –
в пепле губы, в крови ли рукав, –
ни на убыль, ни, горе, ни в прошлое
не исходишь, – заложница, зёрнышко
в недозволенной мгле языка –
время терпко, – и то: не тревожь его,
однокровный, родной мой ахав, –
сколько можно утюжить подошвами,
излечимы ли наши срока?
нет, не устричный мрак чудака
и не пушкинский бред о психушке, –
просто страх перед ухнувшей двушкой
и молчанием – наверняка:
просто страх перед ржавой копейкой.
жизнь, как жизнь: то ли рыжею кепкой,
то ли клёвым словечком «жакан»
враз кишки обнажит, – ну, аркань, –
жбан поставлю! – шарахни, но метко,
ты же знаешь, я сильно учён, –
мне что двушка, что вышка, что пёрышко, –
только чтоб не молчал телефон,
только бы не молчал телефон,
мой близнец, божевольная золушка.
Сейчас – слово Валерию Шубинскому, автору предисловия к книге.
Валерий Шубинский: Добрый день. Борис, я надеюсь, что не обижу Вас, если скажу, что к самому проекту «Уйти. Остаться. Жить» я отношусь сложно, потому что мне кажется, что ранняя смерть – это не то, что объединяет поэтов. Можем ли мы объединить, к примеру, Леонида Аронзона и Николая Рубцова – поэтов одного поколения, оказывавшихся в одно разное время и в одном месте? Рано погибший – и что? Никакого сходства не возникает. Недавно ушёл Василий Бородин – но главное в нём не то, что он рано ушёл, а его поэзия.
Тем не менее в судьбе двух поэтов – Сергея Дмитровского и Игоря Буренина – факт их безвременной смерти, как мне кажется, важен. В обоих случаях есть оттенок трагической экзистенциальной неудачи и обречённости. Неудачи, которая на другом уровне оказывается удачей.
Я вспоминаю 80-е годы – и вижу ситуацию, которую сейчас трудно уже представить. Потому сейчас мы все, пишущие, существуем в одном, общем поле, быстро получаем информацию и в состоянии на эту информацию оперативно отреагировать. А тогда мы даже внутри Ленинграда не представляли себе, что происходит в соседних кружках, – и тем более что творится в соседних городах, в других зонах русского языка и культуры – в том же Львове. Более того, Львов воспринимался как центр не столько русской культуры, сколько украинской, польской, австрийской, и только сейчас мы знаем, что в этом контексте и окружении рождались очень интересные явления русского языка. Что происходит в Ростове-на-Дону, мы тоже не знали.
Что порождала такая ситуация? С одной стороны, эпигонство, потому что информация доходила с огромным опозданием. Очень интересно, что с этими львовскими поэтами такого не произошло. Дмитровский наследовал ленинградской школе, в особенности Аронзону, а Буренин – он пошёл по совершенно отчаянному пути. Он воспринял что-то из того, что делалось в московской и ленинградской поэзии трёх десятилетий, какие-то обрывки, и стал по-своему это достраивать – углубился в какие-то бездны языка, в какие-то тёмные языковые ходы. В его стихах есть та смелость, которая была в стихах начала 60-х годов, например, у Роальда Мандельштама или Станислава Красовицкого. Смелость человека, пришедшего на пепелище. И в то же время он в итоге приходит к тому, к чему пришли его сверстники. Это интересная поэтика – а ни в коем случае не «хорошие стихи вообще». Это не стихи, которые можно включать в любую антологию, они не для этого предназначены. В них есть некоторая внутренняя тревожная незавершённость.
На фото: Валерий Шубинский
Борис Кутенков: Спасибо, Валерий Игоревич. Следующий наш выступающий, Михаил Павловец, работал над диссертацией о Львовской поэтической школе, которую писала Валерия Морина. Михаил Георгиевич, скажите, пожалуйста, какие выводы Вы сделали из этой работы, выделяли ли как-то Игоря Буренина и изменилось ли Ваше мнение о нём после выхода книги?
Михаил Павловец: Спасибо, Борис, и за приглашение, и за то, что вообще такое мероприятие происходит. На самом деле диссертации не было – в этом проблема: была лишь работа над диссертацией. Тогда я числился в небольшом педагогическом институте, у нас была довольно сильная команда на кафедре: Юрий Борисович Орлицкий, Илья Кукулин, Евгения Вежлян (Воробьёва) и др. Мы занимались неподцензурной литературой, это была наша тема, у нас был научный семинар, была регулярная конференция, и как-то эта тема притягивала к себе исследователей из других городов, из других стран. Тогда Лера – ещё Мухоедова – появилась: она сама пришла с этой темой – так сложилась её жизнь, что она познакомилась с людьми, знавшими Сергея Дмитровского и Игоря Буренина, написала очень удачный диплом. Потом мы планировали продолжить это в виде диссертации. Но некоторые личные события помешали этому. Были изменения в жизни самой Леры, в результате которых, в частности, она стала Мориной; я поменял место работы – это был злополучный 2014 год. Поскольку всем ясно, что это за год, возникли ещё некоторые барьеры: в частности, Лера, кажется, не могла ездить во Львов, где она могла собирать материалы. Так что тема заглохла сама по себе. Я очень рад, что нам удалось опубликовать статью Леры в малодоступном сборнике нашей конференции; потом я старался рассылать этот сборник разным людям, чтобы они могли его читать.
Честно говорю, для меня львовская школа проблематична. Во-первых, это не та поэзия, которая мне безусловно интересна – притом что некоторый интерес к ней у меня есть. Благодаря Лере я познакомился с тем, что было ещё не опубликовано, она тщательно собирала эти тексты. Я не понимал, почему это школа: для меня школа всё-таки более строгое литературоведческое понятие, когда круг молодых поэтов кристаллизуется вокруг некоей авторитетной фигуры. Понятно, почему можно называть школой, например, «Лианозовскую школу»: у них был Кропивницкий. Можно говорить о «филологической школе», потому что там были старшие товарищи, принятые в ЛГУ, потом выгнанные обратно, – Михайлов или Красильников. А вот на что ориентировались львовяне – было не очень понятно. Ясно, что там в основном два человека: это Буренин и Дмитровский, остальные скорее создают среду, будучи несоразмерными этим двум фигурам. Все помнят, что Ахматова встречала своих гостей, задавая им вопросы: «Собака или кошка?», «Кофе или чай?», «Москва или Петербург?». Вопрос этой кристаллизации неподцензурной поэзии вокруг двух городов – Москвы и Ленинграда/Петербурга – стоял очень остро. Но было ощущение, что львовяне словно провалились между этими двумя полюсами. Безусловно, они скорее тяготели к Ленинграду, об этом писала Лера в своей работе. И свидетельство Валерия Шубинского про то, что их не слишком приняли, когда они пытались найти в Ленинграде какую-то общность, какое-то понимание, – очень важное. Я помню своё первое ощущение, когда я читал эти первые Лерины распечатки, – что Буренин, по крайней мере его стихи начала 80-х годов, словно мечется между полюсами Пастернака и Мандельштама. Потому что, с одной стороны, когда я читаю: «так до потопа – по весне / где обрывает сходни север – / толкни булыжник! боль в десне / качнёт дома запахнет серой» – я слышу здесь «пастернакипь». С другой стороны: «ой, стеклянная дура, надэкранное солнце, – / всё ты черишь ходами червлёных ладей / и тенями статистов, речей, комсомольцев, – / и колодами звёзд, и трефями блядей» – при всей выпуклой оригинальности этих строк мне всё равно слышится мандельштамовский голос, особенно в пристрастии Буренина к рядам существительных-тройчаток – что было свойственно Мандельштаму. Мне было ужасно интересно, как он пройдёт между этими Сциллой и Харибдой.
И спасибо за книжку, я читал её с огромным удовольствием, – особенно то, что не вошло в «луну луну», потому что «луна луна» у меня есть в виде файла. Мне были интересны другие тексты, которые я ещё не видел: это большая работа, очень важная. Я увидел лицо Буренина, вырисовывающееся ближе к середине-концу 80-х; я увидел, что, во-первых, меняется его словарь. Во-вторых, меняются интонации – его стих становится более внятным, потому что, конечно, начало 80-х годов – это фактически герметический стих, где слова, взаимоотражаясь, образуют неожиданный семантический узел. В чём-то это напоминает метаболы метареалистов, в которых сближаются полюс природный – и полюс ментальный, полюс человеческого духа. Понятно мандельштамовское стремление «сойти по лестнице Ламарка» куда-то к истокам иного мира и мира природного, живого. В его поэзии как бы смыкаются эти два пути, и взаимная обращённость метафор друг на друга, перетекание природного в ментальное, а ментального в природное и составляют лица необщее выраженье поэзии Буренина. Это действительно близко и Парщикову, и Жданову. Притом что это по-своему оригинально сделано. Понять это я смог только прочитав эту книжку, за что большое спасибо.
Заканчивая своё выступление, хочу сказать, что я немножко похулиганил. Есть такой статистический SEO-анализ по лексике – можно расписать некий корпус текстов по наиболее повторяющимся словам. Мне было очень интересно, какие же повторяющиеся слова компьютер определит у Буренина, насколько результат ответит моим ожиданиям. Во-первых, если я правильно делаю вывод из того, что я увидел, – у него довольно много повторяющихся существительных, по крайней мере в основном из них состоит первые два десятка слов (если не считать наречий «ещё» и «уже»). У него, как у наследника Серебряного века – в большей степени даже символистов, чем в постсимволистском изводе, – есть свой устойчивый словарь, который перетекает из одного стихотворения в другое. Этот словарь довольно стабильный. В первую десятку входят такие существительные, как: «рука», «воды» (причём не «вода», а именно «воды»), «свет», «слово», «время», «осень», «сон», «небо», «воздух» и «кровь». Это, с одной стороны, категории пространства – «время», «свет», «небо»; с другой – то, что имеет отношение к человеку: «рука», «кровь». Если брать вторую десятку, то она добавляет разве что некоторую локализацию, конкретизацию этим категориям: «дождь», «ночь», «август», «луна», «земля», «река», «край», «леса» (а не «лес»), «август», «глаз». Ну и ещё «снег» и «язык». Затем появляются глаголы. Здесь довольно любопытные результаты, хотя у меня есть сомнения, что система правильно их прочитала. «Говорить», «дрожать», «любить», «терпеть», «казаться», «тенить» (???) – не знаю, что это за слово; «спать», «пить» и «уйти». Ну а потом уже, с третьего десятка, появляются прилагательные, очень узнаваемые для Буренина: «пустой», «сонный», «каменный», «слепая», «нежный», «прозрачный», «терпкий», «хрупкий», «зеркальный» и «влажный». Очень интересно, что все эти слова перекликаются с тем набором существительных, которые я нахожу. Эта выборка показала мне, что она релевантна тому, что я вижу в поэзии Буренина. Тут мне остаётся только солидаризироваться с Валерием, что это подлинный поэт, не эпигон. Это поэт со своим словарём, со своим языком. Непростой поэт – не демократический, но необходимый. Поэтому большое спасибо за это издание и за возможность высказаться.
На фото: Михаил Павловец
Борис Кутенков: Спасибо, Михаил, очень интересно было то, что Вы сказали о метареализме и о метаболах. Мне тоже кажется, что тут есть определённое влияние метареализма – я, например, отмечал сходство Игоря Буренина с Иваном Ждановым. Но ещё до выхода книги была опубликована статья Елены Мордовиной, присутствующей на нашей конференции, и Елена «инкриминировала» Игорю Буренину влияние концептуализма, назвав статью именно так: «Немосковский концептуализм». По этому поводу развернулись споры, потому что в комментарии пришёл один литературный критик, который пишет как раз о метареализме, и заявил, что ни метареализма, ни концептуализма у Буренина нет, а есть якобы общие места. Мы с ним, разумеется, не согласны. Но давайте попросим высказаться Елену Мордовину. Что Вы имели в виду под концептуализмом в своей статье и изменилось ли Ваше восприятие после выхода книги?
Елена Мордовина: С моей стороны это тоже было определённое хулиганство и провокация – назвать поэзию Буренина концептуализмом. Здесь я имела в виду скорее то, как внутри практически лабораторных условий так называемой львовской школы, пространства, отделённого от метрополии, возникали такие вещи. Я не буду противопоставлять: тут вызревал и концептуализм, и метареализм. Мне кажется, что если бы участников этого условного эксперимента было больше – например, десятки и сотни, а не горстка поэтов, – те начинания, которые мы можем видеть в разбросанных по страничкам одностишьях (как в карточках Рубинштейна), мы могли бы увидеть, как из некоторых конструкций вызревает полноценный концептуализм. Но с моей стороны, повторюсь, это была скорее некоторая провокация: посыл подумать над этим. И мне кажется, что если бы число львовских поэтов было таким, как, к примеру, петербургских, то во Львове мог вызреть и метареализм, как отдельное явление, и концептуализм. Но даже в таком концентрированном виде четко заметны их элементы.
С тех пор, как вышла эта книга, и с тех пор, как я написала эту свою статью, я тоже думала о том, стоит ли называть это школой, – как многие здесь присутствующие. Сначала я склонялась к тому, что школой называть их нельзя, – потому что перед нами люди, совершенно случайно оказавшиеся в этом городе и творившие в одной компании. А сейчас я прихожу к совершенно полярным выводам. Почему? Потому что, если знать Львов, если побывать в этой среде, – конечно, я не сравню современный Львов и Львов 80-х; тогда он был не настолько украиноязычным, русский язык чаще звучал и университетская среда формировала русскоязычное поле, – мне кажется, что это всё-таки была какая-то языковая лаборатория. Поскольку этот пласт общения – он был отделён от нижних языковых пластов. Язык базара, рынка, общественного транспорта – это мы в себя впитываем, плаваем в этом, как рыбки, в Ленинграде или Свердловске. Во Львове всё по-другому: даже в 70-е – 80-е было по-другому; был язык, существовавший вне «нижнего» языкового пласта, и группа людей, именно на этом языке общавшихся между собой, которая была отделена от влияния этого быта. Поэтому я бы сказала о львовской языковой лаборатории: мы видим, как в стихах Дмитровского и Буренина вызревают какие-то вещи, какие-то в большей степени раскрылись в других школах, например, в ленинградской. Эволюционная теория прогрессирует в моём восприятии этого всего. Когда выборка небольшая, то больше концентрация того, что в других популяциях появилось по отдельности. Здесь всё как бы в зачатке, тем оно и интересно: можно увидеть проявления разных школ. В современном мире им не с кем было себя соотнести – они не так часто ездили в Москву, чтобы, например, общаться с тем же Рубинштейном. Среда не была взаимопроницаемой, и, мне кажется, интересно это всё сравнить.
Мне близок термин, который употребил ленинградский писатель Давид Дар в письме Константину Кузьминскому. Он назвал поэтическое движение 50-60-х «ленинградской эпидемией гениальности». В письмах Кузьминскому Давид пытается выяснить, кто же занёс этот микроб гениальности в ленинградский пласт культуры. Тогда он считал, что это Уфлянд. А здесь, я думаю, микроб гениальности занёс Дмитровский, этот микроб проник во всю остальную популяцию, и возник этот шлейф гениальных, талантливых и менее талантливых поэтов. Можно это назвать львовской эпидемией гениальности.
На фото: Елена Мордовина
Валерий Шубинский: Интересные очень вещи говорили по поводу Львова. Я забыл сказать, что у Елены Шварц есть проза, написанная от лица её альтер-эго, поэтессы из Львова. Параллелизм между Львовом и Петербургом ощущался и ощущается… Тут ещё очень важна разница между Восточной и Западной Украиной. На востоке и в Киеве русский и украинский языки часто сливаются, многие говорят на суржике, а в западных областях украинский язык (на котором там говорит подавляющее большинство, в отличие от востока) дальше от русского и жестче от него отделён. Это чувствуется в стихах Буренина, где звучат украинизмы: «божевольная». Работа человека, живущего в иноязычной среде, – это очень интересно.
Юлия Подлубнова: Игорь Буренин, которого назвать Гошей ‒ значит сломать какие-то тонкие настройки слуха, ибо поэтологически он не Гоша, а именно Игорь без каких-либо усмешек, ‒ поэт не совсем львовский. Здесь я согласна с Валерием Шубинским. Точнее, львовский только географически (да и то не тотально, учитывая его перемещения по Союзу) и в плане включённости в львовское поэтическое сообщество. Отдельные топографические реалии, просочившиеся в его тексты, не имеют существенного значения. Львы? В каком городе их нет? В Ленинграде, в котором прожил Буренин около года? Хватит на целый архитектурный зоопарк. И снова соглашусь с Валерием Шубинским: если непредвзято анализировать поэтику Буренина, то неподцензурный Ленинград оказывается поэту ощутимо близок. Начиная с Леонида Аронзона, которого Буренин, судя по отдельным текстам, пристально читал, продолжая Олегом Юрьевым, кажется, наиболее убедительно в своем поколении преодолевшим притяжение к Мандельштаму, и вплоть до Игоря Булатовского, но это уже в качестве почти неуловимой возможности, какого-то только намечающегося, едва заметного движения у Буренина в будущее.
Собственно, до 1988 года Буренин, кажется, решал именно ту самую непременную для поколения поэтов-восьмидесятников задачу преодоления Мандельштама, который тем не менее сформировал его поэтическую систему ‒ настолько узнаваемы мандельштамовские в книге лексика, тропика, метрика, синтаксис, а главное, виртуозное лавирование между вещью и смыслом, предметным и культурным. Так что, если искать что-либо исключительно буренинское в текстах начала и середины 1980-х, то это окажется лишь некоторая поглощённость собой, выдающая юность говорящего, да и в целом логика субъектности ‒ когда стихотворение питается исключительно энергией лирического, что всё-таки в меньшей степени характерно для Мандельштама, как бы настроенного слышать не себя, вне себя.
Между тем, довольно серьёзное увлечение Буренина Мандельштамом дает право сопоставлять поэта не только с ленинградцами, но и с другими восьмидесятниками, локализованными, например, в Москве, хотя Москвой и не ограничивающимися, а именно с метареалистами. К примеру, что-то подобное мог бы написать и Ерёменко:
дневниковые соты растут и сплетаются ветви
в этом клеточном сговоре времени с шелестом снов ‒
закольцованный кровью колотится воздух в просветах
и таращится сердце из голой грудины лесов
А такое ‒ и ранний Парщиков:
девятого холода циркуль зацепит сетчатку
вскрывая зубастый живот пустотелого льва ‒
по шлемам гремящим над сомкнутой дробью брусчатки
в висок примеряясь царапнет и станет листва
Повышенная ассоциативность Буренина соединяет, сцепляет живое и неживое, что даёт подчас вполне метареалистические цепочки многочисленных превращений предметов и явлений в нечто совершенно неожиданное.
Однако, судя по более поздним стихам, Буренин тем не менее развился в несколько иную сторону, нежели метареалисты. Так, в его текстах 1988-го внезапно появляются следы чтения Бродского («не то чтобы сойти с ума, ‒ / но выйти из дому хотя бы…»), но при этом лишь как знак, некий культурный код, опознаваемый только своими (условно говоря, Бродский тогда ‒ не то что Бродский сейчас, не всенародный поэт, поэт-классик, но поэт для узкого круга любителей поэзии, интеллигенции). В целом же поздние стихи Буренина выглядят так, словно он возвращается в свой домандельштамовский 1981 год и из этой точки перезапускает себя как поэта. Не сложного, ассоциативного, как прежде, но экзистенциально заострённого.
Мне осталось на голых камнях
исчислимое бремя печатей,
край судьбы до сих пор не початый,
бесконечно влекущий меня.
Буренин открывает для себя и эпоху, в которой ему приходится жить, и открытие это оказывается драматически отрезвляющим («храни – храни / хранистобо, хранинасбо, хранининас»). Он словно бы предчувствует драматические изломы 1990-х, равно как предугадывает приемы поэзии этого времени. В некотором буренинском заигрывании с криминалом, пусть даже и эпизодическим, в виде прорывающейся лексики, мне видится предвестье поэтики Бориса Рыжего.
На фото: Юлия Подлубнова
Ксения Агалли: Имена Жданова, Парщикова и чуть в меньшей степени Ерёменко звучали у нас всё время ‒ наш небольшой круг знал и ценил этих поэтов. Бродского знали, безусловно, но особой увлечённости не было, да и знали мы не так много, книги ещё не были напечатаны, а интернет ‒ изобретён.
На фото: Ксения Агалли
Валерий Шубинский: Здесь упоминался Булатовский – конечно, он, как и Борис Рыжий, приобрёл известность ближе к концу века. При жизни Буренина, умершего в 1995 году, эти, столь разные, поэты только делали первые шаги. И еще меня удивили слова, что Бродский в 1988 году – поэт для узкого круга, для интеллигенции. Его не печатали до 1987 года, но самиздатские тиражи его были огромны. И наше поколение очень хорошо его знало.
Александр Марков: Разговор о Гоше Буренине и о львовской поэтической школе трудно начинать, потому что истоки его поэтики кажутся очевидными. Это, конечно, Заболоцкий и Аронзон, их натурфилософия. Но в своём выступлении назову три пункта, которые отличают Буренина от названных достижений русской лирики XX века.
Прежде всего – его натурфилософия складывается не из прямого впечатления от происходящего, не из непосредственных восприятий пережитого, а из сарказма, из гротеска – из того, что мы называем речевыми жанрами.
промасленный полдень; казенная арка;
тщедушные тени в развалинах парка, –
и венециангельских тварей биенье
над нищенской коркой, – консервная банка
пуста и вещает московское время.
Казалось бы, здесь обычное для натурфилософии XX века соединение природы и культуры, их неразличимость, запутанность их языков. Но эта запутанность располагается вдоль силовых линий вполне определённого жанрового свойства, а именно: указание на сниженное вещание – речь передаётся консервной банке; почти саркастичная интонация. «Венециангельские твари» – вполне характерная ирония для поэтики гротеска и в целом как будто бы насмешка над всей культурой. Сама поэтика гротеска соединяет человеческое и животное, ангельское и растительное – и здесь она дана в совокупности. Можно сказать, что Буренин давал краткие формулы того, что называется речевыми жанрами: своего рода символы их. По отношению к старой поэтике гротеска он, конечно, символист: он не развёртывает сюжет иронически, саркастически или наоборот, медитативно, а превращает медитацию в какие-то краткие слова. «душа! – ты хотела же всё без обмана?» – то, что могло бы быть размышлением в духе Паскаля, становится просто способом обратиться к душе, найти формулу того, что такое душа.
Гоша Буренин, конечно, символист – и даже математик, выводящий формулы для речевого высказывания.
и в блёстках фольги одеянья волхвов, –
лубочный вертеп, а не волчая яма, –
и придурковатой колядки с лихвой
хватило б на мглу, на обрыдшую хворь:
бормочешь и куришь всю ночь – без обмана! –
бормочешь и время сверяешь с москвой…
Как вывести формулу, например, культурной новизны? Взять одновременно рождественскую ностальгию, кич, дух Западной Украины с «вертепами» и «колядками», страх перед оборотничеством в той же Восточной Европе – и превратить то, что было бы у другого поэта экзотикой исторического существования, размышлениями об удавшемся и неудавшемся в истории, в формулу того, что, собственно, можно переживать. Что мы переживаем, когда от истории ничего не осталось? В этом смысле Гоша Буренин как многие поэты его поколения, – поэт постисторической катастрофы, поэт пейзажа после битвы.
С этим связано второе свойство. Это то, что я назвал бы выворачиванием миссии поэта. Исторически миссия пророка связывалась с образами пророка, собеседника, ангела, вещающего перед людьми неземного существа, херувима. И даже несмотря на осмысление этих амплуа в иронической или последующей традиции, сами эти векторы оставались. Можно было как угодно относиться к миссии пророка или учителя – тем не менее сама динамика строк говорила о том, что поэт продолжает учить, наставлять, именовать, заявлять о вещах. Сам стиховой материал, само писание в рифму продолжало нести в себе эту культурную память. Вот что делает Буренин:
и, как солдат ушёл за пулей, –
она ведь пела и звала! –
душа скользнула – и дотла:
зола, залей, залай, зозуля,
завой, что долбаный полкан,
но не тверди треклятый номер –
чей номер? – паспорта? полка?
довольно, что с ума не сходит.
Казалось бы, это простой очерк массовой гибели на полях двух мировых войн, когда от солдат остаются только жетоны с номерами. Но отсылка к солдатской песне «Ой вы, пули…» и к разного рода пулям — «пули французские, палочки русские» (Некрасов) – и это всё, что мы знаем из наследия войн ещё XIX века. Уход поэта в пространство заката, в некий Эдем своего детства или, наоборот, невероятного небывалого будущего оказывается совершенно безличным. И здесь фактически не осуществление миссии поэта – прийти, назвать, сказать, – но, наоборот: не твердить этот номер и собрать ум ради погибших поэтов, которые продолжали говорить: «зола, залей, залай, зозуля». Это такое собирание голосов погибших поэтов. Фактически Целан делал то же самое – нигде у него нет миссии поэта в прежнем смысле, сам строй его стихов показывает только возможность миссии человека, но не миссии поэта. Тогда как поэт только собирает золото высказываний тех, кто погиб и уже не вернётся, уже как зола, которая внезапно оказывается золотом… Неслучайно зола – один из образов поэзии Целана, пепел и алмаз, как у Вайды, значение которого выходит далеко за воспоминания о бомбардировках и относится к тому, что, по сути, остаётся в истории: к исторической гибели вообще. Это и форма припоминания, и форма бессмертия, которое только и дано современной поэзии.
Если вторая особенность связывает Буренина с традицией европейской послевоенной поэзии, поэзии поминания, то третье свойство – речь Буренина не риторическая. Этим он отличается и от Заболоцкого, и от Аронзона, которые были по-разному, но риторичны. Эту речь я бы назвал схоластической – но не в бранчливом смысле, не в смысле указания на какие-то толстые книги по богословию, а в том смысле, что схоластическая речь помнит историю своего обучения. Здесь я впервые задал вопрос; здесь я впервые доказал теорему; здесь я впервые вступил в диспут с каким-то магистром. То же самое происходит в речи Буренина.
немеют жернова, спешит рука –
пора, пора прощать уже на слове, –
спешит рука, все легче быть не внове,
в коробке света спит уставший ка –
и век шуршит тихонечко, по-вдовьи.
То есть идёт рассказ не только о том, что поэт готов природу простить на слове, или о том, что природа обличает наш век и тот на её фоне оказывается тороплив, или что поэт готов смириться со спокойствием природы. Но это онемение, что пора прощать под звук немых жерновов страха – так вспоминает человек, что «я впервые сдал экзамен и очень боялся», или «как я впервые попытался поспорить с учителем и устал – хорошо, что этого никто не запомнил и не заметил».
и, кажется, могла бы быть река
в багровой, шелушащейся основе
всех стрыйских парков, всех царапин львова:
убогому брега нужней, чем совесть, –
дома текут, плывет трамвай в рукав,
и шпили плавают по небу и по крови, –
но здесь должна, должна была река…
Здесь то, что у другого поэта было бы пейзажем, масштабным и при этом сюрреалистическим видением города, у Буренина становится историей речи о городе. Пейзажная речь осознаёт свою убогость – и в конце концов исчезает вроде того, как получивший за сочинение «как я провёл лето» тройку начинает думать, из-за чего такая низкая оценка.
Итак, три свойства Буренина. Первое – его работа с речевыми жанрами и склонность к гротеску. Второе – миссия поэта выворачивается, поэт не идёт как проповедник или облечённый властью Аполлона и Музы, а собирает высказывания поэтов. И, наконец, третье – принципиальная не риторичность, а схоластичность: тут чувствуется связь с западной традицией схоластики, особенно православно-католического фронтира Львова. Конечно, схоластическая традиция, помнящая об учёбе, – для меня главное в поэзии Буренина. Я бы назвал его поэтом-схоластиком.
На фото: Александр Марков
Елена Семёнова: Я хотела бы поблагодарить всех коллег за интересные рассказы о Гоше Буренине и «Львовской школе». В создании книги я практически не принимала участие – только обсуждала выбор обложки. Тем не менее скажу несколько слов. В книжном приложении к «Независимой газете» «НГ-Ex Libris», где я работаю, недавно вышла рецензия Горы Орлова на книгу «луна луна и ещё немного». Он делает акцент на том, что в стихах Буренина много очеловеченной природы. Я бы с этим не согласилась, хотя рецензия сама по себе очень интересная. Буренин выстраивал метафоры, исходя из, если так можно выразиться, природы, перевоссозданной в искусстве. Можно взять любое стихотворение и найти там архитектурные, художественные детали. Вообще, для меня поэзия Буренина очень визуальна, и больше всего связей и ассоциаций возникает с сюрреализмом и авангардом. Мне представляются картины Теодора де Кирико, Марка Шагала. В произведениях ощутимо нечто невероятное, визионерское, сновидческое. Благодаря синтаксическим сдвигам, пунктуационным неправильностям и потоку сознания создаются неожиданные картины. Отдельные вещи, как мне кажется, написаны если не автоматическим, то полуавтоматическим письмом. И я согласна с уже высказанной мыслью, что в Буренине очень сильно выражено поэтическое мироощущение Мандельштама: он ощутим очень во многих строках. Но подчеркну: это вовсе никакое не эпигонство, а абсолютно оригинальная поэтика. Когда я вчера перечитывала стихи, я также услышала отголоски творчества Пастернака.
Не знаю, обратил ли кто-то на это внимание, но в разделе «ещё немного», дополнившем книгу, стихи очень отличаются от тех, которые составили основной корпус. В них меньше синтаксических разломов; для меня Буренин в этих стихах более целостен, спокоен, величествен. Возникает визионерство, с полным осознанием уверенности в каждой строке. Здесь я отчасти почувствовала сближение с другим поэтом нашей антологии – Владимиром Гоголевым (1948–1989), который был сильно верующим и многие его стихи напоминают молитвы.
Чьи сны – долги, чья кровь длиннее свитка
заветных вех коленчатой родни,
как свиста тень темней хлыста над Ликом, –
я каждой клетки выросший двойник,
впадая в ересь гибкого пространства,
свожу концы наследственной возни
в начале жизни сумеречных танцев,
в глубоком дне, где лишь костяк возник.
Нет, не возник, – забрезжил, стал казаться…
И, полно, брат: сближение планет
есть мера сил в движении расстаться.
Какой дурман могучий от корней!
Я от рождения отвернут и разрознен
сетчаткой памяти, – и только на уме
голубоокий обморочный воздух
и степь, в прыжке подобная луне.
Скажу ещё пару слов по поводу обложки. Рискую вызвать недовольство создателей, но мне понравился один из первых её вариантов, который был выполнен в авангардном, абсурдном, обэриутском ключе. Такая обложка, как мне кажется, ярче отражает поэтику Гоши Буренина. Соглашусь, что сделано всё законно, книга проиллюстрирована рисунком автора, – но, на мой взгляд, она получилась слишком традиционной.
На фото: Елена Семёнова
Борис Кутенков: А сейчас хотелось бы прочитать рецензию Горы Орлова, которую упомянула Лена. На мой взгляд, это замечательное и точное вживание в поэзию Буренина.
(Рецензию см. здесь – Прим. ред.)
Валерия Исмиева: Меня очень зацепило, что Буренин начинал как архитектор. И, более того, архитектор вполне успешный – неслучайны слова Ксении Агалли, что его проектами даже пользовались, что-то пытались у него схватить. Я могу вспомнить ещё одного поэта с архитектурным образованием – Анну Глазову. Что здесь кажется мне интересным? Архитектор принципиально выстраивает структуру, очень последовательно. Неслучайно, что Ксения говорит о всяких портиках, барельефах, которые подчёркивают наличие внутренней структуры. В своих стихах Буренин (как во многом и Глазова) идёт от прямо противоположного. То есть от способов видения как архитектора – он либо полностью отказывается, либо переформатирует их настолько, что они уже не опознаваемы.
Ксения также говорит, что для того, чтобы начать писать свою поэзию, ему пришлось «разъять себя на молекулы и воздвигнуть заново». Слово «воздвигнуть» предполагает какую-то твёрдую форму: здесь её принципиально нет. Здесь есть некая среда, и если отдалиться от поэзии и посмотреть на то, что происходит в поэзии последних десятилетий, мы увидим попытку вместо жёстких структурных построений найти другое видение мира – через волновую структуру попытаться понять, как реагирует среда. Мне кажется, что у Гоши Буренина есть попытка интуитивного нахождения своих философий – он идёт не от идей, не от какой-то ментальной установки, а – скорее сходно с Анри Бергсоном, который принципиально черпал познание и понимание из состояния непрерывности интуитивного восприятия.
Неслучайно, что в стихах Буренина много природы, в них отражаются глубинные внутренние переживания, но автор здесь не индивидуалистичен, он уклоняется от обозначения себя как мыслящего субъекта и рассказа о себе. Можно вспомнить такой период в истории культуры, как досократическая греческая натурфилософия, когда философ пытается постичь себя как часть мирового пространства, причём философствование формулируется зачастую не через сухую прозу, а в поэтической форме. Я бы сказала, что поэзия Буренина – попытка войти со свежим взглядом в этот философский поток, интуитивно нащупывая иные основы бытия. Его метод – движение с линзой в густой взвеси, когда мы сначала видим какие-то отдельные фрагменты, а потом оказывается, что нет: это не случайные фрагменты, это какие-то узлы, связи, и из этих связей формируется совершенно другая картина.
Я бы хотела процитировать стихи, которые мне понравились. На мой взгляд, это очень интересная лирика.
Страсть вольницы, святая послушанья,
где шаг весомый строгих аксиом
тревожит сны, но охраняет Сон,
надежную пространственность внушая, –
– а что до жен, то правишь ТЫ веслом, –
так древний пел: из пригоршни Тянь-Шаня
на вечер – снег. И день за днем – лишайник.
Игла следит шаги и цедит зло, –
– Адам, Адам! – расталкивая сгустки,
звенит, зовет, корчуя выход в русло,
горячее, как царствие в Египте.
Так царствуй волею над страхом и невежей,
не вспоминая прежнюю обитель,
не обернись, – Но, Боже, звезды те же…
На фото: Валерия Исмиева
Ксения Агалли: Хочу обратить внимание на две мандельштамовские строчки, которые часто звучали в наших разговорах с Гошей, – «Недалеко до Смирны и Багдада, / Но трудно плыть, а звезды всюду те же». Последняя из них в урезанном виде перекочевала в это стихотворение.
Валерия Исмиева: Здесь можно говорить и о христианстве, и о язычестве, но, на мой взгляд, всё это претерпело в стихах Буренина глубокие трансформации. Если бы этот поэт продолжил писать стихи и мы увидели его в зрелом возрасте (хочется верить, что Бродский на его поэзию всё же не оказал бы существенного влияния, он совсем иной поэт, его поэзия – система с чётко выстроенной кристаллической структурой), мы бы увидели более отчётливо результаты его способа постижения мира.
То, как Буренин пытается постигнуть феноменальный мир, приводит к значимости для него образов реки и воды. Причём это не капля воды (хотя есть и такие варианты), а «воды» – то есть поток, в котором хочется найти иные связи. Я говорю об аспекте, который показался мне интересным, не претендуя на всеохватность. Этого поэта интересно исследовать не как эстета: он глубже, серьёзнее. И, может быть, внутренне бескомпромисснее и честнее.
Не сон – отвязанная явь
свела далёких нас губами,
околицы сшибая лбами
на перепутьях, не щадя…
Еще язвительно шутя, –
и сколь губительно! – над нами,
столицу Смуты поднимала
семью холмами на дождях,
но, отсмеявшись, обнимала.
Но вот: уснувшее дитя, –
всем целовальная приманка, –
да мутных расстояний арка
и, перекрестно, тополя
в ряду горячечных подарков –
и мы, прижавшиеся к нам.
Что такое «мы, прижавшиеся к нам»? В финале стихотворения человек возвращается к себе, уже будучи другим, уже не будучи собой прежним. То есть с каждым из этих «мы» произошло какое-то постижение, трансформация, но мы смотрим извне на этот процесс. Своя логика здесь, безусловно, есть, но она для нас не до конца проявлена, однако эти стихи не из серии «бормотал что-то, и ему просто нравилось сцеплять слова».
Подытоживая сказанное, я бы отметила, что интуитивные погружения в речь как в голографическую среду, в переживание пространства жизни не как структуры, а как среды, волны – очень современно в плане поиска, такой подход становится актуальным сейчас и в поэзии, и в попытке найти неявные процессы и новые закономерности, протекающие в обществе и природе.
Сергей Медведев: Хотелось бы сказать о ростовских мотивах в творчестве Буренина. Мне кажется, их стоило бы изучить, потому что компания, в которую он попал в Ростове, была в меньшей степени поэтическая, а в большей степени рок-н-ролльная. На время его пребывания в Ростове-на-Дону пришёлся расцвет местной рок-музыки, в том числе группы «Пекин Роу-Роу» и её солиста Сергея Тимофеева. Сергей Тимофеев учился в Полиграфическом институте во Львове. Связь между Ростовом и Львовом возникла именно благодаря этому институту. То есть люди из Ростова, которые хотели получить специальность, связанную с полиграфией, уезжали во Львов. Других подобных учебных заведений ближе не было. Они возвращались в Ростов и забирали с собой львовян.
Я думаю, имеет смысл подумать о взаимовлиянии поэзии Сергея Тимофеева и Гоши Буренина, потому что это был один круг общения. Например, мой товарищ отдал ему свою квартиру на окраине города, он там жил, и его гостями были в том числе музыкальные деятели, например Сергей Тимофеев. Я не готов сейчас провести параллели о взаимовлиянии того и другого поэта, но интуитивно я чувствую, что оно есть, и можно углубиться и найти какие-то взаимосвязи. Эта среда, в которую он попал, была не «Заозёрной школой», но близкой к ним. Можно найти взаимовлияние этих крупных фигур – Тимофеева и Буренина.
На фото: Сергей Медведев
Ксения Агалли: Связи с Ростовом были очень тесные, и именно с поэтическим кругом, с Заозёрной школой, ну с Тимофеевым, разумеется. Рок-н-ролл прошел скорее по касательной, через Тимофеева, а заозёрщики и сами писали песни и исполняли их – как Жуков, к примеру, как Лёша Евтушенко, как общий друг и бард Анвар Исмагилов, и в целом были более близки к авторской песне. Иногда случались общие концерты – авторская песня и рок-н-ролл на одной сцене.
Мы называли Львов и Ростов «городами-побратимами», была тогда такая официальная мода упаковывать в одну упряжку разные населённые пункты и осваивать выделенные на это бюджеты. Ну а у нас были свои мотивы и свои методы сближения, и немного спасительной иронии по отношению к внешним нарративам. Это «побратимство» началось задолго до приезда Тимофеева на учёбу во Львов, и оказался он у нас именно по причине «жизни на два города» нашего небольшого круга, а не наоборот. Здесь необходимо также и, возможно, прежде всего сказать об Ольге Эмдиной, первой жене Сергея Дмитровского, одновременно и львовянке, и ростовчанке, чей ростовский дом многие годы был «точкой сборки» и местом притяжения пишущих, поющих, читающих и разговаривающих членов этого «карасса», довольно многочисленного, если хорошенько посчитать.
Борис Кутенков: Сергей, может быть, Вы скажете пару слов о Буренине как о человеке? Если это позволяет этика…
Сергей Медведев: Боюсь, что этика не особо позволяет. Можно в обтекаемой форме называть это злоупотреблением спиртными напитками. Это занимало в последние годы достаточно существенную часть его жизни, и тот же Максим Белозор, когда пишет о нём в «Волшебной стране», вообще не упоминает о нём как о поэте: человек не самого близкого круга, но в курсе дел. Думаю, что кроме Сергея Тимофеева или Алексея Евтушенко, с его творчеством мало кто был знаком: он не читал свои стихи. Хотя все остальные, входившие в тот круг, свои стихи читали.
Борис Кутенков: В предисловии Ксении Агалли к нашей книге есть интересный эпизод: «Незадолго до смерти Игорь Померанцев пригласил Буренина на радио читать стихи, но тот отказался, сославшись на свою картавость, поэтому ни аудиозаписей, ни видеоматериалов с участием поэта не сохранилось». А мотивы злоупотребления спиртными напитками – и у него в стихах присутствуют довольно явно.
Давайте предоставим слово Евгению Абдуллаеву.
Евгений Абдуллаев: О Буренине не хочется говорить много.
Как написал Борис Бергер, его друг и издатель его посмертного сборника: «Аннотацию к книге Буренина писал я. Получилось очень коротко, потому, что Буренин больше, чем любые слова. Это, как если хочешь написать что-то огромное и серьёзное, долго думаешь и сидишь над чистым белым листом, а потом понимаешь всё, и ставишь одну точку».
При этом стихи самого Игоря Буренина буквально кипят словами. Начиная с первого же стихотворения этого сборника.
хлеб зацвёл; черствей шинели
лица скомканные спящих
я ревел; солдаты ели;
дождь шипел в угольной чаще
где протяжный лось дубами
плотный лоб чесал под пулю
заскучавших караульных;
танк урчал и пела баня
У Игоря Буренина глаз художника – он и был художником. Стихи людей рисующих – вообще отдельная тема (Лермонтов, Волошин, Бурлюк, Маяковский…). Буренин пишет стихи – в том смысле, в каком художник пишет картину. Разве что используя слова для того, что невозможно передать краской, углем, тушью. «Пейзаж змееносен, зловиден, порочен…»
Слово «порочен» почему-то сразу потянуло в сознании: «барочен». Наверное, оттого что стихи Буренина – барочные стихи; не только в смысле своей образной избыточности, но и, возможно, как отражение Львова, с его оплывающими лепниной церквями.
время терпко: тебя не промолвлю пока
обрастая налётом небесного мела
я ещё только свод немоты потолка
трилобитный початок соборного тела
Притом что сам Львов упомянут в сборнике, вроде бы, единожды, да и то собирательно, во множественном числе.
и, кажется, могла бы быть река
в багровой, шелушащейся основе
всех стрыйских парков, всех царапин львова
И тем не менее, думаю, это тяготение к барокко, отмеченное когда-то Синявским у Гоголя, вообще характерно для русской украинской поэзии. Валерий Шубинский очень к месту вспомнил поэтов-метареалистов – современников Буренина – вышедших, произошедших из Украины: Парщикова, Кутика, Драгомощенко… Шубинский связывает общность их поэтики с их «южностью». Полностью соглашаясь с этим (для меня вообще вся история русской литературы есть непрекращающаяся война Севера и Юга), добавил бы обаяние украинского барокко, в городах к западу Украины усиливающегося почти до тактильного ощущения.
Немного о самом сборнике. Это, безусловно, событие – даже в нашем пёстром литературном мире непрерывных событий. Борис Кутенков делает большое дело, он возвращает нам поэзию неуслышанных и забытых. Поэзию целого – не потерянного, а почти исчезнувшего – поэтического поколения; тех, кому было бы сейчас в районе шестидесяти, если бы они не ушли в районе тридцати. Это были какие-то магнолии в снегу.
Я понимаю, хотелось издать всё, что осталось от Буренина. Когда ещё другой случай подвернется? Да. И все же, в таком оптовом публикаторстве есть и существенный минус. Когда под одну обложку ложатся и замечательные зрелые стихи, и первые пробы пера, и какие-то совершенно проходные вещи. Публикация «всего» Бориса Рыжего в нулевые, на мой взгляд, вторично похоронила этого, в общем, незаурядного поэта под ворохом второразрядных стихов. То же произошло и с относительно недавней публикацией «всего» Дениса Новикова… Напомню, что «весь» Пушкин был опубликован не ранее чем через полвека после его гибели, когда уже его место в пантеоне русской литературы вполне определилось.
Сказанное касается и статей, которых в сборнике явно с перебором. Притом что сами статьи очень хорошие. Особенно Ксении Агалли. В поэзии, особенно русской, есть такое несчастье: пишущие вдовы поэтов. Психологически, конечно, понятно: жизнь с поэтом – обычно не сахар, и после его смерти они пытаются себя как-то вознаградить… Так вот, Ксения Агалли – радостное исключение из этого правила. Она с удивительным тактом пишет о самом Буренине, и с глубоким пониманием – о его стихах.
И все же – четыре текста для одного поэтического сборника многовато…
Не стоит, на мой взгляд, объединять под одной обложкой живой голос поэта и литературно-мемуарные поминки по нему. Если уж строго литературоведчески, то тогда издание должно было быть более академичным, с комментариями, фотографиями, репродукциями графических работ Буренина (какие-то из них я встречал в Сети)… А так получилось: для поэтического сборника – слишком мемориально, для мемориального – недостаточно академично.
Мне кажется, чтобы «оживить», а не просто «эксгумировать», ушедшего поэта, чтобы ввести его имя в живой контекст современной поэзии, и издавать его стоит, как живого. По принципу: самое лучшее, самое избранное. Пусть сборники будут потоньше – но резонанс, уверен, будет пошире. У Бориса Кутенкова замечательный поэтический вкус и чутьё, он сможет это сделать.
Но это, как говорится, из серии пожеланий. И в нынешнем виде сборник вполне удался, с чем я поздравляю и всех, причастных к его изданию, и нас, его читателей. И здесь ставлю обещанную точку.
На фото: Евгений Абдуллаев
Борис Кутенков: Не думаю, что стоит ударяться в крайности: либо академический сборник с полновесными комментариями, либо только стихи. На мой взгляд, голос поэта с голосами говорящих о нём вполне органично получилось совместить в этой книге. Но спасибо Евгению за его замечания. А сейчас прочитаем текст, присланный Алексеем Евтушенко, другом поэта.
Алексей Евтушенко: Если я правильно помню, то родился Гошка 22 февраля 1959 года. Но праздновали почему-то всегда 23-го. Родился в Германии, но где именно, не помню.
Познакомились мы с ним в сентябре 1969 года в селе Лугины Житомирской области Коростыневского района. Точнее, не в самом селе, а в военном городке танкового полка, расположенного в лесу, в трёх километрах от Лугин. Мой папа был начальником штаба этого полка, а Юрий Петрович Буренин, Гошин папа, этим полком командовал. Там же, в Лугинской школе-восьмилетке, вместе и учились. Я в 5-6 классах, Гошка – в 6-7. Хоть и был на год младше меня. Вундеркинд, что делать. Дважды он перескакивал через классы, сдавая экзамены экстерном (через какие именно, не помню). Помню только, что школу он закончил в 15 лет, во Львове уже, куда его родители переехали из Лугин году примерно в 1972-м (моего папу в 1971-м перевели в Кушку, тоже командиром полка). Помню, при знакомстве Гошка меня поразил тем, что знал слово «байт». Это в 1969-м, в возрасте 10 лет! И совершенно не тушевался с теми, кто старше и сильнее. Во-первых, он уже тогда был самым умным из нас и больше всех читал. А во-вторых, был совершенно отчаянным в драке, никого не боялся и за это его уважали. Ну и в футбол на равных с нами гонял, а в Лугинах это было важно, мы все там фанатами футбола были.
И ещё Гошка был незаменим, когда нужно было попасть в солдатский клуб на кино до 16 лет, куда нас, понятно, не пускали. Мы заходили с тыла, устраивали живую пирамиду, по которой Гошка ловко, по-обезьяньи, взбирался к маленькому окошечку в стене, открывал там форточку, проникал внутрь и открывал нам дверь запасного выхода, который вёл за кулисы. Мы проползали под экраном на первые ряды и, затая дыхание, наслаждались какой-нибудь «Анжеликой, маркизой ангелов».
Весной-осенью 70-го года мы повально были увлечены игрой в индейцев и ковбоев под впечатлением фильмов с участием Гойко Митича. «Чингачгук Большой Змей» и прочие. Гошка играл за индейцев, я за ковбоев. Жестокие были игры. Могли поймать «врага», привязать к дереву и так оставить на несколько часов. Гошку ловили.
Институт.
Когда я приехал поступать во Львов из Кушки 1975-м, то жил у Гошки на Маяковского. И Гошка поступал на архитектуру вместе со мной, не поступив перед этим в Институт прикладного искусства. На архитектуру в тот год тоже не поступил, ибо плохо готовился, днями и ночами пропадал на улице. Но на следующий, 1976-й год, взялся за ум и поступил. Потом Гошка попал в знаменитый львовский театр «Гаудеамус» Бори Озерова, куда затащил и меня. Думаю, театр дал очень много нам обоим.
Поэзия… Сначала был, конечно же, Дмитровский, с которым мы оба быстро подружились. Году эдак в 1978-м, если я правильно помню. А в 1979-м Дмитровский и Буренин побывали в Ростове-на-Дону, где познакомились с Геной Жуковым, Игорем Бондаревским и Виталием Калашниковым – будущими поэтами ростовской «Заозёрной школы». Собственно, Дмитровский с Гошкой и соблазнили меня после института ехать работать в Ростов. «Ты там обоснуешься, а мы через год-другой подтянемся, – примерно так они говорили. – Львов надоел, здесь нет простора. А там Дон, ширь и русский язык повсюду». За точность не ручаюсь, много лет прошло, но примерно так. Я внял и поехал. В результате так и вышло, они приехали в Ростов, хоть и не через год-другой, а гораздо позже. О связи поэтической ростовской «Заозёрной школы» и львовской можно рассказывать долго. Если вкратце – все мы читали и знали стихи друг друга и к тому же крепко дружили. Все – это Геннадий Жуков, Игорь Бондаревский, Виталий Калашников, Сергей Дмитровский, Игорь Буренин и ваш покорный слуга. Плюс, конечно же, Сергей Тимофеев, основатель и фронтмен ростовской группы «Пекин Роу-Роу», которого с Гошей роднило то, что оба были художниками на грани гениальности. Но Тима был на взлёте, а ростовский период Гоши – это, увы, угасание. Тем не менее, в Ростове и Гошка, и Дмитровский временами вели довольно активную творческую жизнь. Это был уже самый конец 80-х, многое дозволялось, поэтому были и поэтические вечера, в которых участвовали оба, и официальные публикации. Так, в 89-м году редакция ростовской молодёжной газеты «Комсомолец» выпустила литературный альманах «Прямая речь», в котором были опубликованы некоторые стихи Дмитровского и Буренина, а сам альманах, как художники, оформляли Тимофеев и Буренин. Затем был поэтический сборник «Ростовское время», который подготовил Игорь Бондаревский и ещё один ростовский поэт – Георгий Булатов. В этом сборнике были стихи Сергея Дмитровского и Игоря Буренина. Так что не всё было так печально, как может показаться. Хотя закончилось всё равно печально. Но тут уж ничего не поделаешь.
На фото: Алексей Евтушенко
Ксения Агалли: Хочу выразить огромную благодарность всем причастным к выходу этой книги, и Борису Кутенкову особенно и в частности, – его верный глаз, терпение, истинное подвижничество сделали работу над всем проектом настоящим праздником. Атлантида ушла под воду не навсегда, не все пути туда оборваны, не все порталы поросли ядовитым плющом беспамятства и забвения. И это во многом также заслуга Валерия Шубинского – спасибо за память, понимание, нужные и правильные слова. В целом – спасибо, что книга вышла, она уже никуда не денется. Всегда ведь хочется думать, что слова «…и вечности жерлом пожрётся» – это не о нас и не о том, что нам дорого.
Видео мероприятия можно посмотреть здесь:
#Они ушли. Они остались
 | Итоги 11-го краевого конкурса «Директор года Кубани» подвели 7 февраля в Краснодаре. Директора решали различные управленческие ситуации, анализировали образовательные кейсы, демонстрировали умение общаться с учениками, выступать с программной речью, вести педсовет. Туапсинский район на конкурсе представляла РАИСА СТЕПАНОВНА ЛЕБЕДЕВА, директор основной школы № 22 с.Мессажай. |
 | Педагоги детских садов Туапсинского района помнят каждого выпускника, следят за судьбой выросших своих воспитанников, переживают за неудачи и радуются их победам! А каждый февраль особое внимание и забота о тех, кто проходит службу в рядах вооруженный сил! |
 | Война не знает возраста и перед ее разрушительной силой все равны. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия: невосполнимая потеря детства… |
 | 3-4 февраля в образовательных организациях прошли «Уроки мужества» в рамках Всероссийской акции «Бескозырка -2020», посвященные памяти героев десантников Новороссийска. С 1968 года ритуал памяти защитников Новороссийска проводится ежегодно и стал всероссийской акцией, в которой вот уже 42 года участвуют представители других российских городов-героев. Кто-то из ребят уже знает о подвиге героев десантников под командованием Цезаря Львовича Куникова , был на Малой земле и видел мемориальный ансамбль, а кто-то слышал об этом впервые, но всем им было одинаково интересно и волнительно слушать рассказ о героях-защитниках города Новороссийска, о тех ожесточенных боях, которые продолжались 225 дней и ночей… |
 | Сегодня учащихся 2-х классов СОШ №14 с. Кривенковское торжественно приняли в ряды учащихся «Юных Жуковцев».В декабре 2019 года первыми участниками детского движения уже стали учащиеся 3-х классов этой школы. Напомним, что школа с 2019 года носит имя четырежды Героя Советского Союза, Маршала Георгия Константиновича Жукова. Ребята дали «клятву» юного Жуковца. |
 | В СОШ №5 г. Туапсе состоялся муниципальный смотр допризывной подготовке среди учащихся общеобразовательных организаций Туапсинского района по четырем военно – прикладным видам спорта:подтягивание на высокой перекладине,разборка – сборка АКМ (ММГ), снаряжение магазина,комплексная эстафета. На соревновании присутствовали почетные гости: ветеран Великой Отечественной войны Махавкин Иван Григорьевич и председатель Совета ветеранов Туапсинского района- Никитенков Владимир Федорович. Иван Григорьевич отметил хорошую подготовку учащихся и уверенно заявил, что в их лице растёт достойное поколение защитников Отечества. |
 | Воспитанники эколого-биологического центра г. Туапсе навестили ветерана Великой Отечественной войны Кириллову Веру Андреевну и поздравили её с 94-м днём рождения. Ребята всего сердца поздравили Веру Андреевну с днем рождения и пожелали крепкого здоровья, мирного неба и долголетия, прочитали стихи , спели под аккомпанемент пианино песню: «С Днем рожденья»,«Катюша», и договорились о встрече в канун празднования 75-летия Великой Победы! |
 | Большая работа, направленная на социально – нравственное воспитание детей, не прекращается в детских садах и в выходные дни. В первую субботу февраля дети с родителями и педагогами получили незабываемые совместные впечатления от интересных экскурсий |
 | В Туапсинском районе состоялась информационная акция «Призывник». Она прошла в стенах администрации Туапсинского района. Участниками стали учащиеся старших классов учебных заведений города Туапсе. Акция является традиционной и проходит в период проведения месячника патриотической работы. |
 | Образовательные организации Туапсинского района участвуют в проекте «Лица Победы». Главная цель проекта- увековечивание памяти всех, кто внес личный влад в Великую Победу. Учащиеся и педагоги размещают информацию о своих родственниках во всенародный исторический депозитарий. Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка. |
 | Сегодня в стенах МАОУ СОШ №11 г. Туапсе для выпускников 11 классов состоялось патриотическое мероприятие «Есть такая профессия- Родину защищать!». Перед участниками встречи выступили представители силовых ведомств: МВД России по Туапсинскому району, Росгвардии и военкомата . Учащиеся задали волнующие их вопросы перед поступлением в ВУЗы, а те, кто еще не выбрал будущую профессию задумались о поступлении в военный ВУЗ. |
 | В день полного снятия блокады города Ленинград в городе Туапсе состоялся молодежный флешмоб «872 дня» .27 января 1944 года – день полного снятия блокады Ленинграда. Блокада, которая осуществлялась дивизиями нацистской Германии и её финскими, итальянскими и испанскими союзниками, стала одним из наиболее трагических и одновременно героических событий Великой Отечественной войны. Начавшись 8 сентября 1941 года, Ленинградская блокада продлилась долгих и мучительных 872 дня. |
 | С целью формирования позитивного отношения к прохождению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (далее – ИС), а также для снятия психологической напряженности, создания атмосферы открытости в муниципальном образовании Туапсинский район на базе МБОУ СОШ № 4 им.И.Н. Чабанова г.Туапсе 24 января 2020 года была проведена акция «Итоговое собеседование для родителей». В ней принимали участие 15 родителей девятиклассников из разных школ Туапсинского района. |
« 1 2 … 39 40 41 42 43 … 92 93 »
Детективный жанр родился на Западе, но покорил и Восток: японцы позаимствовали лучшее у британских и американских классиков — и во многом обставили учителей. Кинокритик Алексей Васильев рассказывает о пути, который прошел японский детектив за последнее столетие, и советует книги (и не только книги), которые понравятся любителям загадок.
На закате дня 18 марта 1978 года молодой мужчина просыпается на скамейке детской площадки. Он не помнит, где припарковал машину, как попал на задворки спального квартала Токио, не помнит, где и кем работает, не помнит своего имени и жизни своей не помнит тоже. Зато, мечась по району, он обнаруживает, что с точностью до жеста может предсказать, какая картина ждет его за углом. Например, вон в том закоулке парень даст пощечину девушке, а она бросится к нему, беспамятному, под ноги с шепотом «Помогите мне!» — так и происходит. Наш герой даже рад, что потерял память: «С прошлым меня ничто не связывает. Следовательно, страдать не по чему. Я будто только что появился на свет. Я абсолютно свободен». Одна беда — вместо лица в отражении он видит какое‑то подобие тыквы, а потому старается избегать зеркал. Через пару месяцев он найдет свои права, адрес и дневник, из которого выяснит, что его жена и маленькая дочь погибли из‑за двух аферистов, якудза и ростовщика, а сам он стал убийцей и в итоге потерял память.
Обычный вроде бы сюжет криминального романа, характерный для Японии 1970-х, когда в моде был так называемый социальный детектив — про то, как простые люди становятся жертвами афер. Странность его — почти столь же красноречивая, как тыква вместо собственной головы, — в том, что роман написан в 1988 году человеком, который в начале 1980-х расправился с засильем социальщины в японском криминальном жанре и повернул историю японского детектива вспять, к золотому веку с его шарадами. Его зовут Содзи Симада. А книга, завязку которой мы изложили, вышла два месяца назад в уже обросшей паствой преданных поклонников серии издательства «Эксмо» «Хонкаку-детектив».
Содзи Симада позапрошлой осенью посетил Москву по случаю русской публикации своей второй книги о приключениях сыщика-астролога Киёси Митараи. «Дом кривых стен» (1982) настолько типичен для жанра, что его краткое описание — уже исчерпыващий ответ на вопрос, что такое хонкаку-детектив. Гости набиваются в причудливый дом на утесе северного острова Хоккайдо в канун Рождества. Одного из них находят заколотым ножом в запертой изнутри комнате. Зато кривой домишко набит механическими устройствами — вращающейся башней, мостом с подъемником, куклой-гимнастом, повествование сопровождается подробными схемами комнат с расположением гостей, окон, дверей и предметов меблировки, а также графиками перемещения персонажей. Хонкаку-детектив — этакий синтетический продукт идеального сотворчества Агаты Кристи, Джона Диксона Карра и Эллери Квина, где все доведено до шаржа, до абсурда, до чистой механики головоломки окровавленного кубика Рубика.
Как всякий постмодернистский продукт, японский хонкаку-детектив дистанцирован от оригинала — однако дистанцирован за счет не иронии, но любви.
В тогдашнем интервью «Афише Daily» и предисловиях к другим романам серии Симада говорил, что создал хонкаку как реакцию на засилье социального детектива, где вместо порожденных исключительными умами «невозможных» убийств были происки организованной преступности и махинации корпораций, а вместо сыщиков-одиночек, сопоставляющих факты в своей черепной коробке, — тараканьи бега полчищ полицейских и хаос журналистских расследований. Такие книги за счет правдоподобия отнимают у читателя удовольствие от игры, возможность посоревноваться с сыщиком и первым найти разгадку. Симаде удалось развернуть жанр «в нужном направлении»: за ним ринулись толпы не только писателей, но и мангаки и авторы аниме — и хонкаку-детектив вот уже сорок лет остается главным развлечением Японии, в то время как на Западе только сейчас дает первые достойные золотого века побеги (см. «Семь смертей Эвелины Хардкасл» Стюарта Тёртона).
Что же заставило Симаду обратиться в третьем романе о Митараи именно к той девиации жанра, с которой он боролся, — тем более что роман позиционируется как его «Этюд в багровых тонах», подробный портрет сыщика, еще не раскрывшего своих самых шумных дел?
Симаде стало мало борьбы с социальным детективом, создавая превосходные образцы детективов «нужного направления». В 1980-х романам хонкаку все еще ставились в укор картонные герои и надуманные ситуации, в то время как социальному детективу приписывалась прогрессивность — ведь он выскрывает язвы общества и системы. Симада, судя по всему, захотел разрушить лживость такой позиции не плакатными заявлениями, а закодировав спор в форме самого детектива. Он создал роман, где социальный детектив обнаружил бы свою ущербность на полях, собственно, детективного сюжета, — и преуспел.
Главное, что удалось показать Симаде: социальный детектив вовсе не прогрессивен.
Он рисует человека просто жертвой организованной преступности или коррупции, чьим самым активным поступком может быть лишь месть. Протестное сознание склонно переваливать вину на систему, в то время как «мир человека вот где», как говорит в новом романе Митараи, прикладывая палец к виску. Как раз «картонный» хонкаку-детектив воспевает способность человека к собственному умозаключению и ежесекундному проявлению свободной воли, хотя для этого нужно принести жертву: отказаться от химер «настоящей жизни», встать от нее в сторонке, чтобы видеть ясно, не замутненными привязанностями глазами. Митараи сравнивает людей, занятых благоустройством своих семейных очагов, с рачками, чьи домики разрушит легкий взмах хвоста проплывающего кита: «Какой‑то рачок отчаянно обороняет свою крошечную норку и готов отдать жизнь по самой бросовой цене, чтобы всем семейством любоваться на какую‑нибудь хреновину вроде вырезанного из консервной банки значка или селедочной головы, передающейся из поколения в поколение, и молиться о загробном блаженстве».
В критический момент Митараи приходит на помощь герою-рассказчику верхом на мотоцикле, как рыцарь с обложки пластинки Чика Кориа
Большего рассказать и объяснить мы не можем: жанр детектива не позволяет раскрывать его секреты, а Симада закодировал свою битву с социальным детективом в саму форму, в уловки, на крючок которых он ловит читателя. Разгадать эти уловки, со всем пониманием происходящего принять участие в новой игре поможет знание пути, который прошел японский детектив. Поэтому вместо того, чтобы интерпретировать замысел Симады, мы предлагаем список лучших японских детективных романов, доступных на русском языке. Знакомство с ними позволит вам войти в контекст, необходимый для того, чтобы сразиться в новой шараде Симады на равных с японцами.
Подробности по теме
Писатель Содзи Симада — о том, как японцы заново изобрели жанр детектива
Писатель Содзи Симада — о том, как японцы заново изобрели жанр детектива
Эдогава Рампо «Чудовище во мраке» (1928)
Детектив пришел в Японию со столетним опозданием. В советскую антологию «Веские доказательства» (1987), проследившую путь жанра от По до Чандлера, включен рассказ Рюноскэ Акутагавы о взаимоисключающих показаниях свидетелей убийства «В чаще» (1922), по которому был снят и первый японский фильм, вышедший в зарубежный прокат, — «Расемон» Куросавы.
Сами японцы датируют рождение отечественного детектива 1923 годом, когда была опубликована первая каноническая вещь — «Медная монета» Эдогавы Рампо. Писатель взял для своего псевдонима иероглифы, произношение которых идентично японскому произношению имени «Эдгар Аллан По». Как и у По, новеллы ужасов и арабески у пионера японского детектива соседствуют с рассказами о расследованиях пижона Когоро Акэти, который разоблачает всяческие потусторонние мотивы необъяснимых убийств, выводя на чистую воду злоумышленников из плоти и крови. У нас, увы, не переведены романы о подвигах Акэти, где он срывает маски с темных сил, со всех этих «Адских клоунов», «Черных ящериц» и «Двадцатиликих», но доступны изысканные в своей обманчивой простоте повесть «Простая арифметика» (1929) и рассказы («Психологический тест», 1925; «Невероятное орудие преступления», 1954), по эффективности развязок и приемов запутать читателя затмевающие многие опыты английских современников.
Однако сам Рампо — и по праву — считал своим лучшим романом «Чудовище во мраке», в котором Акэти отсутствует. Удивительно, что с ним согласились советские книгоиздатели, начав знакомство с Рампо в 1979 году именно с этой книги: она изобилует непристойными ужасами.
Достаточно сказать, что голова убитого мужчины, появляется в романе, всплывая в отхожей яме между ног рыночной торговки, отправившейся в общественный туалет на пристани справить нужду.
Уже в этом раннем образце японского детектива налицо то, что станет национальной отличительной чертой жанра: подчеркивание его самоценности, словно все, что не имеет отношения к сочинению и распутыванию загадок, — дело вторичное, всего лишь жизненный компост, чтобы было из чего собирать мотивы литературных преступлений. Рассказ ведется от лица прославленного автора детективов, типичного мастера хонкаку, которого интересуют только логика и механизм расследования, а потенциальным преступником представляется его коллега и оппонент по спорам в детективных журналах — автор-«социальщик», заботящийся только о психологии преступников. Издеваясь над замужней женщиной, этот автор воплощает в жизнь сюжет собственного рассказа «Развлечения человека на чердаке» — который, вообще-то, является рассказом самого Рампо 1925 года из серии о Когоро Акэти.
В известном смысле «Чудовище во мраке» стало для Рампо романом философии в действии, в котором он взял за основу собственное литературное раздвоение личности (нагнетатель ужасов или их разоблачитель?) и попробовал решить внутренний спор — какому из двух «я» отдать предпочтение, — столкнув две своих ипостаси на полях детективного сражения.
Сэйси Ёкомидзо «Убийство в хондзине» (1946)
Во второй половине 1930-х в милитаристской Японии детективы запретили, как и все западное и упадническое, — зато после войны музыку было не остановить. Самый способный ученик Рампо, Сэйси Ёкомидзо, вывел на арену нового, совершенно противоположного светскому хлыщу Акэти, великого детектива — взъерошенного странствующего сыщика Коскэ Киндаити. Вообще-то, Киндаити окончил американский университет, а бродит в обносках потому, что «витает высоко над всеми заботами и страстями мира». Именно этот его самоотвод от житейского круговорота, в котором люди ослеплены охраной своих «ценностей», вроде любви, семьи, дома, благополучия, репутации, позволяет ясно видеть механизм совершенных преступлений сквозь слои тумана.
А туман Ёкомидзо напускает густой — неслучайно его называют «японским Джоном Диксоном Карром»: тут и убийства по старинным проклятиям («Дьявольская считалочка», 1959, где подлинной причиной серии живописных убийств весьма остроумно становится совсем не древняя песенка с предсказанием, а приход в Японию звукового кино), и карты сокровищ, подземные гроты, потайные ходы и воскресшие самураи («Деревня восьми могил», 1951), и призраки («Дом повешенной на Больничном спуске», 1975), и события, нарушающие всякие законы физики, вроде неподъемного литого колокола, который разные свидетели видят в разных концах острова, словно он разгуливал в час убийства («Остров Гокумон», 1948).
Поистине поэтическим ужасом пронизано первое дело Киндаити об убийстве в хондзине (это такой японский феодальный постоялый двор). Двое новобрачных в первую ночь одни в запертом изнутри флигеле, тихий снег, на котором не осталось следов, и вдруг — истошные крики, сбежавшаяся из главного дома родня, с трудом отпирающая флигель, и два зарубленных катаной трупа, а возле них — цитра-кото с окровавленными струнами. Все выглядит так, словно в снежную ночь, когда молодожены уснули, предметы, как в синтоистских мифах, ожили, запели свою зловещую песнь, устроили механический балет и совершили непостижимый акт изуверства. В каком‑то смысле так оно и было.
Обычно разгадки детективных ужасов оставляют читателя несколько разочарованными — ну что, в самом деле, просто большая собака, намазанная фосфором.
Но в своем дебютном романе Ёкомидзо оказался вровень с Карром еще и в том, что разгадка механизма убийства оставляет читателя, пожалуй, даже в еще большем ужасе, чем первоначальная необъяснимая картина преступления, — точь-в-точь как в карровской «Согнутой петле» (1938).
Сэйси Ёкомидзо «Клан Инугами» (1951)
После войны японцы возвращались из плена изуродованными, покалеченными. Этот мотив Ёкомидзо ловко использовал уже в своем втором романе «Остров Гокумон», но развил в самоигральную действенную составляющую детективного ребуса в «Клане Инугами», где один из наследников умирающего патриарха возвращается в день оглашения завещания буквально без лица.
Убийства в этом романе живописно-живодерские: отрубленная голова одного из наследников, вставленная в одну из садовых хризантемных скульптур, изображающих членов семейства в виде героев спектакля кабуки, человек, замороженный во льду озера головой вниз, так что торчат только ноги, расставленные ножницами, или буквой V.
Даже очень внимательному читателю детективов, чтобы учесть все факторы тройного убийства, понадобится проявить высший пилотаж структурного анализа. Мой совет: расслабиться и получить удовольствие.
Тем более что проза Ёкомидзо — это, конечно, чудо: расписывая сложные семейные древа, хитроустроенные убийства, обманные впечатления, где видимость событий не соответствует их сути, он сохраняет в своей прозе пружинистую, спешную поступь, какой мы совершаем прогулку на росистом бодрящем рассвете. Точно такую же, какой проходит сквозь жизни и судьбы запутавшихся во внушенных амбициях семей его герой Киндаити, внося в них ясность.
Сэйтё Мацумото «Точки и линии» (1958)
После двенадцатилетия герметичных загадок Ёкомидзо, строго ограниченных заборами старинных усадеб, деревушек на отшибе, богатых домов, Мацумото в первом же романе совершил революцию, подобно ветру пролетев вместе со своими героями-полицейскими через всю Японию, от Кюсю до Хоккайдо, расследуя подозрительное двойное самоубийство влюбленных: похоже, под старинную местную традицию, к которой издревле прибегали пары, если им не давали соединиться на этой земле, и к которой, кстати, там относятся без налета трагизма, в данном случае было закамуфлировано двойное убийство.
«Расписание поездов и самолетов в тексте дано по состоянию на 1957 год, когда проводилось расследование этого дела», — таким авторским примечанием завершает свой роман Мацумото, которому, похоже, неуклонно исполняющиеся рейсовые расписания помогали перетерпеть хаос жизни так же, как Шелдону Куперу — прибывающие в должный час поезда. Подлинные расписания играют в «Точках линях» ту же роль, что схемы расположения комнат и подозреваемых в романах Симады и Ёкомидзо. Это делает роман одновременно и традиционным, и особенным: математически, герметично решаемая загадка в то же время разомкнута в простор всей Японии. Книга имела освежающий эффект, тем более что японцы к тому моменту почувствовали первые ощутимые признаки грядущего благополучия. Любители путешествовать, в большинстве своем они еще не могли бороздить за свой счет весь мир, как примутся в 1990-х, но многие уже стали служить в корпорациях, где командировки были обычным делом.
А еще Мацумото оказался настоящей находкой для японского кино, ставшего в те годы цветным и широкоэкранным. Его расследования, непременно включающие поездки и перелеты по самым дивным и диковинным местам родины, позволяли создавать эдакие кинематографические эквиваленты «Клуба путешественников», где детективный сюжет служил таким же предлогом показывать красоты, быт и достопримечательности разных уголков страны, как мелодраматический сюжет в испанских фильмах тех лет служил предлогом дать Рафаэлю или Саре Монтьель спеть с экрана дюжину новых песен. Интересно, что нынче этот прием в форме детектива знакомить зрителя с разными уголками страны, создавая рекламу тамошним заведениям и угощениям, перекочевал в мультипликацию — в телесериал «Детектив Конан», отметивший на днях свой 1000-й выпуск.
Подробности по теме
Детективный клуб Алексея Васильева: 867 серий японского аниме «Детектив Конан»
Детективный клуб Алексея Васильева: 867 серий японского аниме «Детектив Конан»
Сэйтё Мацумото «В тени» (1964)
Мацумото становится и прародителем социального детектива, наметки которого были ощутимы уже в «Точках и линиях», но стали основой повествования в следующем романе, «Стена глаз» — о многоступенчатой финансовой афере и ее жертвах. Вместо выдуманных игрищ в убийство в домах на отшибе новому развитому обществу теперь предлагались дела из «реальной» жизни, о взяточничестве, коррупции, политических интригах. Неслучайно следователями в подобных романах часто выступают журналисты, проявлявшие в те годы в Японии и впрямь небывалую активность; по сути, некоторые книги Мацумото и его последователя Моримуры и представляют собой документальные журналистские расследования подлинных происшествий и политических скандалов.
Другая закономерность: жертвами этих тотальных махинаций в романах выведены молодые женщины, служащие или хостес. Иногда они попадают под перекрестный огонь, становясь в романе тем единственным трупом, который и позволяет ему все еще быть причисленным к жанру детектива, как случилось со стюардессой в «Черном евангелии» (1961), иногда становятся мстительницами, как сестра казненного по адвокатской халатности парня во «Флаге в тумане» (1961).
На русском таких сомнительно-детективных романов Мацумото издана тьма тьмущая: в СССР его переводили обильнее, чем Агату Кристи, и именно он стал автором вообще первого японского детектива, изданного у нас (в 1965 году, роман «Подводное течение», 1960). Среди них выделяется в лучшую сторону почему‑то не самый растиражированный его роман, «В тени». 32-летний востребованный фотограф, весьма приятный попутчик, чтобы колесить с ним по Японии, то забираясь в Японские Альпы, то любуясь озерами Тохоку, а возвращаясь в Токио, узнавать нравы хостес и напиваться в знаменитых барах Гинзы — с бесследного исчезновения хозяйки одного из них и начинается детектив. По ходу романа список «испарившихся» пополнится видным политиком и журналистом, вызвавшимся помочь фотографу в расследовании.
Второй же момент, переводящий роман из разряда приятных в исключительные — уникальный способ избавления от трупов. По сути, те, кого ищет фотограф, всю дорогу были у него буквально под ногами. Если бы не мастерская нарративная уловка писателя, заставлявшая видеть события в несколько искаженном свете, искажая причину и следствие, мы бы и сами легко поняли, в чем он заключается.
Но в том-то и отличие великого детектива от проходного: поместить разгадку под самым носом, сделав невидимой.
Позволю себе закончить рассказ о нем одним личным впечатлением. Роман был издан у нас в 1990 году. Несколько лет спустя я увидел его, навещая отца и выпросил почитать, а к нему он попал от кого‑то из сотрудников — да и вообще книжка была потрепанная, явно прошедшая через сотню рук. Какой же суеверный ужас охватил меня, когда я обнаружил, что страница с подробным описанием уничтожения трупов оказалась вырвана! Напомню, на дворе стояли лихие 1990-е, и каждую весну, когда сходил лед, на дне водоемов находили новые трупы с закованными в бетон ступнями. Я до сих пор думаю, что та книжка Мацумото стала причиной исчезновения не одного человека… Во всяком случае, я ее не вернул, положил под стекло и до сих пор храню как реликвию, содрогаясь всякий раз, когда мой взгляд падает на рваную обложку с красивым японским парнем, в панике бегущим в ночи мимо бумажных фонариков Гинзы.
Кётаро Нисимура «Остров Южный Камуи» (1970)
Нисимура развил тему железнодорожных расписаний из дебютной книги Мацумото до целого цикла романов о железнодорожных убийствах. На родине его музей — место паломничества, но для Запада он остается почти непроницаемым.
Впервые его перевели в США в 1978 году для антологии «Японская дюжина», выпущенной знаменитым «Детективным журналом Эллери Квина»: это был рассказ «Шантажист», тремя годами позже опубликованный и на русском в журнале «Ровесник». Но по удивительному стечению обстоятельств мы стали обладателями изумительного сборника повестей и рассказов «Остров Южный Камуи» — не столько детективов, сколько виньеток на полях криминального жанра. Здесь он показал себя мастером парадоксов: расследуя самоубийство двадцатилетнего парня на зимнем взморье в рассказе «Игрушечная обезьянка», журналист приходит к выводу, что в Токио, куда паренек переехал три года назад из изолированной деревушки на Охотском море, его доконало одиночество: среди людей он не слышал того отклика своим душевным порывам и томлениям, той рифмы своему одиночеству, которыми отвечали ему льды Хоккайдо.
Также Нисимура мастер рифмовать возраст и время года, состояние природы и души, запечатлевая во всей неповторимости человека во времени.
Великолепно «Призрачное лето» о метаниях красавца-старшеклассника, доживающего в неутоленной жажде самоутверждения последние дни августа на курортном полуострове Идзу, когда его покинула столичная студенческая молодежь, утомленная бесконечным летом и потянувшаяся к уюту отгороженных витринами от дождей многолюдных баров Токио.
В свете романа Симады нам важен рассказ «Карточный домик» — единственный, по сути, детектив в сборнике, где круг подозреваемых в убийстве работницы турецкой бани довольно скоро сужается до уличного поэта, торгующего самиздатскими сборниками стихов, но загадку представляет его мотив. Полицейский приходит к заключению, что парень, живущий ненастоящей жизнью, нуждался в ком-то, кто смотрел бы на него снизу вверх, утверждая его в этой асоциальной позиции. Эту функцию в карточном домике его «ненастоящей жизни» выполняли девицы, у которых и вовсе ничего нет, совсем униженные члены общества, работницы дешевых притонов, для которых его преимуществом было уже хотя бы то, что он сочиняет стихи. И когда одна из них нашла себе жениха, он ее прикончил, потому что это нарушало выстроенную им зыбкую иллюзию, в которой он чувствовал себя героем.
Сэйити Моримура «Плюшевый медвежонок» (1975)
Темнокожий мужчина вошел в лифт токийского отеля «Ройал», а когда кабина за двадцать восемь секунд взметнулась на сорок второй этаж и посетители обзорного ресторана «Облака» покинули ее, упал замертво на глазах лифтерши с ножом в груди. Расследование ведет тридцатилетний Мунасуэ, который в детстве видел, как американские оккупанты избили до смерти отца. С тех пор он решил мстить, безразлично кому: «возможность, прикрываясь именем закона, преследовать человека — вот чем для него была работа в полиции».
По ходу расследования мы знакомимся также со специалисткой по вопросам семьи и брака, которая, помогая людям решить их проблемы, превращает дневники собственных детей в бестселлеры на тему психологии подростков, а дети из‑за этого испытывают ожесточение к матери.
Роман, сочетающий внешние признаки социального детектива, — действие переносится из Токио на взморье и в Гарлем, трупы валятся поначалу без видимой связи, всплывают темы наркомании, социальной незащищенности, американского империализма, — с начинкой сермяжной мелодрамы, удивительно ясно говорит о том, что, когда мы приносим так называемую пользу обществу, нами руководят самые дурные мотивы и намерения, самые темные демоны наших душ, в то время как наши так называемые преступления — попытки искупить вину перед близкими.
Задолго до современных психологических драм Моримура показал этот разрыв между действиями и намерениями, поговорил о неспособности проявить любовь напрямую — только через опосредованную цепь поступков.
В оригинале роман называется «Испытание человека». В тексте это оправдывается словами Мунасуэ, когда он разоблачает убийцу: он хочет рассказать ему о его преступлении так, что если тот не признается — он не человек; он идет испытать запас человечности в убийце. Но по сути, роман безысходно сравнивает земную жизнь, с ее путаницей чувств и их проявлений, с испытанием, на которое обрекают на гонках производители новую модель машины.
Содзи Симада «Токийский зодиак» (1981)
В 1979 году заскучавший детектив Киёси Митараи вспоминает дело безумного художника и его дочерей. В 1936 году мужчину обнаружили убитым в запертом изнутри доме, а трупы дочерей — зарытыми по всей Японии, причем каждой недоставало той части тела, из которых художник собирался, пользуясь бредовой, основанной на гороскопе системой, собрать идеальную женщину.
Митараи пытается воссоздать картину нераскрытого преступления по старым газетам — и ему удается не только распутать дело, но и познакомиться с убийцей, сорок лет водившим Японию за нос. «Ты так говоришь, словно мне предстоит встреча с кинозвездой», — говорит его Ватсон, Исиока. «В каком‑то смысле это и есть звезда», — парирует Митараи. Преступник, давший возможность насладиться решением изумительного ребуса, — высшее существо в системе ценностей Симады и его героя. В «Двойнике с лунной дамбы» Митараи скажет: «Если говорить о подлинных мастерах всех времен и народов, это, конечно, не Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро, а преступники, решившиеся на то, чтобы осуществить свои грешные планы. Но несмотря на это, с давних пор повелось гоняться за преступниками и изображать великими талантами тех, кто после долгих натужных копаний сподобится наконец разгадать какую‑нибудь загадку. Так уж устроено. Из соображений морали, разумеется».
В своем дебютном романе Симада одним махом отметает двадцать с лишним лет социального детектива и его более усовершенствованных форм. Отметает не только всякую социальную целесообразность, но и мораль с ее традиционной системой добра и зла, отвешивая поклон загадке.
Что ж, преступник из «Токийского зодиака» действительно собрал головоломку что надо — единственную в своем роде, хотя и не настолько неразрешимую для читателя, как принято говорить на детективных форумах. Симада выводит в высшие добродетели удовольствие от структурного анализа, и это удовольствие еще более драгоценно оттого, что за анализом стоит не желание свершить правосудие, а только досужий интерес: встреча с убийцей нужна Митараи лишь для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение.
Самые сладкие вещи на свете — те, которые мы совершаем без всякого смысла, просто так. Мир устал от напряжения, борьбы с политическими и социальными фантомами, он откровенно морально перегрелся, судя по тому напряжению, что транслирует «Плюшевый медвежонок».
Пришла точка кипения, а с ней — время отпустить все вопросы «почему?», оставив только «кто и как?».
Юкито Аяцудзи «Убийства в десятиугольном доме» (1987)
Воистину гурманский детективный роман, положивший начало поднаправлению син-хонкаку — молодежному хонкаку. Герои таких романов — студенты или старшеклассники, а значит, с ними приятно провести время и сверстнику, и ребенку, мечтающему повзрослеть, и взрослому, откликающемуся на возможность на время чтения романа вновь почувствовать себя молодым. Часто эти герои — члены детективных клубов, как герои «Десятиугольного дома», которых мы знаем под прозвищами Карр, Агата, Эллери, По и т. д. Эти ребята отправляются на остров, где было совершено массовое убийство. Катер отчаливает, ребята на несколько дней остаются отрезанными от мира — и начинается новая серия убийств. А в это время у членов клуба, не выехавших на остров (их мы знаем по настоящим именам), другая беда. Они получают записки от человека, устроившего ту, первую резню на острове: «Это вы убили мою дочь». Действительно, его дочь, бывшая членом того же клуба, умерла от алкогольного отравления на вечеринке.
Ребята с острова в своих диалогах называют ребят с земли по кличкам, в то время как ребята с земли называют ребят с острова по именам. Чтобы получить полную картину и выяснить личность убийцы, читателю нужно верно собрать в своем воображении из разрозненных и перемешанных половинок целых людей. Задача замысловатая, но вполне укладывающаяся в рамки ребуса.
Структурный анализ и здесь поможет читателям вычислить убийцу — однако эта вычисляемость не мешает удовольствию от игры: загадка и впрямь изящна.
За романами син-хонкаку последовали и манга и аниме в этом жанре, вершиной среди которых остаются 200 серий «Расследований юного Киндаити» (или «Дело ведет юный детектив Киндайчи», 1997–2000, 2012–2013) — о современном старшекласснике, внуке сыщика из романов Ёкомидзо. Аниме-сериал легко найти в сети с русским переводом, и он того стоит: многие дела могли бы потеснить иные книги из данного списка. Также советуем упоминавшегося «Детектива Конана» (выходит с 1996 года, 1000 серий): хотя в целом он более дурашливый, но тем и подкупает. Для любителей чисто японской изюминки — «Рассказы кукловода Сакона» (1999, 26 серий), а для тех, у кого совсем уж детство в одном месте заиграло, — «Детективную академию Q» (2003–2004, 45 серий).
Миюки Миябэ «Горящая колесница» (1992)
За 1980-е годы объемы кредитования населения Японии утроились по сравнению с началом десятилетия и составили 57 триллионов иен. Можно было б говорить о мыльном пузыре в экономике, когда б монетаризм сам по себе не был призрачной условностью. Деньги выпускает государство — таков уговор, а в основе финансового рынка — пустота.
Позволив озвучить одному из героев романа, финансовому эксперту, эти мысли, Миюки Миябэ, работающая во всех остросюжетных жанрах, включая кибертриллеры и экшен-панк, предположила, что призрачные основы товарообмена должны порождать и людей-призраков. И создала такой детективный роман, что не оторваться. Вроде бы апеллируя к темам социального детектива, даже смотря в самую суть системы (а не критикуя махинации отдельных коррупционеров, как это делали социальщики), Миябэ создает уникальный образец чистого детектива с неповторимым злодеем и преступлением. По сути, финальное появление убийцы в ресторане обставлено с тем же почтительным шиком, что у Симады в «Токийском зодиаке».
А начинается все буднично — когда дождь барабанит по замызганным стеклам надземки, и подстреленный 42-летний полицейский-вдовец волочит свою ногу по снежному перрону домой, где его ждут приемный сын, оплакивающий пропажу пса Склероза, и племянник, озадаченный бесследным непостижимым исчезновением своей невесты…
Кэйго Хигасино «Жертва подозреваемого X» (2005)
Казалось бы, все ясно с самого начала: женщина с дочкой сбежала от мужа, сделавшего их жизнь невыносимой, а теперь он снова выследил их, и в приступе паники жена задушила его. Сосед женщины, школьный учитель математики, вызывается помочь избавиться от трупа. А вот дальше начинается немыслимое. Взявшись придумать ей алиби, через пару дней сосед обращается к ней с единственным указанием: отрицать только факт, что недавно виделась с мужем, а в остальном честно отвечать на любые вопросы, которые зададут следователи. Она следует совету — и полиция почему‑то раз за разом убеждается в ее непричастности.
Великолепная головоломка от обратного, воистину почти неразрешимая, от суперновы японского детектива Хигасино, приведшего на детективную арену сыщика-физика Галилея. В сборниках рассказов, два из которых — «Сыщик Галилей» и «Вещие сны» — также изданы у нас, он помогает другу-полицейскому найти объяснение необъяснимым с точки зрения законов физики криминальным происшествиям. Первый же рассказ, «Горящая голова», открывает в Хигасино мастера, умеющего сбить с толку читателя, поменять местами верх и низ при помощи обычного на вид нарратива. Галилей расследует и дело «Подозреваемого X» — в соседе-учителе он узнает своего однокурсника, гениального математика, и понимает, что такой великий ум не просто так оказался фигурантом этой истории. Но если прочие свои дела он щелкал за несколько страничек рассказа, здесь на разгадку ему требуется целый роман — и право, она стоит таких усилий.
Хотя роман и противоречит законам хонкаку — личность убийцы и обстоятельства преступления явлены на первых страницах, — он задает загадку иного рода, осуществляя мечту Симады: чтобы детектив шел об руку с передовой научной мыслью. Здесь в основе загадки — математический расчет, но не такой, чтобы быть совершенно непроницаемым для читателя. По сути дела, это ловко просчитанная шутка с восприятием — то, на чем и держатся во все времена самые сладкие детективные загадки.
Подробности по теме
6 способов отличить хороший детектив от дурного: по мотивам сериала «В ее глазах»
6 способов отличить хороший детектив от дурного: по мотивам сериала «В ее глазах»
Кажется, что Борис Андрианов в виолончельном футляре носит не только свой инструмент, но еще несколько дополнительных часов, дней и месяцев в придачу. Как иначе объяснить тот факт, что он успевает руководить несколькими фестивалями, играть концерты по всей стране и ходить в походы, требующие отдельной подготовки (да, такое вот увлечение), — неизвестно. Все это удается Андрианову с той же легкостью, с которой касается струн смычок. Впрочем, как известно, без труда не бывает ни рыбок в рыболовстве, ни фестивалей в творческой жизни. Недавно завершившийся XIII фестиваль Vivacello, придуманный Борисом Андриановым, — свежий тому пример. Здесь он и отвечающий за программу художественный руководитель, и музыкант на сцене, и находчивый организатор — за ней. Под самый занавес осени мы поговорили с виолончелистом о работе с современными композиторами, контекстах классической музыки и разговорах под рюмочку.
Совсем недавно завершился очередной фестиваль Vivacello, который, как и все события последних полутора лет, оказался в контексте возможных отмен, перемен и ограничений. Мне кажется или у вас позиция, что нужно устраивать фестивали несмотря ни на что?
Вообще наш фестиваль всегда проходит в такое время, когда организм начинает впадать в спячку, в Петербурге происходят убийства и самоубийства, оттого что становится очень темно, и все понимают, что впереди — долгая зима. (Смеется.) Ведь правда: ноябрь — самая тяжелая пора для многих, настроение и времена тревожные, но искусство всегда плодотворно влияло на нас, в любые сложные времена, так что да, нам всегда хочется продлить праздник и порадовать людей.
Каждый год современный композитор пишет для фестиваля новое сочинение, пополняя тем самым мировой виолончельный репертуар. В этом году этим композитором стал Самюэль Струк, а его концерт был встречен стоячими и очень бурными овациями. Как вы с ним познакомились, как подружились?
Мой друг, баянист Николай Сивчук, года три назад показал мне запись концерта для виолончели и баяна Самюэля Струка, совершенно потрясающее произведение. И мы просто нашли агента Самюэля и написали ему с вопросом, можно ли нам это произведение исполнить в Москве, на фестивале. И два года назад мы его сыграли. Это было здорово, мы с тех пор его периодически исполняем в разных городах и странах, и когда дошло дело до следующего фестиваля — прошлый у нас был усеченный в связи с пандемией, то есть до нынешнего 13-го, — мы снова связались с Самюэлем, чтобы попросить написать двойной концерт для виолончели и гитары с оркестром. И вот он написал. Композитор Струк — гитарист, и он очень хорошо знает этот инструмент. Я подумал, что именно такой вариант — виолончель и гитара — будет очень удачным. И, мне кажется, не ошибся, хотя голова, конечно, на репетициях просто пухла. (Смеется.) Самюэль — джазовый музыкант, и его ритмические навыки немножко сложно ложатся на этот классический концерт. Происходит смешение всего, произведение очень яркое, самобытное и вообще не похожее ни на что. И для нас это полная феерия.
Если вести разговор в контексте широкой публики, есть имена композиторов, которые всегда привлекают внимание. Сложнее ли в этом плане с современниками, которых слушатели еще могут не знать?
Ну, Баха-то сложнее играть, там каждую ноту все знают, кто в теме. (Смеется.) А если серьезно, то это привилегия — работать вместе с композитором, потому что ты можешь получить от автора какие-то ценные указания, что-то подкорректировать, услышать из первых уст, как это должно звучать, как он это слышит. Что касается публики, она не всегда ходит на композитора, зачастую и на исполнителей тоже. И надеюсь, что наша публика достаточно открыта к чему-то новому, и если композитор пока не известный, людям — тем не менее — интересно услышать, что он написал. Я очень рад, что теперь Московская филармония открывает много новых проектов. Потому что еще совсем недавно была огромная разница между Москвой и Европой. Я учился в Берлине, где всегда писалось и игралось огромное количество современной музыки, где все это бурлит. И вот ты за всем этим наблюдаешь, а потом приезжаешь в Москву, предлагаешь какой-то концерт, например, даже Шостаковича, а в ответ слышишь: «Ой, это сложно…» В смысле сложно? Шостакович — уже классика, но тебе говорят: «Давайте лучше Чайковского или Вивальди». И хватаешься за голову. Сейчас в этом плане картина меняется, можно смело предлагать авангардные программы, новые проекты. И в этом смысле я, конечно, горжусь, что каждый год наш фестиваль отправляет в свободное плавание новое произведение композитора-современника.
А сейчас вы успеваете следить за тем, что пишут композиторы-современники, за тем, как музыка отзывается на эту самую современность?
Я, наверное, вас разочарую. Чем старше становишься, тем больше думаешь, что будет время, что сможешь им управлять, но получается наоборот. Чем дальше, тем больше технологий, однако чем короче тебе путь до чего-то, тем больше ты себя нагружаешь. Это моя вина, но фестивали и исполнительство не дают мне компетентно ответить на вопрос про тенденции в искусстве. Впрочем, если говорить о вещах общих, то если общество открыто ко всему, это сразу же отражается и на искусстве. Сейчас идет тенденция к цензурированию всего на свете, и это, конечно, очень вредно. Хотя, если посмотреть с другой стороны, в советское время именно от того, что нельзя было сказать все, вокруг и рождались бесконечные шедевры, и это действительно загадка, секрет того времени. Ты взвешивал каждое слово, но если брать театр, кино, музыку — был золотой век в то время, когда нельзя было ничего.
Искусство старается оторваться от реальности или, наоборот, остается в контексте времени?
Искусство всегда отражает жизнь, потому что мы не можем жить вне политики, вне общества, и люди творческие, которые что-то создают, тоже. Сейчас что-то идет в каком-то хорошем направлении, но ты все время слышишь какие-то ужасные новости про то, что где-то что-то запретили, где-то прибежали какие-то казаки, где-то какие-то депутаты что-то приняли, потом кто-то оскорбился, обиделся, потом еще что-то приключилось.
Надеюсь, что наша публика достаточно открыта к чему-то новому, и если композитор пока не известный, людям — тем не менее — интересно услышать, что он написал.
При этом кризисы зачастую влияют на желание выразить свои чувства вполне в положительном ключе.
Очень много факторов влияет на то, как человек ищет свободу, да и вообще себя самого. В творчестве и за его пределами. Вообще, все люди, чем бы они ни занимались, ищут творчество. Есть какие-то временные, цикличные вещи, а есть вечные, и вопрос воспитания и понимания, что есть хорошо, а что — дурновкусие, тоже к ним относится. Если тебе не прививают дурновкусие со всех сторон, то легче найти себя в этой жизни правильно. Ведь на душевное состояние влияют и финансовая составляющая, и климат, который может человеку не очень нравиться, и ему захочется взять и уехать в определенное время года. Я надеюсь, что все сложности именно в нашем российском обществе, которые отмечаются, все-таки не настолько критичны, и можно, в принципе, выживать и высказываться, если тебе есть что сказать. А дальше посмотрим, как будет. В общем, пока что рано думать о каких-то глобальных вещах, наверное. Пусть каждый начнет поиск внутри себя и попытается эту свободу отыскать, но если кому-то будет тесно и захочется что-то поменять, его тоже можно понять.
Возвращаясь к разговору об академической музыке. Вот я звоню, допустим, в какой-то сервис или банк, там просят подождать и включают известное классическое произведение. Допустим, Сюиту № 1 для виолончели Баха. Она почему-то особенно часто звучит. И вдруг академическая музыка оказывается в таком бытовом контексте. Можно ли говорить в категориях плохо-хорошо об этом?
Особенно мне нравится, когда приезжаешь в пункт назначения на поезде РЖД и они включают как раз сюиту Баха, прелюдию, и без возможности убрать звук. Смех в том, что исполняют ее не музыканты, она просто набрана на сэмплере и поэтому звучит электронно, совершенно чудовищно. Конечно, с одной стороны, хороший такой порыв, что люди приезжают под Баха, а с другой, когда он звучит, как робот… (Смеется.) Да пожалуйста, ради бога, я думаю, что это ни хорошо, ни плохо, пусть звучит эта музыка. Человеку, чтобы прийти в концертный зал, нужно просто принять это решение. Люди думают, что они не знают, не разбираются, а позови человека на любой хороший концерт, и, если исполнять будут здорово, ему понравится практически любое, пусть даже очень авангардное сочинение. Жаль, что часто из-за страхов люди просто не знают, как это красиво. Кстати! Раньше была музыка классическая и эстрадная, а как сейчас назвать всю музыку, которая не академическая? Не знаю такого слова. Эстрада — это все-таки очень устаревшее определение. Понятно, что есть джаз, поп, рок, шансон, что угодно, а как назвать это одним словом — непонятно. При этом бывают некоторые, скажем так, перевороты. Если взять, например, вальсы Штрауса — это в каком-то смысле поп-музыка, а если взять тот же Pink Floyd, то это уже серьезная музыка.
Очень много факторов влияет на то, как человек ищет свободу, да и вообще себя самого.
А отличается ли восприятие от города к городу, по вашим наблюдениям, заинтересованность академической музыкой? Вы ведь много путешествуете по стране и с концертами, и с целыми фестивалями.
Фестиваль «Музыкальная экспедиция» мы уже восемь лет проводим во Владимирской области, столице фестиваля, а с этого года гоняем с ним по всей стране. Играем прямо на улице, ставим сцену. И вот приходит несколько тысяч людей, все слушают идеально, в полной тишине. И потом очень многие подходят и говорят: «Мы никогда не подозревали, не знали, что академическая музыка — это так здорово». У нас очень большая страна, труднодоступная, и сравнивать себя с другими странами мы не можем. Допустим, в Западной Европе фестивали с прекрасными исполнителями проходят на каждом шагу, в каждой деревне. И вовлеченность в академическую музыку, в живое ее исполнение там из-за этого априори выше. Но тем не менее все равно академическая музыка никогда по популярности не превзойдет поп-музыку. Там другой абсолютно продакшн, другой масштаб, и нечего с этим тягаться. Классно, если люди с молодых лет могут сочетать в себе интерес и к тому, и к другому. Послушать академический концерт, а потом надеть наушники, идти и слушать Билли Айлиш, Оксимирона, Моргенштерна, да кого угодно. Все имеет право на существование, если оно талантливое. Но, к сожалению, люди зачастую только во второй половине жизни приходят к заинтересованности академической музыкой. У них процессы замедляются, и они думают: посижу-ка я, посозерцаю. Это ведь огромная работа — сидеть в концертном зале и слушать, сопереживать, включаться. Такой большой эмоциональный процесс, которого я желаю всем. Жалко ведь лишать себя такого удовольствия. Надо просто быть открытым и готовым к нему.
В контексте возраста — вопрос про детство. Приходилось заставлять вас заниматься?
Ну, ребенку хочется всегда, мне кажется, что угодно делать, лишь бы не играть на инструменте. Это надо привить любовь. Моя мама не смогла привить мне любовь в детстве. Все мои успехи связаны только лишь с ее усердием, и я ей, конечно же, благодарен. И когда заходит об этом разговор, я вспоминаю ее и добрым и недобрым словом, а она всегда потом читает и обижается. (Смеется.) Но я не могу иначе сказать, потому что знаю примеры, когда дети любят играть и занимаются с удовольствием, а для меня это было проклятье какое-то жуткое. Я ничего хорошего вспомнить не могу, мне это категорически не нравилось. (Смеется.) Летом меня возили всегда в один и тот же дом отдыха, там было прекрасно. И вот утро, ты завтракаешь, полон сил и энергии, солнце светит, 25 градусов, ну а ты два часа шмаляешь по струнам. Сейчас кажется: два часа — это, может быть, не так много, но когда тебе девять лет, это целая вечность. Но от школы никуда не деться, какой-то этап своей жизни нужно очень много заниматься, чтобы это свое ремесло точить. Причем это нужно сделать до определенного возраста, а потом все равно всю жизнь это нужно поддерживать. Это труд постоянный, непрекращающийся. В общем, детство мое было сложным, без виолончели, наверное, оно было бы гораздо радужнее. Но зато теперь много радужного. Помучился в детстве — живи прекрасно. (Смеется.)
Про прекрасную жизнь: как вам кажется, понятие интеллигенции, богемы или творческой элиты и сама его суть сегодня переменилось?
Люди переместились из кухонь в кабаки, это стало более доступно. Но кто это такие — творческая интеллигенция, богема? Это люди, которые занимаются творческими профессиями, или те, кто занимается чем угодно, но любит творчество, увлечен произведениями какого-то музыканта или поэта и будет ходить в консерваторию или на литературные вечера? Мои знакомые в шутку говорят, что в Москве живет 500 человек. В том смысле, что ты знаешь какой-то круг, в котором все тоже друг друга знают, и для тебя город состоит из этих людей. У меня есть большой круг друзей-музыкантов, а также друзей-немузыкантов. Музыканты разговаривают о коронавирусе, о дирижерах и о концертах, то есть наши разговоры сводятся к беседам о профессии. Ну а люди, с которыми я дружу вне ее рамок, говорят о политике, о творчестве. Ну а вообще под рюмочку всегда всех людей тянет поговорить на любые темы. На то эта рюмочка и существует. Может быть, сейчас нет такого, как в шестидесятые: сидения-чтения на кухне, обмена рукописями. Теперь можно встречаться где угодно, как угодно, это тоже вносит контекст. Зато каждый раз, когда приходишь к кому-то домой, радуешься еще больше, чем когда встречаешься где-то на нейтральной территории.

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

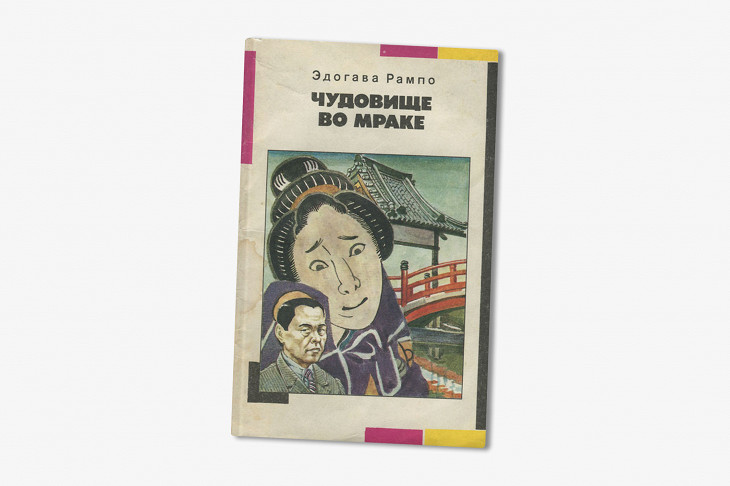






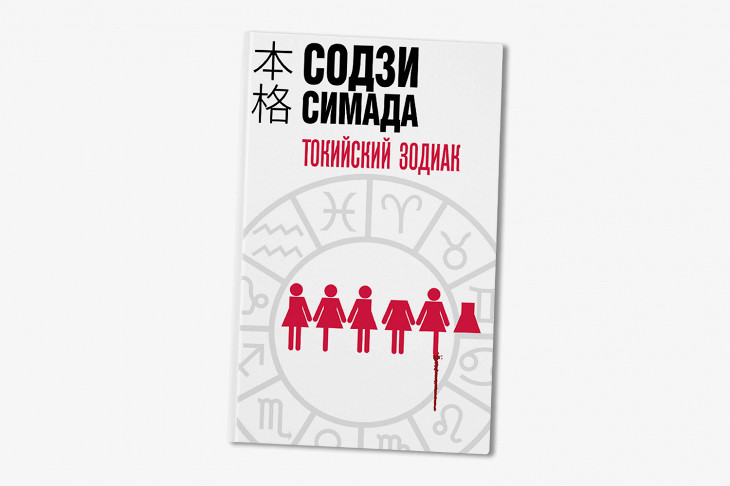

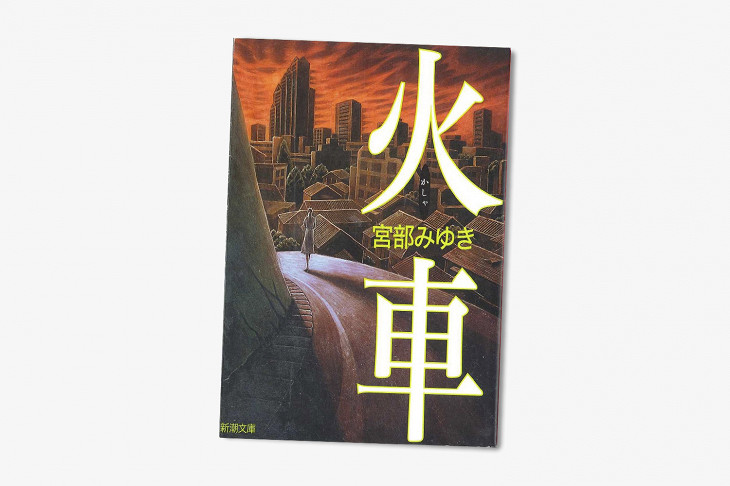




Сочинение
7 класс. Кто виноват в трагической судьбе Самсона Вырина (по повести
А. С. Пушкина “Станционный смотритель”)
1 вариант
сочинения
А.
С. Пушкина не зря называют величайшим русским поэтом и писателем.
Многие вопросы затрагивал он в своем творчестве, в том числе и об
истинных причинах бед самых слабых и незащищенных людей в обществе.
Эту же проблему затрагивает он и в повести «Станционный смотритель».
Самсон Вырин — один
из главных героев повести. По должности он станционный смотритель,
а значит, «сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим
чином токмо от побоев, и то не всегда». Неказисто и небогато его
жилище, украшенное лишь картинками с изображением истории блудного
сына. Единственной настоящей драгоценностью была его четырнадцатилетняя
дочь Дуня: «ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем
успевала». Красивая, расторопная, работящая девушка была гордостью
своего отца, однако и проезжающие через станцию господа не оставляли
ее своим вниманием: «Бывало, кто ни придет, всякий похвалит, никто
не осудит».
Вот почему становится
понятной трагедия станционного смотрителя, внезапно потерявшего
дочь, которую проезжий гусар обманом увез с собой в город. Проживший
жизнь Самсон Вырин прекрасно понимает, какие беды и унижения могут
случиться с его юной, беззащитной в чужом городе Дуней. Не находя
себе места от горя, Самсон решает ехать на поиски дочери и любой
ценой вернуть ее домой. Узнав, что девушка живет у ротмистра Минского,
отчаявшийся отец направляется к нему. Смутившись от неожиданной
встречи, Минский объясняет смотрителю, что Дуня любит его, а он,
в свою очередь, хочет сделать ее жизнь счастливой. Он отказывается
вернуть дочь отцу и взамен сует ему крупную сумму денег. Униженный
и негодующий Самсон Вырин с гневом выбрасывает деньги, однако и
вторая его попытка вызволить дочь оканчивается неудачей. Смотрителю
ничего не остается, как вернуться ни с чем в пустой, осиротевший
дом.
Мы знаем, что недолгой
была жизнь станционного смотрителя после этого случая. Однако знаем
мы и другое — что Дуня действительно стала счастливой «барыней»,
обретя новый дом и семью. Я уверена, что если бы ее отец знал об
этом, он тоже был бы счастлив, но Дуня не посчитала нужным (или
не смогла) вовремя предупредить его об этом. Виновато в трагедии
Самсона Вырина и общество, где человек, занимающий низкую должность,
может быть унижен и оскорблен — и никто не вступится за него, не
поможет, не защитит. Постоянно окруженный людьми, Самсон Вырин всегда
был одиноким, а это очень горько, когда в самые тяжелые минуты жизни
человек остается наедине со своими переживаниями.
Повесть А. С. Пушкина
«Станционный смотритель» учит нас внимательнее относиться к окружающим
людям и ценить их за чувства, мысли и поступки, а не за чины и должности,
ими занимаемые.
2 вариант
сочинения
Ни в одной стране не возникло за
такой небольшой период времени такой могучей семьи величайших мастеров
художественного слова, как в России XIX века. Но именно Пушкина
мы считаем родоначальником классической русской литературы. Гоголь
говорил: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном
поэте… В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский
характер…».
В 1830 году А. С. Пушкин создал
пять прозаических произведений, объединенных общим названием «Повести
Белкина». Они написаны точным, ясным и лаконичным языком. Из «Повестей
Белкина» исключительное значение для дальнейшего развития русской
литературы имел «Станционный смотритель». Очень правдивый, согретый
авторским сочувствием образ смотрителя открывает созданную последующими
русскими писателями галерею «бедных людей», униженных и оскорбленных
тягчайшими для простого человека общественными отношениями тогдашней
действительности.
Именно эта окружающая действительность
и виновата, мне кажется, в трагической судьбе станционного смотрителя
Самсона Вырина. У него была единственная любимая дочь — разумная
и проворная Дуня, помогавшая отцу в работе на станции. Она была
его единственной радостью, но именно она принесла своему отцу «седину,
глубокие морщины давно не бритого лица» и «сгорбленную спину», буквально
три или четыре года превратили «бодрого мужчину в хилого старика».
В конце своей жизни станционный смотритель оказался брошенным своей
дочерью, хотя он сам никого в этом не винит: «…от беды не отбожишься;
что суждено, тому не миновать».
Его любимица с детских лет умела
кокетничать, разговаривала «безо всякой робости, как девушка, видевшая
свет», и этим привлекала проезжих молодых людей, а однажды она сбежала
от отца с проезжим гусаром. Самсон Вырин сам разрешил Дуне прокатиться
с гусаром до церкви: «нашло на него ослепление», а потом «сердце
его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени,
что он не утерпел и пошел сам к обедне». Дуни нигде не было, а вернувшийся
вечером ямщик сообщил: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».
Старик заболел от этого известия и оттого, что узнал, что гусар
притворился больным и уже тогда задумал увезти Дуню.
Самсон Вырин поехал в Петербург
в надежде отыскать и забрать свою дочь, но ротмистр Минский не отдал
ему Дуню и выставил его за дверь, сунув за рукав деньги. Вырин предпринял
еще одну попытку увидеть дочь, но Дуня, увидев его, упала в обморок,
а Минский опять выгнал его. В трагической судьбе станционного смотрителя
виновато и сословное деление общества,
позволяющее высшим чинам жестоко и грубо обращаться с людьми низших
чинов. Минский считал естественным для себя просто увезти Дуню (и
даже не попросить ее руки у отца), и выгнать старика, и накричать
на него.
Трагедия Самсона Вырина состоит
в том, что на склоне лет он остался совсем один, проливая слезы
о потерянной дочери. Не для своих внуков, а для чужих он вырезал
дудочки, с чужими детьми он возился и угощал их орешками. Трагизм
его положения в том, что не при жизни, а после смерти приехала к
нему его любимая дочь. Из рассказа видно, что Минский действительно
любил Дуню и не бросил ее, у нее была счастливая жизнь в достатке.
«Прекрасная барыня… ехала… в карете в шесть лошадей, с тремя
маленькими барчатами и с кормилицей». Узнав, «что старый смотритель
умер… она заплакала» и пошла на кладбище. В трагической судьбе
отца Дуня тоже виновата. Она бросила его, поступила не по-человечески.
Я думаю, мысль об этом не давала ей покоя — ведь приехала она, хоть
и поздно, к отцу, который умер в одиночестве, всеми, и родной дочерью
тоже, забытый.
Очень простыми и
понятными словами Пушкин показал нам трагическую судьбу обыкновенного
человека — станционного смотрителя Самсона Вырина, и мне очень жаль
этого старика.
3 вариант
сочинения
Главным героем повести
Пушкина «Станционный смотритель» является Самсон Вырин. Автор, описывая
трагическую жизнь этого человека, сумел вызвать у читателей сочувствие
и сопереживание к простому человеку.
Вот история, описанная в повести. У бедного станционного смотрителя
растет красавица дочка Дуня. Она нравилась всем, кто останавливался
на станции, была всегда весела и приветлива. Однажды один проезжий
гусар ночевал на станции. Наутро он сказался больным и остался еще
на несколько дней. Все это время Дуня ухаживала за ним, подавала
питье. Когда гусар выздоровел и собрался уезжать, Дуня решила посетить
церковь. Гусар предложил ее подвезти. Самсон сам разрешил дочке
ехать с молодым человеком, сказав: «Ведь его высокоблагородие не
волк и тебя не съест, прокатись-ка до церкви». Дуня уехала и больше
не вернулась. Самсон понял, что гусар увез ее с собой, да и болезнь
его была ложная, он притворялся, лишь бы подольше остаться на станции.
Бедный старик слег от горя, а как только оправился, поехал в Петербург
икать дочь. Он нашел гусара Минского, проследил за ним и ворвался
в комнату к Дуне. Та была в красивом платье, в богато обставленных
покоях. Старик просит Минского отпустить с ним
Дуню, но тот выгнал его, приказав больше никогда не появляться.
Вернувшись на станцию, Самсон только и думал о том, что гусар погубит
его дочь, натешится и выгонит ее на улицу, а там она совсем пропадет.
С горя он начал пить и вскорости умер.
Пытаясь ответить на вопрос, кто же виноват в его гибели, мы находим
ответ в самой повести. В начале повествования рассказчик, попав
в дом Вырина, рассматривает висящие на стене картинки. Они рассказывают
об истории блудного сына. Сначала мы думаем, что они символизируют
жизненный путь Дуни. Но, дочитав до конца, понимаем, что картинки
созвучны с жизнью Самсона Вырина. Картинка, где сын уходит из дому,
говорит о том, что Самсон «уходит» от дочери. Он не верит в ее счастье,
подозревает, что гусар обманет ее. Он не способен представить, что
Минский женится на Дуне. На второй картинке сын окружен ложными
друзьями. Так и Самсона обманул доктор, который приходил лечить
якобы заболевшего гусара. Доктор подтвердил болезнь, побоялся рассказать
Вырину правду. А сам он поверил ему, не догадываясь, что доктор
сговорился с Минским. На третьей картинке изображен скитающийся
сын, пасущий свиней. Так и Вырин, оставшись без дочери, начал пить
от тоски, превращаясь из бодрого мужчины в старика. Последняя картинка
говорит о «возвращении» отца к дочери после смерти. Дуня приехала
навестить отца и нашла его на кладбище. А ведь Минский женился на
ней, у них родились дети, жили они в достатке и любви. Так Самсон
Вырин оказался сам виноват в своей нелегкой судьбе. Не веря в счастье
дочери, он изводил себя мыслями о ее падении. Воспоминания о Дуне
вызывали в нем боль и горечь, он корил себя, что сам разрешил ей
поехать с гусаром в церковь. Запив с горя, он пришел к плачевному
концу. А мог бы общаться и с дочерью, и с мужем ее, и с внуками.
Так автор, сочувствуя переживаниям старика, дает понять читателям,
что осуждает ограниченность мыслей «маленького человека», не способного
верить и надеяться на лучшее. Но при этом Пушкин не презирает Вырина,
а пытается понять природу этих самых мыслей.