Âûìåðëà Ðîññèÿ,
Âûìåð íàø íàðîä,
Íåòó áîëüøå ñèëû,
Ñòûíåò â æèëàõ êðîâü,
׸ðíûå ó âëàñòè,
Çàõâàòèëè âñ¸,
Óïûðè, âàìïèðû,
Ñàòàíèñòû, çëî,
Ïðîäàëè Ðîññèþ,
Ïðîäàëè íàðîä,
Ðóññêèõ ñòàëî ìàëî,
Ðóññêèå íå â ñ÷¸ò,
Âëàñòü âñþ çàõâàòèëè,
Æèäêèå, óðîä,
Áåäíàÿ Ðîññèÿ,
Áåäíûé íàø íàðîä,
Ñêîëüêî åù¸ áóäåò,
Îí òåðïåòü çëîé ãí¸ò,
Íåòó áîëüøå ñìåëûõ,
Ñèëüíûõ è ñòàëüíûõ,
Æèäêèå è çëûå,
Âîò è âåñü îïëîò,
Ñàòàíà ëèêóåò,
Çäåñü îí ïîáåäèë,
Ðóññêèå íà äûáå,
Çàìî÷èë â ñîðòèð,
×òî æå áóäåò äàëüøå,
Äàëüøå áóäåò àä,
Ñìåðòü è ðåêè êðîâè,
Ëàãåðÿ è ñìðàä,
Æä¸ò Ðîññèþ ãîðå,
Æä¸ò íàðîä, ëèøü, ñìåðòü,
Ãèáåëü, âûìèðàíüå,
׸ðíàÿ òðàâà,
Êîëîñèòñÿ â ïîëå,
 êðîâè âñå ïîëÿ,
Êàê òàê ïîëó÷èëîñü?
Äà, âîò, òàê, áåäà,
Îáìàíóëè ÷åðòè,
Ðóñà, ìóæèêà,
Ëîæü è îáåùàíüÿ,
Îí ïîâåðèë èì,
Îòäàë ñâîþ çåìëþ,
Çà ïóñòîé êðåäèò,
Çà êðàþõó õëåáà,
Çà äæèíñó, ïåïñè,
Ãäå æå òû, Ðîññèÿ,
Ðóññêèå, âû ãäå,
Âûìåðëè, ïîìåðëè,
Íåò ñòðàíû óæå,
Ïîêîëåíüå çîìáè,
Ïîêîëåíüå next,
Âìåñòî ïóëåì¸òîâ,
Ëàéêè è ðåïîñò,
×òî æå áóäåò äàëüøå?
Äàëüøå áóäåò ñìåðòü,
Åñëè íå ÿâèòñÿ,
Áîãàòûðü Ôèíèñò*,
Ñîêîë ÿñíûé, ñâåòëûé,
Ðóññêèé êíÿçü è öàðü,
Åñëè íå ïðèä¸ò îí,
Òî êîíåö, ïðîùàé!
20 ñåíòÿáðÿ 2021
*  ñòàðîäàâíèå âðåìåíà æèë íà Ðóñè ïðîñòîé ïàõàðü, çâàëè åãî Ôèíèñòîì. Äðóæèë îí ñ ñîêîëîì. Ïðåäóïðåæäàë ñîêîë Ôèíèñòà îáî âñåõ âðàãàõ, ñòðåìèâøèõñÿ çàõâàòèòü Ðóñü. Ôèíèñò îáîðîíÿë Ðóñü, ïðîãîíÿë èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ.
Âðàãè áûëè íåäîâîëüíû ïîÿâëåíèåì íà Ðóñè áîãàòûðÿ-çàùèòíèêà. Èõ ãëàâà, êîëäóí Êàðòàóñ Ðûæèé Óñ, ïîñûëàåò ñâîåãî ïðèõâîñòíÿ îáîðîòíÿ Êàñòðþêà èçâåñòè áîãàòûðÿ. Òîò îáìàíîì çàìàíèâàåò Ôèíèñòà â ïîäçåìåëüå, ãäå çàêîëäîâûâàåò è ïðåâðàùàåò â ÷óäèùå.
Íà ðóññêîé çàñòàâå âîåâîäà ñ äðóæèíîé ãîòîâèòñÿ îòðàæàòü íàáåãè âðàãîâ. Äëÿ ýòîãî íà ïîèñêè Ôèíèñòà â ãîðîä ïîñûëàþò ïèñàðÿ ßøêó, êîòîðûé òàêæå äîëæåí ðåøèòü âîïðîñ ñ íåäîñòàòêîì ïðîäîâîëüñòâèÿ.
 ïóòè ßøêà âñòðå÷àåò íåâåñòó Ôèíèñòà Àë¸íóøêó. Îòïðàâëÿÿñü âìåñòå â ïóòü, ÷òîáû íàéòè Ôèíèñòà, îíè âñòðå÷àþò êðåñòüÿíèíà Àãàôîíà ñ æåíîé Àíôèñîé, êîòîðûå â ýòîò ìîìåíò åõàëè íà ÿðìàðêó, íî, èñïóãàâøèñü ð¸âà ÷óäèùà, âûíóæäåíû áûëè îñòàíîâèòüñÿ â ëåñó. Àíôèñà äà¸ò ïîíÿòü, ÷òî íà óãîùåíèå ðàññ÷èòûâàòü íå ïðèä¸òñÿ. Îäíàêî ßøêå óäà¸òñÿ å¸ ïåðåõèòðèòü: îí âàðèò ñóï «èç òîïîðà».
Íåîæèäàííî ïîÿâëÿåòñÿ ñòàðóøêà Íåíèëà, êîòîðàÿ ñîîáùàåò, ÷òî â ýòó íî÷ü ìîæíî, èñïîëüçóÿ ïàïîðîòíèê, çàãàäàòü òîëüêî îäíî æåëàíèå è îíî èñïîëíèòñÿ. Òàêæå ñòàðóøêà ñîîáùàåò, ÷òî ÷óäèùå ýòî çàêîëäîâàííûé ÷åëîâåê è ïðîêëÿòèå ïðîéä¸ò, åñëè ïîëþáèò åãî â îáëèêå ÷óäèùà êðàñíà äåâèöà.  ñïîðàõ î òîì, êàêîå çàãàäàòü æåëàíèå, Àíôèñà «ñêâîçü çåìëþ ïðîâàëèëà» Àãàôîíà. Îáâèíèâ â ýòîì ßøêó, îíà íà ñëåäóþùèé äåíü âîçâðàùàåò åãî íà çàñòàâó ñ òðåáîâàíèåì âåðíóòü Àãàôîíà, à Àë¸íóøêà èäåò ñëåäîì çà íèìè.
Òåì âðåìåíåì Êàðòàóñ ïîñûëàåò Êàñòðþêà íà çàñòàâó, ÷òîáû îí ïîä âèäîì êóïöà ïðîíèê âíóòðü è îòêðûë âîðîòà âðàãàì âîåâîäû. Íî Êàñòðþêà ðàçîáëà÷àþò ñòàðóøêè-âåñåëóøêè, è åãî ñàæàþò â ÷óëàí; òóäà æå ïîñûëàþò è ñâàðëèâóþ Àíôèñó. ßøêà èçáåãàåò àðåñòà: âñ¸ æå îí âûïîëíèë çàäàíèå è ïðèãíàë îáîç ñ õàð÷àìè.
Íà çàñòàâó ïðèáûâàåò ïîñîëüñòâî Êàðòàóñà âî ãëàâå ñ Ôèíãàëîì. Îíè òðåáóþò ñäàòüñÿ è ïîäíåñòè Êàðòàóñó ñòî áî÷åê çîëîòà. Íî âîåâîäà ïðîñèò èõ âûðâàòü âåð¸âêó èç ðóê áîãàòûðÿ èíà÷å Êàðòàóñ íè÷åãî íå ïîëó÷èò. ßøêå óäà¸òñÿ ïîáåäèòü âðàãîâ, è ïîñîëüñòâî óåçæàåò íè ñ ÷åì.
Îäíîâðåìåííî ñ ïîñîëüñòâîì Êàðòàóñ ïîñûëàåò ñâîèõ ñëóã çàõâàòèòü çàñòàâó. Íî â ýòî âðåìÿ ÷åðåç ïðîëîì íà çàñòàâó ïðîíèêàåò ÷óäèùå. Àë¸íóøêà, äîãàäûâàÿñü, ÷òî ýòî ÷óäèùå è åñòü Ôèíèñò, íàêðûâàåò åãî êðàñíûì ïëàùîì, êîòîðûé õîòåëà ïîäàðèòü åìó. Ïðîêëÿòèå ñíÿòî, è Ôèíèñò âíîâü ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåêîì. Âìåñòå ñ äðóæèíîé îí ïðîãîíÿåò âðàãîâ.
Ñèäÿ â ÷óëàíå, Êàñòðþê ïîäãîâàðèâàåò Àíôèñó ïîìî÷ü åìó èñïîëíèòü ñâîè êîâàðíûå çàìûñëû, äàâ åé âîëøåáíûé ãðåáåíü, ÷òîáû óñûïèòü áîãàòûðÿ, à âçàìåí îáåùàåò åé âåðíóòü èç-ïîä çåìëè ìóæà. Àíôèñà ðàçâÿçûâàåò ðóêè Êàñòðþêó è âòûêàåò ãðåáåíü Ôèíèñòó â âîëîñû. Êàñòðþê óâîçèò Àíôèñó è ñïÿùåãî Ôèíèñòà â ëîãîâî Êàðòàóñà, ãäå Êàðòàóñ ïðåäëàãàåò Ôèíèñòó ïåðåéòè íà åãî ñòîðîíó. Ïëåííûé Ôèíèñò îòêàçûâàåòñÿ. Àíôèñà, ïîíÿâ, ÷òî å¸ îáìàíóëè, óñòðàèâàåò ïîãðîì.
È âíîâü Àë¸íóøêà îòïðàâëÿåòñÿ íà âûðó÷êó áîãàòûðþ. Äëÿ çàùèòû äåâèöû âîåâîäà ïðèñòàâèë ê íåé ßøêó. Ïðè ïîìîùè ñòàðóøåê-âåñåëóøåê, ÷óäåñíûì îáðàçîì îêàçàâøèõñÿ â ëîãîâå Êàðòàóñà, Àë¸íóøêà è ßøêà îñâîáîæäàþò Ôèíèñòà. Ôèíèñò îòïðàâëÿåò èõ äîìîé, à ñàì ðàñïðàâëÿåòñÿ ñ Êàðòàóñîì. Àãàôîí âîçâðàùàåòñÿ íà çåìëþ ê Àíôèñå.
***
Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà èç ñáîðíèêà À. Àôàíàñüåâà. Äî÷ü âäîâöà ïðîñèò áàòþøêó äîáûòü ñîêîëèíîå ïåðûøêî è èì ïðèçûâàåò êðàñàâöà, îáðàùåííîãî ïòèöåé. Íî çëûå ñåñòðû âîòêíóëè íîæè â åå îêíî: ïûòàÿñü âëåòåòü, Ôèíèñò ïîðàíèëñÿ è íåâåñòó ñâîþ ïîêèíóë. Íåëåãêèé ïóòü ïðåäñòîèò äåâèöå, æåëàþùåé åãî âåðíóòü. ×òî ïîäàðèò åé Áàáà-ÿãà ñ ñåñòðàìè? Êàêèå èñïûòàíèÿ, âîëøåáñòâî è ïîäâèãè ïîìîãóò? Âñå óçíàåòå, äî÷èòàâ ñêàçêó. Ñòàðèííàÿ èñòîðèÿ ñ ìàãèåé ó÷èò êðåïêî ëþáèòü è íå ñäàâàòüñÿ.
***
Æèë äà áûë êðåñòüÿíèí. Óìåðëà ó íåãî æåíà, îñòàëîñü òðè äî÷êè. Õîòåë ñòàðèê íàíÿòü ðàáîòíèöó â õîçÿéñòâå ïîìîãàòü. Íî ìåíüøàÿ äî÷ü, Ìàðüþøêà, ñêàçàëà:
Íå íàäî, áàòþøêà, íàíèìàòü ðàáîòíèöó, ñàìà ÿ áóäó õîçÿéñòâî âåñòè.
Ëàäíî. Ñòàëà äî÷êà Ìàðüþøêà õîçÿéñòâî âåñòè. Âñå-òî îíà óìååò, âñå-òî ó íåå ëàäèòñÿ. Ëþáèë îòåö Ìàðüþøêó: ðàä áûë, ÷òî òàêàÿ óìíàÿ äà ðàáîòÿùàÿ äî÷êà ðàñòåò. Èç ñåáÿ-òî Ìàðüþøêà êðàñàâèöà ïèñàíàÿ. À ñåñòðû åå çàâèäóùèå äà æàäíþùèå, èç ñåáÿ-òî îíè íåêðàñèâûå, à ìîäíèöû-ïåðåìîäíèöû âåñü äåíü ñèäÿò äà áåëÿòñÿ, äà ðóìÿíÿòñÿ, äà â îáíîâêè íàðÿæàþòñÿ, ïëàòüÿ èì íå ïëàòüÿ, ñàïîæêè íå ñàïîæêè, ïëàòîê íå ïëàòîê.
Ïîåõàë îòåö íà áàçàð è ñïðàøèâàåò äî÷åê:
×òî âàì, äî÷êè, êóïèòü, ÷åì ïîðàäîâàòü?
È ãîâîðÿò ñòàðøàÿ è ñðåäíÿÿ äî÷êè:
Êóïè ïî ïîëóøàëêó, äà òàêîìó, ÷òîá öâåòû ïîêðóïíåå, çîëîòîì ðàñïèñàííûå.
À Ìàðüþøêà ñòîèò äà ìîë÷èò. Ñïðàøèâàåò åå îòåö:
À ÷òî òåáå, äî÷åíüêà, êóïèòü?
Êóïè ìíå, áàòþøêà, ïåðûøêî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà.
Ïðèåçæàåò îòåö, ïðèâîçèò äî÷êàì ïîëóøàëêè, à ïåðûøêà íå íàøåë.
Ïîåõàë îòåö â äðóãîé ðàç íà áàçàð.
Íó, ãîâîðèò, äî÷êè, çàêàçûâàéòå ïîäàðêè.
Îáðàäîâàëèñü ñòàðøàÿ è ñðåäíÿÿ äî÷êè:
Êóïè íàì ïî ñàïîæêàì ñ ñåðåáðÿíûìè ïîäêîâêàìè.
À Ìàðüþøêà îïÿòü çàêàçûâàåò;
Êóïè ìíå, áàòþøêà, ïåðûøêî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà.
Õîäèë îòåö âåñü äåíü, ñàïîæêè êóïèë, à ïåðûøêà íå íàøåë. Ïðèåõàë áåç ïåðûøêà.
Ëàäíî. Ïîåõàë ñòàðèê â òðåòèé ðàç íà áàçàð, à ñòàðøàÿ è ñðåäíÿÿ äî÷êè ãîâîðÿò:
Êóïè íàì ïî ïëàòüþ.
À Ìàðüþøêà îïÿòü ïðîñèò;
Áàòþøêà, êóïè ïåðûøêî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà.
Õîäèë îòåö âåñü äåíü, à ïåðûøêà íå íàøåë. Âûåõàë èç ãîðîäà, à íàâñòðå÷ó ñòàðåíüêèé ñòàðè÷îê:
Çäîðîâî, äåäóøêà!
Çäðàâñòâóé, ìèëûé! Êóäà ïóòü-äîðîãó äåðæèøü?
Ê ñåáå, äåäóøêà, â äåðåâíþ. Äà âîò ãîðå ó ìåíÿ: ìåíüøàÿ äî÷êà íàêàçûâàëà êóïèòü ïåðûøêî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà, à ÿ íå íàøåë.
Åñòü ó ìåíÿ òàêîå ïåðûøêî, äà îíî çàâåòíîå; íî äëÿ äîáðîãî ÷åëîâåêà, êóäà íè øëî, îòäàì.
Âûíóë äåäóøêà ïåðûøêî è ïîäàåò, à îíî ñàìîå îáûêíîâåííîå. Åäåò êðåñòüÿíèí è äóìàåò: «×òî â íåì Ìàðüþøêà íàøëà õîðîøåãî?»
Ïðèâåç ñòàðèê ïîäàðêè äî÷êàì, ñòàðøàÿ è ñðåäíÿÿ íàðÿæàþòñÿ äà íàä Ìàðüþøêîé ñìåþòñÿ:
Êàê áûëà òû äóðî÷êà, òàê è åñòü. Íàöåïè ñâîå ïåðûøêî â âîëîñà äà êðàñóéñÿ!
Ïðîìîë÷àëà Ìàðüþøêà, îòîøëà â ñòîðîíó, à êîãäà âñå ñïàòü ïîëåãëè, áðîñèëà Ìàðüþøêà ïåðûøêî íà ïîë è ïðîãîâîðèëà:
Ëþáåçíûé Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë, ÿâèñü êî ìíå, æäàííûé ìîé æåíèõ!
È ÿâèëñÿ åé ìîëîäåö êðàñîòû íåîïèñàííîé. Ê óòðó ìîëîäåö óäàðèëñÿ îá ïîë è ñäåëàëñÿ ñîêîëîì. Îòâîðèëà åìó Ìàðüþøêà îêíî, è óëåòåë ñîêîë ê ñèíåìó íåáó.
Òðè äíÿ Ìàðüþøêà ïðèâå÷àëà ê ñåáå ìîëîäöà; äíåì îí ëåòàåò ñîêîëîì ïî ñèíåìó ïîäíåáåñüþ, à ê íî÷è ïðèëåòàåò ê Ìàðüþøêå è äåëàåòñÿ äîáðûì ìîëîäöåì.
Íà ÷åòâåðòûé äåíü ñåñòðû çëûå çàìåòèëè íàãîâîðèëè îòöó íà ñåñòðó.
Ìèëûå äî÷êè, ãîâîðèò îòåö, ñìîòðèòå ëó÷øå çà ñîáîé!
«Ëàäíî, äóìàþò ñåñòðû, ïîñìîòðèì, êàê áóäåò äàëüøå».
Íàòûêàëè îíè â ðàìó îñòðûõ íîæåé, à ñàìè ïðèòàèëèñü, ñìîòðÿò. Âîò ëåòèò ÿñíûé ñîêîë. Äîëåòåë äî îêíà è íå ìîæåò ïîïàñòü â êîìíàòó Ìàðüþøêè. Áèëñÿ, áèëñÿ, âñþ ãðóäü èçðåçàë, à Ìàðüþøêà ñïèò è íå ñëûøèò. È ñêàçàë òîãäà ñîêîë:
Êîìó ÿ íóæåí, òîò ìåíÿ íàéäåò. Íî ýòî áóäåò íåëåãêî. Òîãäà ìåíÿ íàéäåøü, êîãäà òðîå áàøìàêîâ æåëåçíûõ èçíîñèøü, òðîå ïîñîõîâ æåëåçíûõ èçëîìàåøü, òðîå êîëïàêîâ æåëåçíûõ ïîðâåøü.
Óñëûøàëà ýòî Ìàðüþøêà, âñêî÷èëà ñ êðîâàòè, ïîñìîòðåëà â îêíî, à ñîêîëà íåò, è òîëüêî êðîâàâûé ñëåä íà îêíå îñòàëñÿ. Çàïëàêàëà Ìàðüþøêà ãîðüêèìè ñëåçàìè ñìûëà ñëåçêàìè êðîâàâûé ñëåä è ñòàëà åùå êðàøå.
Ïîøëà îíà ê îòöó è ïðîãîâîðèëà:
Íå áðàíè ìåíÿ, áàòþøêà, îòïóñòè â ïóòü-äîðîãó äàëüíþþ. Æèâà áóäó ñâèäèìñÿ, óìðó òàê, çíàòü, íà ðîäó íàïèñàíî.
Æàëêî áûëî îòöó îòïóñêàòü ëþáèìóþ äî÷êó, íî îòïóñòèë.
Çàêàçàëà Ìàðüþøêà òðîå áàøìàêîâ æåëåçíûõ, òðîå ïîñîõîâ æåëåçíûõ, òðîå êîëïàêîâ æåëåçíûõ è îòïðàâèëàñü â ïóòü-äîðîãó äàëüíþþ, èñêàòü æåëàííîãî Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà. Øëà îíà ÷èñòûì ïîëåì, øëà òåìíûì ëåñîì, âûñîêèìè ãîðàìè. Ïòè÷êè âåñåëûìè ïåñíÿìè åé ñåðäöå ðàäîâàëè, ðó÷åéêè ëèöî áåëîå óìûâàëè, ëåñà òåìíûå ïðèâå÷àëè. È íèêòî íå ìîã Ìàðüþøêó òðîíóòü; âîëêè ñåðûå, ìåäâåäè, ëèñèöû âñå çâåðè ê íåé ñáåãàëèñü. Èçíîñèëà îíà áàøìàêè æåëåçíûå, ïîñîõ æåëåçíûé èçëîìàëà è êîëïàê æåëåçíûé ïîðâàëà.
È âîò âûõîäèò Ìàðüþøêà íà ïîëÿíó è âèäèò: ñòîèò èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ âåðòèòñÿ. Ãîâîðèò Ìàðüþøêà:
Èçáóøêà, èçáóøêà, âñòàíü ê ëåñó çàäîì, êî ìíå ïåðåäîì! Ìíå â òåáÿ ëåçòü, õëåáà åñòü.
Ïîâåðíóëàñü èçáóøêà ê ëåñó çàäîì, ê Ìàðüþøêå ïåðåäîì. Çàøëà Ìàðüþøêà â èçáóøêó è âèäèò: ñèäèò òàì áàáà-ÿãà êîñòÿíàÿ íîãà, íîãè èç óãëà â óãîë, ãóáû íà ãðÿäêå, à íîñ ê ïîòîëêó ïðèðîñ.
Óâèäåëà áàáà-ÿãà Ìàðüþøêó, çàøóìåëà:
Òüôó, òüôó, ðóññêèì äóõîì ïàõíåò! Êðàñíàÿ äåâóøêà, äåëî ïûòàåøü àëü îò äåëà ëûòàåøü?
Èùó, áàáóøêà, Ôèíèñòàÿñíà ñîêîëà.
Î êðàñàâèöà, äîëãî òåáå èñêàòü! Òâîé ÿñíûé ñîêîë çà òðèäåâÿòü çåìåëü, â òðèäåâÿòîì ãîñóäàðñòâå. Îïîèëà åãî çåëüåì öàðèöà-âîëøåáíèöà è æåíèëà íà ñåáå. Íî ÿ òåáå ïîìîãó. Âîò òåáå ñåðåáðÿíîå áëþäå÷êî è çîëîòîå ÿè÷êî. Êîãäà ïðèäåøü â òðèäåâÿòîå öàðñòâî, íàéìèñü ðàáîòíèöåé ê öàðèöå. Ïîêîí÷èøü ðàáîòó áåðè áëþäå÷êî, êëàäè çîëîòîå ÿè÷êî, ñàìî áóäåò êàòàòüñÿ. Ñòàíóò ïîêóïàòü íå ïðîäàâàé. Ïðîñèñü Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà ïîâèäàòü.
Ïîáëàãîäàðèëà Ìàðüþøêà áàáó-ÿãó è ïîøëà. Ïîòåìíåë ëåñ, ñòðàøíî ñòàëî Ìàðüþøêå, áîèòñÿ è øàãíóòü, à íàâñòðå÷ó êîò. Ïðûãíóë ê Ìàðüþøêå è çàìóðëûêàë:
Íå áîéñÿ, Ìàðüþøêà, èäè âïåðåä. Áóäåò åùå ñòðàøíåå, à òû èäè è èäè, íå îãëÿäûâàéñÿ.
Ïîòåðñÿ êîò ñïèíêîé è áûë òàêîâ, à Ìàðüþøêà ïîøëà äàëüøå. À ëåñ ñòàë åùå òåìíåé.
Øëà, øëà Ìàðüþøêà, áàøìàêè æåëåçíûå èçíîñèëà, ïîñîõ ïîëîìàëà, êîëïàê ïîðâàëà è ïðèøëà ê èçáóøêå íà êóðüèõ íîæêàõ. Âîêðóã òûí, íà êîëüÿõ ÷åðåïà, è êàæäûé ÷åðåï îãíåì ãîðèò.
Ãîâîðèò Ìàðüþøêà:
Èçáóøêà, èçáóøêà, âñòàíü ê ëåñó çàäîì, êî ìíå ïåðåäîì! Ìíå â òåáÿ ëåçòü, õëåáà åñòü.
Ïîâåðíóëàñü èçáóøêà ê ëåñó çàäîì, ê Ìàðüþøêå ïåðåäîì. Çàøëà Ìàðüþøêà â èçáóøêó è âèäèò: ñèäèò òàì áàáà-ÿãà êîñòÿíàÿ íîãà, íîãè èç óãëà â óãîë, ãóáû íà ãðÿäêå, à íîñ ê ïîòîëêó ïðèðîñ.
Óâèäåëà áàáà-ÿãà Ìàðüþøêó, çàøóìåëà:
Òüôó, òüôó, ðóññêèì äóõîì ïàõíåò! Êðàñíàÿ äåâóøêà, äåëî ïûòàåøü àëü îò äåëà ëûòàåøü?
Èùó, áàáóøêà, Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà.
À ó ìîåé ñåñòðû áûëà?
Áûëà, áàáóøêà.
Ëàäíî, êðàñàâèöà, ïîìîãó òåáå. Áåðè ñåðåáðÿíûå ïÿëüöû, çîëîòóþ èãîëî÷êó. Èãîëî÷êà ñàìà áóäåò âûøèâàòü ñåðåáðîì è çîëîòîì ïî ìàëèíîâîìó áàðõàòó. Áóäóò ïîêóïàòü íå ïðîäàâàé. Ïðîñèñü Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà ïîâèäàòü.
Ïîáëàãîäàðèëà Ìàðüþøêà áàáó-ÿãó è ïîøëà. À â ëåñó ñòóê, ãðîì, ñâèñò, ÷åðåïà ëåñ îñâåùàþò. Ñòðàøíî ñòàëî Ìàðüþøêå. Ãëÿäü, ñîáàêà áåæèò:
Àâ, àâ, Ìàðüþøêà, íå áîéñÿ, ðîäíàÿ, èäè. Áóäåò åùå ñòðàøíåå, íå îãëÿäûâàéñÿ.
Ñêàçàëà è áûëà òàêîâà. Ïîøëà Ìàðüþøêà, à ëåñ ñòàë åùå òåìíåå. Çà íîãè åå öåïëÿåò, çà ðóêàâà õâàòàåò Èäåò Ìàðüþøêà, èäåò è íàçàä íå îãëÿíåòñÿ.
Äîëãî ëè, êîðîòêî ëè øëà áàøìàêè æåëåçíûå èçíîñèëà, ïîñîõ æåëåçíûé ïîëîìàëà, êîëïàê æåëåçíûé ïîðâàëà. Âûøëà íà ïîëÿíêó, à íà ïîëÿíêå èçáóøêà íà êóðüèõ íîæêàõ, âîêðóã òûí, à íà êîëüÿõ ëîøàäèíûå ÷åðåïà; êàæäûé ÷åðåï îãíåì ãîðèò.
Ãîâîðèò Ìàðüþøêà:
Èçáóøêà, èçáóøêà, âñòàíü ê ëåñó çàäîì, à êî ìíå ïåðåäîì!
Ïîâåðíóëàñü èçáóøêà ê ëåñó çàäîì, à ê Ìàðüþøêå ïåðåäîì. Çàøëà Ìàðüþøêà â èçáóøêó è âèäèò: ñèäèò áàáà-ÿãà êîñòÿíàÿ íîãà, íîãè èç óãëà â óãîë, ãóáû íà ãðÿäêå, à íîñ ê ïîòîëêó ïðèðîñ. Ñàìà ÷åðíàÿ, à âî ðòó îäèí êëûê òîð÷èò.
Óâèäåëà áàáà-ÿãà Ìàðüþøêó, çàøóìåëà:
Òüôó, òüôó, ðóññêèì äóõîì ïàõíåò! Êðàñíàÿ äåâóøêà, äåëî ïûòàåøü àëü îò äåëà ïûòàåøü?
Èùó, áàáóøêà, Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà.
Òðóäíî, êðàñàâèöà, òåáå áóäåò åãî îòûñêàòü, äà ÿ ïîìîãó. Âîò òåáå ñåðåáðÿíîå äîíöå, çîëîòîå âåðåòåíöå. Áåðè â ðóêè, ñàìî ïðÿñòü áóäåò, ïîòÿíåòñÿ íèòêà íå ïðîñòàÿ, à çîëîòàÿ.
Ñïàñèáî òåáå, áàáóøêà.
Ëàäíî, ñïàñèáî ïîñëå ñêàæåøü, à òåïåðü ñëóøàé, ÷òî òåáå íàêàæó: áóäóò çîëîòîå âåðåòåíöå ïîêóïàòü íå ïðîäàâàé, à ïðîñèñü Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà ïîâèäàòü.
Ïîáëàãîäàðèëà Ìàðüþøêà áàáó-ÿãó è ïîøëà, à ëåñ çàøóìåë, çàãóäåë: ïîäíÿëñÿ ñâèñò, ñîâû çàêðóæèëèñü, ìûøè èç íîð ïîâûëåçëèäà âñå íà Ìàðüþøêó. È âè äèò Ìàðüþøêà áåæèò íàâñòðå÷ó ñåðûé âîëê.
Íå ãîðþé, ãîâîðèò îí, à ñàäèñü íà ìåíÿ è íå îãëÿäûâàéñÿ.
Ñåëà Ìàðüþøêà íà ñåðîãî âîëêà, è òîëüêî åå è âèäåëè. Âïåðåäè ñòåïè øèðîêèå, ëóãà áàðõàòíûå, ðåêè ìåäîâûå, áåðåãà êèñåëüíûå, ãîðû â îáëàêà óïèðàþòñÿ. À Ìàðüþøêà ñêà÷åò è ñêà÷åò. È âîò ïåðåä Ìàðüþøêîé õðóñòàëüíûé òåðåì. Êðûëüöî ðåçíîå, îêîíöà óçîð÷àòûå, à â îêîíöå öàðèöà ãëÿäèò.
Íó, ãîâîðèò âîëê, ñëåçàé, Ìàðüþøêà, èäè è íàíèìàéñÿ â ïðèñëóãè.
Ñëåçëà Ìàðüþøêà, óçåëîê âçÿëà, ïîáëàãîäàðèëà âîëêà è ïîøëà ê õðóñòàëüíîìó äâîðöó. Ïîêëîíèëàñü Ìàðüþøêà öàðèöå è ãîâîðèò:
Íå çíàþ, êàê âàñ çâàòü, êàê âåëè÷àòü, à íå íóæíà ëè âàì áóäåò ðàáîòíèöà?
Îòâå÷àåò öàðèöà:
Äàâíî ÿ èùó ðàáîòíèöó, íî òàêóþ, êîòîðàÿ ìîãëà áû ïðÿñòü, òêàòü, âûøèâàòü.
Âñå ýòî ÿ ìîãó äåëàòü.
Òîãäà ïðîõîäè è ñàäèñü çà ðàáîòó.
È ñòàëà Ìàðüþøêà ðàáîòíèöåé. Äåíü ðàáîòàåò, à íàñòóïèò íî÷ü âîçüìåò Ìàðüþøêà ñåðåáðÿíîå áëþäå÷êî çîëîòîå ÿè÷êî è ñêàæåò:
Êàòèñü, êàòèñü, çîëîòîå ÿè÷êî, ïî ñåðåáðÿíîìó áëþäå÷êó, ïîêàæè ìíå ìîåãî ìèëîãî.
Ïîêàòèòñÿ ÿè÷êî ïî ñåðåáðÿíîìó áëþäå÷êó, è ïðåäñòàíåò Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë. Ñìîòðèò íà íåãî Ìàðüþøêà è ñëåçàìè çàëèâàåòñÿ:
Ôèíèñò ìîé, Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë, çà÷åì òû ìåíÿ îñòàâèë îäíó, ãîðüêóþ, î òåáå ïëàêàòü!
Ïîäñëóøàëà öàðèöà åå ñëîâà è ãîâîðèò:
Ïðîäàé òû ìíå, Ìàðüþøêà, ñåðåáðÿíîå áëþäå÷êî è çîëîòîå ÿè÷êî.
Íåò, ãîâîðèò Ìàðüþøêà, îíè íåïðîäàæíûå. Ìîãó ÿ òåáå èõ îòäàòü, åñëè ïîçâîëèøü íà Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà ïîãëÿäåòü.
Ïîäóìàëà öàðèöà, ïîäóìàëà.
Ëàäíî, ãîâîðèò, òàê è áûòü. Íî÷üþ, êàê îí óñíåò, ÿ òåáå åãî ïîêàæó.
Íàñòóïèëà íî÷ü, è èäåò Ìàðüþøêà â ñïàëüíþ ê Ôèíèñòó ÿñíó ñîêîëó. Âèäèò îíà ñïèò åå ñåðäå÷íûé äðóã ñíîì íåïðîáóäíûì. Ñìîòðèò Ìàðüþøêà íå íàñìîòðèòñÿ, öåëóåò â óñòà ñàõàðíûå, ïðèæèìàåò ê ãðóäè áåëîé, ñïèò íå ïðîáóäèòñÿ ñåðäå÷íûé äðóã.
Íàñòóïèëî óòðî, à Ìàðüþøêà íå äîáóäèëàñü ìèëîãî
Öåëûé äåíü ðàáîòàëà Ìàðüþøêà, à âå÷åðîì âçÿëà ñåðåáðÿíûå ïÿëüöû äà çîëîòóþ èãîëî÷êó. Ñèäèò âûøèâàåò, ñàìà ïðèãîâàðèâàåò:
Âûøèâàéñÿ, âûøèâàéñÿ, óçîð, äëÿ Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà. Áûëî áû ÷åì åìó ïî óòðàì âûòèðàòüñÿ.
Ïîäñëóøàëà öàðèöà è ãîâîðèò:
Ïðîäàé, Ìàðüþøêà, ñåðåáðÿíûå ïÿëüöû, çîëîòóþ èãîëî÷êó.
ß íå ïðîäàì, ãîâîðèò Ìàðüþøêà, à òàê îòäàì, ðàçðåøè òîëüêî ñ Ôèíèñòîì ÿñíûì ñîêîëîì ñâèäåòüñÿ.
Ïîäóìàëà òà, ïîäóìàëà.
Ëàäíî, ãîâîðèò, òàê è áûòü, ïðèõîäè íî÷üþ.
Íàñòóïàåò íî÷ü. Âõîäèò Ìàðüþøêà â ñïàëåíêó ê Ôèíèñòó ÿñíó ñîêîëó, à òîò ñïèò ñíîì íåïðîáóäíûì.
Ôèíèñò òû ìîé, ÿñíûé ñîêîë, âñòàíü, ïðîáóäèñü!
Ñïèò Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë êðåïêèì ñíîì. Áóäèëà åãî Ìàðüþøêà íå äîáóäèëàñü.
Íàñòóïàåò äåíü.
Ñèäèò Ìàðüþøêà çà ðàáîòîé, áåðåò â ðóêè ñåðåáðÿíîå äîíöå, çîëîòîå âåðåòåíöå. À öàðèöà óâèäàëà: ïðîäàé äà ïðîäàé!
Ïðîäàòü íå ïðîäàì, à ìîãó è òàê îòäàòü, åñëè ïîçâîëèøü ñ Ôèíèñòîì ÿñíûì ñîêîëîì õîòü ÷àñîê ïîáûòü.
Ëàäíî, ãîâîðèò òà.
À ñàìà äóìàåò: «Âñå ðàâíî íå ðàçáóäèò».
Íàñòàëà íî÷ü. Âõîäèò Ìàðüþøêà â ñïàëüíþ ê Ôèíèñòó ÿñíó ñîêîëó, à òîò ñïèò ñíîì íåïðîáóäíûì.
Ôèíèñò òû ìîé ÿñíûé ñîêîë, âñòàíü, ïðîáóäèñü!
Ñïèò Ôèíèñò, íå ïðîñûïàåòñÿ.
Áóäèëà, áóäèëà íèêàê íå ìîæåò äîáóäèòüñÿ, à ðàññâåò áëèçêî.
Çàïëàêàëà Ìàðüþøêà:
Ëþáåçíûé òû ìîé Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë, âñòàíü, ïðîáóäèñü, íà Ìàðüþøêó ñâîþ ïîãëÿäè, ê ñåðäöó ñâîåìó åå ïðèæìè!
Óïàëà Ìàðüþøêèíà ñëåçà íà ãîëîå ïëå÷î Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà è îáîæãëà. Î÷íóëñÿ Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë, îñìîòðåëñÿ è âèäèò Ìàðüþøêó. Îáíÿë åå, ïîöåëîâàë:
Íåóæåëè ýòî òû, Ìàðüþøêà! Òðîå áàøìàêîâ èçíîñèëà, òðîå ïîñîõîâ æåëåçíûõ èçëîìàëà, òðîå êîëïàêîâ æåëåçíûõ ïîèñòðåïàëà è ìåíÿ íàøëà? Ïîåäåì æå òåïåðü íà ðîäèíó.
Ñòàëè îíè äîìîé ñîáèðàòüñÿ, à öàðèöà óâèäåëà è ïðèêàçàëà â òðóáû òðóáèòü, îá èçìåíå ñâîåãî ìóæà îïîâåñòèòü.
Ñîáðàëèñü êíÿçüÿ äà êóïöû, ñòàëè ñîâåò äåðæàòü, êàê Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà íàêàçàòü.
Òîãäà Ôèíèñò ÿñíûé ñîêîë ãîâîðèò:
Êîòîðàÿ, ïî-âàøåìó, íàñòîÿùàÿ æåíà: òà ëè, ÷òî êðåïêî ëþáèò, èëè òà, ÷òî ïðîäàåò äà îáìàíûâàåò?
Ñîãëàñèëèñü âñå, ÷òî æåíà Ôèíèñòà ÿñíà ñîêîëà Ìàðüþøêà.
È ñòàëè îíè æèòü-ïîæèâàòü äà äîáðà íàæèâàòü. Ïîåõàëè â ñâîå ãîñóäàðñòâî, ïèð ñîáðàëè, â òðóáû çàòðóáèëè, â ïóøêè çàïàëèëè, è áûë ïèð òàêîé, ÷òî è òåïåðü ïîìíÿò.
Финист-Ясный Сокол
Веда Северин
(по мотивам сказки)
Мой измученный птах,мой нежнейший из всех,
ты в кого превратился, милый?
Всё таишься, закован в расчёт, как в доспех,
но доспех может стать и могилой!
Где былой идеал? В том, чтоб рвать и таскать?
Жизнь — охота? Добыча манит?
Ты смолчал, отступил и уж выход искать
от бессилия станешь в обмане…
Ты — искатель! Ты — воин! И силы твои
Так нужны для благого дела…
Всё ты можешь, мужчина, шагни, не таись,
человек, ведь, не просто — тело.
Ясный Сокол мой! Финист! Очнись, оглянись-
крылья созданы для полёта!
Улети в настоящую, чистую жизнь
с обывательского болота!
Сказка для любимой. Финист — ясный сокол
Владимир Мазурин
У крестьянина умерла жена.
Трёх оставила дочерей она.
Дочки старшие — горе сущее —
Завидущие да жаднющие.
Некрасивые, хоть и модницы.
Ну, а младшая — клад, как водится,
Дочка умная, работящая
И красавица настоящая.
…На базар отец собирался раз:
— Дочки милые, что купить для вас?
— Ах, отец родной, привези ты нам
Полушалки золотом шитые! —
Просят старшие, стоя около.
— Ну, а что тебе, свет мой, Марьюшка?
— Привези мне пёрышко, батюшка,
Птицы Финиста — ясна сокола!
Полушалка два он привёз к среде,
Только пёрышка не нашёл нигде.
В зеркала весь день сёстры пялятся,
Всё обновками не нахвалятся.
Всё румянятся да духаются,
Да над Марьюшкой насмехаются.
Та стирает ли, или стряпает —
А слеза нет-нет — да и капает…
…Вот опять отец в воз запряг коня:
— Что вы в этот раз ждёте от меня?
— Привези сапожки нам новые
Да с серебрянными подковами! —
Просят старшие, стоя около.
— Ну, а что тебе, свет мой, Марьюшка?
— Привези мне пёрышко, батюшка,
Птицы Финиста — ясна сокола!
Сапоги привёз старшим дочкам он,
Но про пёрышко — не слыхал и звон.
Языками модницы клацают,
О порог подковами бряцают.
Перед зеркалами кривляются,
Да сестрице вслед ухмыляются.
Та стирает ли, или стряпает —
А слеза нет-нет — да и капает…
Вот собрался он в город третий раз:
— Что хотите вы попросить сейчас?
— Платья новые и нарядные! —
Стали требовать сёстры жадные
У родителя, стоя около.
— Ну, а что тебе, свет мой, Марьюшка?
— Привези мне пёрышко, батюшка,
Птицы Финиста — ясна сокола!
Платья модные дочерям купил.
И на поиски целый день убил.
Ведь без пёрышка как вернуться втреть?
Младшей дочери как в глаза смотреть?
На пути домой головой поник.
Но помог с седой бородой старик:
— Есть товар такой у меня, смотри!
И раз добрый ты, так и быть — бери!
В платья шёлковы сёстры вредные
Нарядясь, травить стали бедную:
— Ай, да пёрышко! К волосам своим
Прикрепи его и любуйся им!
А она, снеся передряги все,
Подождав, пока спать улягутся,
Позвала, в судьбу веря искренне:
— Финист, сокол мой, ты явись ко мне!
Добрый молодец тут явился к ней
Красоты в словах не описанной.
Пробыл с Марьюшкой ночь, пока темно,
Утром соколом улетев в окно.
Сёстры ж сделали подлость дикую
Да в окно ножей понатыкали.
Сокол влезть хотел — грудь изрезал в кровь.
И на третий день не явился вновь.
Всё звала-ждала, горевала всё —
И искать пошла друга Марьюшка.
Подойдя к отцу, попрощалася:
— Не брани меня, милый батюшка!
Чистым полем шла, лесом тёмным ли —
Волки серые дочь не тронули.
Помогали ей звери дикие
За любовь её за великую.
Заповетными шла дорожками
И встречалася с баба-ёжками.
Привела её доля клятая
В царство дальнее тридевятое.
Там ко злой царице-охотнице
Нанялась она домработницей.
И ткала, пряла, платья шила ей,
Чтобы вызволить друга милого.
И проникла ночкой глубокую
В спальню к Финисту — ясну соколу.
И плечо ему обожгла слезой:
— Я нашла тебя, друг любезный мой!
Поцелуями он покрыл её:
— Здравствуй, Марьюшка! Здравствуй, милая!
Ты своей любовью огромною
Победить смогла чары тёмные!
И домой они воротилися.
Миловалися и любилися…
…Вот и мы с тобой тоже вылюбим,
Что дано судьбой — живы были бы!
Финист Ясный сокол
Елена Жукова-Желенина
Было это в Нижнем граде много лет тому назад.
Горожане то преданье верно в памяти хранят.
—
У боярина Платона есть и слава, и почёт.
Так размеренно и славно жизнь его рекой течёт.
Словно Волга, плывёт плавно средь любимых берегов.
Вид из терема на Стрелку… От красы душа поёт…
А Платон души не чает в дочке Машеньке своей.
Каждый шаг оберегает… Аж пылиночки сдувает
С милой лапушки, поверь!
Дочка Машенька красива! Но бойкА и так смелА.
По замашкам, по повадке, видно, в батюшку пошла…
До чего резвА девчонка! Может на коне скакать,
А из лука стрелой ловко в цель любую попадать.
Так хотят её просватать! Всем отказ с улыбкой шлёт.
Говорит, что, мол, не любит! От ворот всем поворот…
Ох, намедни дружок царский сватать Машу приезжал.
Посмеявшись, отказала… Тут Платон уж осерчал.
Запер дочку он в палатах. Только нянька одна с ней.
— Пусть одумается девка! Под венец пойдёт скорей!
Маша в терему скучает… Но упряма! Вся в отца…
— Батюшка пусть милый знает: В заточении страдает,
Но, что замуж не желает… Не уступит никогда!
С нянюшкой вдвоём, вздыхая, коротают вечера…
Нянька, часто так бывает, песни, сказки вспоминает.
Маша слушает, мечтает… Вот такие, брат, дела.
Рассказала как-то сказку: Вишь, на службе у царя,
Говорят, есть синеокий мОлодец! Он — ясный сокол.
Облетает вмиг поля… Смотрит, нет ли врагов близко?
ФИнист мОлодца зовут…Так хорош, так смел парнишка!
Нет отважнее вокруг!
Посмеялись. Но запали в душу нянькины слова.
— Вот такого повстречать бы! Сердце сразу б отдала…
А у Маши есть подружка. Нет, не средь девиц — средь птиц!
К ней синичка прилетает. Хлеб ей девушка крошит.
Попросила как-то Маша пёрышко ей принести.
— Финист над землёй летает. Пёрышки, поди, теряет.
Сердце девичье спаси!
Всё синичка понимая, вмиг умчалась… Нет её…
Через три дня прилетела… В клюве дивное перо.
Когда ночью все заснули: Стража, нянька… Тишина…
Машенька перо достала, об пол бросивши, ждала.
Перо пола лишь коснулось, сокол вмиг в окно влетел.
Стукнулся он тут о землю. Нету птицы вожделенной!
МОлодец в глаза смотрел.
— Ах! Боярышня-красотка, заколдован я навек.
Днём я соколом летаю и лишь ночью человек.
С злым Кощеем я сражался, но не смог его убить.
Тут послал колдун заклятье: Соколом я стану жить.
Погляди! Ведь только ночью, лишь во тьме я человек.
Финист днём я — Ясный Сокол. Птицей коротаю век.
Сам я из сынов боярских, но заклятие на мне.
Но царю я помогаю и границы охраняю…
В небе я служу стране!»
А уж Маша не дышала. Полюбила молодцА.
Финисту она сказала: О тебе всегда мечтала.
Любить буду до конца.
Хоть ты мОлодец прекрасный, хоть ты сокол удалОй,
Стало всё для сердца ясно, лишь к тебе стремлюсь душой!
—
Утро. Нижний просыпался. Солнца первые лучи.
Закричали голосисто на рассвете петухи…
Финист соколом умчался, крикнув: Перо сбереги!
Коли что-то приключится, с ветром пёрышко пусти.
Маша пёрышко хранила в медальоне на груди.
На перо, любя, глядела. В мыслях к Финисту летела:
Сокол, милый, где же ты?
А Кощей всё злобный видел в тайном колдовском стекле.
Машу с Финистом увидел, люто их возненавидел.
Ох! Похоже быть беде!
Кот-Баюн, слуга Кощеев, в терем проскользнул, злодей!
Финиста перо похитив, вмиг во тьму шмыгнул скорей.
Открывает утром Маша медальон заветный свой
И в отчаяньи рыдает… Оказался он пустой.
Что же делать бедной Маше? Как ей сокола сыскать?
Надо к милому ей ехать, а не плакать и вздыхать!
Хороши у Маши косы! Но сейчас не до красы.
Волосы обрезав ловко, подогнав косоворотку,
Парнем сделалась, плутовка. Тихо к ночи шли часы.
Только лишь уснула стража, выбрала кольчугу, шлем.
Лук у батюшки сыскала и за счастьем поскакала.
Не советуясь ни с кем!
—
Утро, день и снова вечер. Сумерки, закат, восход.
В лицо дует свежий ветер. Сердце любит. Сердце ждёт.
День склоняется к закату. Машин конь в пути устал.
Сколько вёрст уж отмахали! Даже, бедный, захромал.
Да и Маша приуныла… Нету Финиста следа.
Проскакали чисто поле, рощи, долы и леса.
Но никто его не видел. Говорят, не пролетал.
Маша голову склонила. Потемнело. Лес пугал!
Чаща так непроходима! Не проехать на коне.
— Верный конь, ступай-ка, милый! Дальше пешей идти мне.
И не стало больше видно ни деревни, ни села…
Словно зверь лохматой лапой солнце скрыл. Сгустилась тьма.
Там в глуши в лесу избушка. Ведьма в ней в тиши живёт.
Приютила она Машу: Пусть бедняжка отдохнёт!
Всё она про Машу видит тайной силой колдовской.
Но глупышку не обидит. Ведь жалеет всей душой.
До чего смелА девчонка! И Кощей ей не указ!
Могла, дурочка, погибнуть уже много-много раз.
Ведьма подарила Маше свой таинственный клубок.
Чтобы, Машу провожая, он ей путь найти помог.
Маша за клубком ступает, держит тоненькую нить.
— Где ты, Финист-Сокол Ясный? Мне тебя не позабыть!
А клубок спешит, петляя… Не видать пути конца…
Маша с грустью вспоминает черты милого лица.
Шёпот нежный и тревожный… Ту улыбку, тихий вздох.
Все считают- невозможно! Но она его найдёт!
Финист тоже Машу ищет. Нынче в Нижнем побывал.
Терем в скорби опустевший. Маши нету. Всякий знал.
Над землёй весь день летая, Финист видел с высоты,
Всё окрест обозревая, нету Маши… Где же ты?
Тут синичка подсказала: Маша быстро по утру
По тропиночке бежала в чаще в ведьмином лесу.
Финист полетел навстречу… Всё видал в стекле Кощей.
В коршуна он превратился, к Маше кинулся злодей.
Видит Маша, коршун крУжит… И всё ближе-ближе к ней.
До чего огромна птица! Сердце бьётся всё сильней!
Но тут сокол появился. Коршун сокола клюёт.
Птицы бьются не на шутку! Маша лук свой достаёт.
В коршуна она стреляет. Вмиг сражён стрелой Кощей.
Маша очи закрывает. Открывает — Финист с ней.
Всё любовь преодолела: И беду, и колдовство.
Сам Кощей пред ней бессилен.
Лишь сумей сберечь её…
Финист Ясный Сокол
Ирина Крисанова
Окна башни темной
Настежь приоткрыты…
Финист Ясный Сокол,
Слышишь, приходи ты…
Что мне все приснилось,
Думала сначала,
Только ночью синей
Я его встречала.
С взором нежным ясным,
Что по мне скучает,
С голосом прекрасным,
С песнями — ручьями.
В небе исчезая
С ураганом — ветром,
Перышко за ставни
Клал он незаметно.
Но однажды ночью
Не явился милый.
Я к окну бежала,
Сколько было силы.
Сердце задрожало…
Что с моей любовью?
Перышко лежало
Все покрыто кровью.
Кто ножи наставил
У открытых окон,
Чтоб поранил крылья
Финист Ясный Сокол?
Ясный Сокол, из Чертога Финиста
Людмила Вяткина
По мотивам Сказа о Финисте Ясном Соколе
Сказка — ложь, но в ней намёк,
А вот сказ — нам всем урок!
За тридевять шла земель,
За тридевять дальних далей,
Где Сокол делил постель
С чужой огневласой кралей.
Он суженую забыл
И воинский долг не помнил —
Игрушка в руках судьбы,
Опоенный зельем сонным.
Любимого чтоб вернуть,
А не угасать в печали —
Был выбор невесты — путь
За тридевять дальних далей.
От слёз солона щека:
Спит молодец — Сокол Ясный.
Дорога ох, нелегка —
Все жертвы, ужель, напрасны?
Вот-вот и рассвет — конец
Последней Сварожьей ночи.
Будила его, но нет —
Не может открыть он очи.
Горючая с век слеза
На грудь молодца упала —
Он, вздрогнув, открыл глаза
От жара слезинки малой.
Бежали они домой
От чар чужеземки жадной…
И пусть дорогой ценой,
Но кончилось дело свадьбой!
Финист — ясный сокол
Моё Внимание Вам
Ждать тебя мне сколько, Финист-ясный сокол?
Прилетай к окошку. Лунная дорожка
Путь укажет верный. Свет надежды нежный
На душе сияет. Наша встреча, знаю,
Счастьем обернётся, что добрее солнца.
Жду тебя, любимый, мой неповторимый
Финист-смелый сокол, милый, синеокий.
Терем чист и крепок, мирный дом — орешек.
Тишина в нём, радость. Нам любовь — отрада.
Финист — ясный сокол
Натико
К фильму-сказке «под Александра Роу» стих отношения не имеет ну никакого! Есть русская сказка с одноименным названием, и там вообще другой сюжет, чем в фильме. Вот по сказке и стихотворение…
Кинжалами утыкана
Оконных рам резьба.
В час нужный, как убитая,
Ты спишь — а там судьба
По лезвиям, да крыльями,
На перьях — красный след.
Не спи — ты будешь сильная
Наутро. Столько бед
Ты отодвинешь, смелая,
Всю землю обойдешь,
Обманешь королеву, и
Назад ЕГО вернешь.
Но посмотри, ведь рядом он!
Он здесь — рукой подать…
Проснись! Чтоб больше ставнями
Окна не закрывать…
Скатеркой тропка стелется.
Без ран не быть любви.
Но в час урочный, девица,
Ты все-таки не спи!
Финист Ясный Сокол
Рассветова Ольга
Над горой камней и битых стёкол,
В ядовитом смраде чёрных туч,
Гордо реет Финист Ясный Сокол,
Словно в сказке, светел и могуч.
Сколько раз безжалостно и люто
Этих птиц клевало вороньё,
Ведь любая гибельная смута
Избирает знаменем враньё.
Только в миг, когда, казалось, меркнут
В их глазах духовные лучи,
Возрождались Феникс, Сокол, Беркут,
Перья вновь вострили, как мечи.
Потому, что Правду не задушишь
И не купишь толстым кошельком,
Она тихо входит в наши души
С материнским теплым молоком.
Душат пусть, и жгут, и распинают
На кресте кедровом, как Христа,
День придёт, и Правда воссияет,
Над планетой, девственно — чиста.
Ложь несут, как знамя, только трусы,
Взяв вождями сборище иуд.
Но, как прежде, истинные русы
К Святославу с просьбою придут:
В бой за Правду, ты веди нас, княже,
Не забыли лавы ратной вкус.
И трава пред Правдой нашей ляжет,
Задохнётся злобой мелкий гнус.
Слово Правды вставьте, а не пули
В гильзы всех патронов, как в конверт.
Чтобы веки детские сомкнули
Феи снов, а не с косою, смерть.
В небе реет Финист Ясный Сокол,
Там же Ворон рыщет во всю прыть.
Только, Правда — на посту высоком
И ему её не сокрушить!
1 просмотров
»…сказка содержит какие-то вечные, неувядаемые ценности».
В. Я. Пропп.
Аксиология (греч. axia — ценность, logos — слово, учение)
— философская дисциплина, занимающаяся исследованием ценностей
как смыслообразующих оснований человеческого бытия,
задающих направленность и мотивированность человеческой жизни,
деятельности и конкретным деяниям и поступкам.
(Философский словарь).
О волшебных сказках, их происхождении, сакральном смысле, воспитательном потенциале написаны многие сотни, а то и тысячи исследовательских трудов. Одни авторы склонны сосредотачивать внимание на исторических корнях сказок, другие — на выявлении дидактических функций и значения для личностного становления маленького слушателя, третьи, находят в сказках откровение о национальном характере и душе народа, четвертые, напротив, видят в сказочном повествовании пустое развлечение или, более того, душепагубное занятие, уводящее ребенка от реальности жизни в мир вымысла.
В конце 29-х — начале 30-х годов XX века всерьез обсуждался вопрос о правомочности использования сказок для воспитания детей. Волшебная сказка остается объектом дискуссии и поныне. Каким только толкованиям не была подвергнута она в последнее время! Психоаналитики, мифологи, этнографы, фольклористы, литературоведы, философы, педагоги, историки предлагают свой взгляд на этот жанр — один из самых таинственных в устном народном творчестве.
По мнению русского философа И. А. Ильина, именно сказка является ответом «все — испытавшей древности на вопросы вступающей в мир детской души». Эти вопросы касаются самой сути бытия: о смысле жизни, о пути к счастью, о судьбе праведных и нечестивых, о временном и вечном.
В небольшой работе, написанной другим русским философом — Е. Н. Трубецким и названной им «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке», выражен взгляд на то, что глубинный смысл сказки нужно искать в самой философии народа, в присущем ему жизнечувствии и миропонимании:
»Запоминается и передается из поколения в поколение только то, что, так или иначе, дорого человечеству. Самая устойчивость сказочного предания доказывает, что сказка заключает в себе что-то для всех народов и для всех времен важное и нужное, а потому незабываемое».
Это «нечто дорогое» — система духовных опор и смысложизненных ценностей, обусловленная и философией, и спецификой традиционного народного быта. О связи сказки (и народной культуры вообще) с пониманием концептов ценность и духовность — собственно, и раскрывающими ее актуальные для слушателя смыслы — говорили и другие отечественные и зарубежные исследователи. В нашей стране, по известным идеологическим причинам, эта исследовательская тенденция была прервана в первой трети 20-го века.
Выявление ведущих ценностных (аксиологических) особенностей сказки, как смысложизненных доминант, приобретает особую значимость сегодня, когда отличительными чертами в современной технократической цивилизации становятся потребительское начало и прагматизм, а в мироощущении человека — неуверенность и тоска, соблазн виртуализации, обособления от общества. Набирают силу процессы национального усреднения, духовной унификации, отчуждения человека от мира духовных, нравственных, исторических ценностей. Ценности, которые еще вчера казались незыблемыми, сегодня легко становятся предметом иронии. Можно с полным основанием говорить об остром ценностном конфликте в жизни современного общества, связанном с состязательностью и противостоянием глобализации и традиции. Понимание особенностей традиционных ценностных систем сегодня оказывается важным не столько для осознании прошлого, сколько для оптимизации ценностных ориентиров, необходимых для дальнейшего развития человеческой цивилизации.
Многолетний опыт работы автора с родителями в Семейном Клубе родительского опыта «Рождество» показывает, что в пространстве семьи именно аксиологические императивы предопределяют выбор родителями содержания сказок для семейного чтения. Вопрос о соотнесении семейных ценностей с архетипами народного сознания, являемыми сказкой, впрямую связан с решением проблемы возвращения понимания глубинного содержания сказки в культурное пространство современной семьи, а также с преодолением разрыва между теоретическими и прикладными возможностями культурологии в этой области. Аксиологический подход к интерпретации сказки представляется оптимальной культуролого-педагогической стратегией, необходимой для пробуждения творческого потенциала семьи в отношении восприятия, отбора, адаптации и трансляции ребенку текстов традиционной культуры.
Предметом исследования нами выбрана одна из примечательных русских волшебных сказок — «Финист — Ясный Сокол». На ее примере мы постараемся, установив мифологические основания ведущих сказочных мотивов, дать возможное толкование повествованию с позиций психологии и христианского мировоззрения. На наш взгляд, многие мотивы сказок, имеющие, несомненно, мифологические истоки, воспринимаются христианским сознанием как художественные метафоры и аллегории. Это не удивительно — на протяжении столетий русская сказка жила в культуре христианского мира. Размышляя о соотношении языческого и христианского в ее содержании, Е. Н. Трубецкой отмечает:
»В отдельных случаях трудно решить, где кончается сказочное предварение христианского откровения, и где начинается прямое влияние этого откровения на сказку. Одно представляется несомненным: сказка заключает в себе богатое мистическое откровение, ее подъем от житейского к чудесному, ее искание «иного царства» представляет собою великую ценность в духовной жизни и несомненную ступень в той лестнице, которая приводит народное сознание от язычества к христианству.»
Собственно, цель данной работы и состоит в том, чтобы попытаться определить значение ведущих мотивов сказки в динамике их трансформации и закрепления в культуре: от мифологических истоков — к символическому восприятию и возможности толкования в ценностно-смысловом аспекте.
Наиболее распространенными являются два варианта сказки:
— «Перышко Финиста — Ясна Сокола» из сб. Афанасьева,
— Финист — Ясный Сокол» из сб. «Сказки А. Н. Корольковой».
Мы будем придерживаться второго варианта — из сборника сказок Корольковой, т. к. он представляется более раниим, не подвергшимся позднейшей «облагораживающей» редакции, с одной стороны, и поэтичным — с другой.
Приведем краткую сводную таблицу основных вариативных различий двух сказок.
Основные различия сб. Афанасьева:
— Покупка за тысячу рублей заветного перышка.
— Дарительницы — три старушки.
— Провожатые — клубочек.
— Жена Финиста — Просвирнина дочь.
— Финал — Перемена облика — троекратное неузнавание родными в царском достоинстве. Свадьба.
Основные различия сб. Корольковой:
— Получение в дар заветного перышка.
— Дарительницы — три сестры — Яги.
— Провожатые — кот, собака, серый волк.
— Жена Финиста — царица.
— Финал — честная свадьба.
Ограничиваясь рамками данной работы, мы остановимся только на некоторых мотивах сказки — тех, которые имеют, по мнению ряда исследователей, несомненные мифологические истоки и являются ведущими в построении сюжета. Это позволит нам сосредоточиться и на основной проблеме аксиологической интерпретации волшебной сказки: выявить, какое ценностно-смысловое пространство открывает она слушателя сегодня, каким опытом делится, к чему наставляет, каким образом круг мистических обрядовых переживаний трансформируется в художественную метафору, принимает символическое значение.
Итак, предметом рассмотрения мифологических истоков и возможного толкования станут мотивы:
1 Финист. Птица. Перо.
2 «Иное царство» и путь к нему. Железные башмаки. Лес.
3 Звери-помощники и сказочные дарители.
4 Забвение невесты. Пробуждающие слезы.
Финист. Птица. Перо.
»…Поехал отец на базар и спрашивает дочек:
— Что вам, дочки купить, чем порадовать?
И говорят старшая и средняя дочки:
— Купи по полушалку, да такому, чтоб цветы покрупнее, золотом расписанные.
А Марьюшка стоит да молчит. Спрашивает ее отец:
— А что тебе, доченька, купить?
— Купи мне, батюшка, перышко Финиста — ясна сокола.
Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышка не нашел.
Поехал отец в другой раз на базар.
— Ну, — говорит, — дочки, заказывайте подарки.
— Купи нам по сапожкам с серебряными подковками.
А Марьюшка опять заказывает:
— Купи мне, батюшка, перышко Финиста — ясна сокола.
Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышка не нашел. Приехал без перышка.
Ладно. Поехал старик в третий раз на базар, а старшая и средняя дочки говорят:
— Купи нам по платью.
А Марьюшка опять просит:
— Батюшка, купи перышко Финиста — ясна сокола…»
Итак, завязка сказочного сюжета связана с мотивом недостачи и отлучки старшего для ее восполнения. Перед слушателем открываются два типа героев-персонажей сказки: старшей и средней сестрам «для радости» необходимы наряды — т. е. то, что связано с земным, материальным представлением о счастье; младшая же, Марьюшка, трижды обращается к отцу с загадочной просьбой — привезти для нее из дальних мест «перышко Финиста — Ясна Сокола». Откуда ведомо про него Марьюшке, отчего оно дороже всего иного, слушателю неясно. Явно же то, что перышко это, оказывается, достать в этом мире гораздо труднее, чем богатые наряды.
Очевидно, что здесь мы встречаемся с преломленной в ценностном плане магистральной мифологической оппозицией: свое–чужое (явное, ясное, понятное этому миру — тайное, неведомое, нездешнее). В мифе и архаической эпике это противоставление обычно разграничивает человеческий мир от миров иных.
В волшебных сказках из иного, нечеловеческого царства часто берутся жены (Марья Моревна, Краса Ненаглядная, Царевна-Лягушка); тоска по «нездешнему» обычно заставляет героев отправиться в путь. В подобном типе сюжетов для снятия оппозиции свой–чужой герою бывает необходимо самому проникнуть в «иной мир», найти там посредников (медиаторов), которые помогут ему нейтрализовать конфликт между человеческим и нечеловеческим и перевести чужое в сферу своего. Таким образом, приобретаются героем, достойно выдержавшим превратности пути за искомым, царевны-невесты, богатства, волшебные средства и т. п.
В сказке о Финисте проявляет себя и другая типичная особенность мифологического мышления: отождествление части и целого. Обладание перышком Финиста сулит (сулит ли?) обладание самим Финистом.
Итак, попытаемся разобраться, что же это за птица такая — загадочный Финист — Ясный Сокол, союз с которым для младшей дочери важнее земных благ.
Само именование желанного суженного указывает слушателю сказки на его особую таинственную природу и предназначение. Дважды в его имени звучат названия разных птиц: Финист и Сокол.
Известно, что для русского свадебного фольклора типичен образ сокола — жениха. В славянской мифологии сокол таинственно связан со стихией огня и культом очага, который со временем стал культурным символом семейного благополучия. Так, «сокол» у чехов — «raroh»; Рарог же известен как огненный дух, представляемый в образе птицы.
Особый интерес представляет первая составляющая имени Ясна Сокола — Финист. Здесь перед нами искаженное на русский лад название одной из самых легендарных птиц, известной в мифологии разных народов. Греки называют ее Феникс, китайцы Фэн-хуан, египтяне — Вену (Бенху, Бенну).
Легенда о Фениксе возникла в древнем египетском центре солнцепоклонников Гелиополисе. Там приносились жертвы богу Вену, которого изображали с головой цапли. Согласно легендам, произведенным на свет греческими писателями на основе известий о тех огненных обрядах, Феникс — чудесная птица, живущая удивительно долго, пятьсот и более лет. Считалось, что она обладает несравненной красотой, питается только росой. Предчувствуя смертный час, Феникс улетает в чужие края и собирает там ароматные травы, которые затем складывает, строя гнездо. В надлежащий срок, Феникс зажигает гнездо и сгорает в его пламени, но через три дня возрождается вновь.
Стихия огня в мифологии выступает и как очищающая, целительная, и как гибельная, разрушительная. Она олицетворяет и некую устойчивость социума и домашнего очага, покровительствующая семье, а также начало, объединяющее мир богов и людей.
Огонь обычно соотносится с мужским, легким, духовным началом.
В связи с огнем в языке и преданиях стоит и ветер. Ф. И. Буслаев отмечает: »От санскритского глагола nŷ очищать происходят существительные nabaka — огонь и павана — ветер… Общее представление и огню и ветру — очищение, потому что ветер такой же очиститель от заразы и нечистоты, как и огонь… В санскритском ветер — bвma. У славян, в старину, bampa имело значение даже не просто огня, но огня небесного, молнии…»
Крылатый образ ветра свойственен эпическим преданиям разных народов. С ним же соотносится и представление о птице — душе или о душе, уносимой птицей. В. Я. Пропп приводит свидетельство Фробениуса, посвятившего птице целую главу в книге о мировоззрении «первобытных народов»: » На Таити и Тонга представление о птицах, уносящих душу, еще существовало в конце XIX века. Когда человек умирает, душа подхватывается птицей. Птица, следовательно, уносит душу в потустороннее царство…»
В соответствии с уже упомянутым принципом мифологического сознания pars prototo (часть вместо целого) перышко, которого жаждет героиня сказки о Финисте, обозначает, собственно, саму птицу, а птица соотносится с душою, с духовным миром.
Образ птицы-души постепенно приобретает в культуре аллегорическое значение. В 123 псалме царя Давида читаем об избавлении от опасности:
»Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть расторгнута и мы избавились!»
В Псалтири много можно найти замечательных поэтических аллегорий, соотносящих мир горний, небесный, духовный с образами крыл, птицы, ветра, полета:
»Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня» (пс.16)
»Наклонил Он небеса и сошел, — и мрак под ногами Его.
И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра» (Пс.17)
»Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня.
И я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? И я улетел бы и успокоился бы…» (Пс.54)
»… Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь.
К тебе прилепится душа моя…» (Пс.62)
Образ птицы Феникс стал одним из символов и в христианской церкви — тогда, когда раннехристианское искусство делало первые шаги в поисках собственного языка для диалога с миром. Изображение Феникса встречается в живописи катакомб, где собирались для общей молитвы первые христиане и где хоронили единоверцев. На погребальных плитах образ Феникса знаменует собой грядущее воскресение из мертвых и триумф над смертью вечной жизни. В «Физиологусе» II века говорится: »Если неразумному животному, которое даже не знает Творца всех вещей, дается воскресение из мертвых, то неужели и на нашу долю, тех, кто восхваляет Бога и соблюдает Его заповеди, не выпадет воскресение?»
Феникс стал также одним из ранних олицетворений Самого Спасителя: подобно этой мифической птице, восстающей на третий день из собственного пепла, Христос воистину воскрес из мертвых через три дня после погребения.
Но вот что, однако, примечательно в сказке о Финисте — Ясном Соколе: благородный и высокий образ огненной птицы Феникс скорее характеризует пламенный дух Марьюшки, нежели самого героя-жениха. О нем слушатель сказки знает лишь то, что Финист — молодец «красоты неописанной», что ведет он с Марьюшкой «беседы приятные» по ночам, когда все в доме спят, а к утру, ударившись об пол, делается соколом и улетает к синему небу в окошко, неизменно отворяемое ему девушкой. Еще знаем, что, натолкнувшись на острые ножи, натыканные в оконную раму завистливыми сестрами, бьется так, что «всю грудь изрезал» и только после этого улетает, произнеся грозное, заветное:
— Кому я нужен, тот меня найдет. Но это будет нелегко. Тогда меня найдешь, когда трое башмаков железных износишь, трое посохов железных изломаешь, трое колпаков железных порвешь.
Не выдержал первого же столкновения с острой злобой мира сего? Но хотя образ Финиста в сказке и в антропоморфен, с позиций житейской логики к нему ключей не подобрать; он — пока гость, чужой в этом мире, не прорваться ему сюда, до тех пор не стать своим, пока суженая сама не пробьется, не призовет… и для этого «прорыва» к миру другого нужно горение сердца, подвиг во имя любви.
Интересно, что в одном из стихотворений Бальмонта образ Феникса прямо соотносится, как в нашей сказке, с женским началом:
»Дракон — владыка солнца и весны,
Единорог — эмблема совершенства,
И феникс — образ царственной жены…»
По развязке сказочного сюжета мы знаем, что так и будет: «дурочка» Марьюшка, отдавшая вместо земного богатства предпочтение заветному перышку, явится в финале в преображенном, царском облике.
С женской ипостасью Феникс связан и в китайской мифологии. Изображенный вместе с драконом — символом императора, Феникс знаменует собой императрицу. Китайская мифическая птица Фэн-хуан соединяет в себе одновременно два начала: мужское («фэн») и женское («хуан»), а вместе они, составляя нераздельное содружество, являют свадебный символ.
»Финист — Ясный Сокол, явись ко мне, жданный мой жених!» — призывает Марьюшка чудесную птицу в русской сказке.
Противопоставление человеческого и нечеловеческого (звериного) в терминах тотемической мифологии влечет за собою в сказочных сюжетах такого типа разъединение невесты (жены) и жениха (мужа) — представителя иного тотема. Воссоздание брака и воссоединение полюсов, преодоление оппозиции происходит тогда вследствие успешных брачных испытаний жениха (в нашей сказке — невесты) в «тотемном» царстве своего брачного партнера, куда ему приходится добираться с великим трудом.
В. Я. Пропп видит исторические корни сюжета о соединении с чудесным возлюбленным в запрещенной связи »девушки с юношей-птицей, то есть с маской, с юношей, уже находившимся за пределами своего дома в «ином» царстве, куда за ним отправляется его невеста».
Пропп пишет: »Первый брак — притом брак вольный — совершается не в лесу, не в ином царстве, а дома, после чего любовник в образе животного уходит в иное царство и там уже собирается жениться (или женится на другой), когда его находит девушка и, купив три ночи у соперницы, отвоевывает себе мужа».
Вообще же в сказках отношения между сверхъестественными, зооантропоморфными существами и человеком воспринимаются положительно только в том случае, когда соискателем брачного союза выступает человек.
»Когда же демоническое существо насильственно похищает женщину, вступает с ней в брак по взаимному согласию или с помощью обмана… такая ситуация рассматривается сказкой как конфликтная» — отмечает Е. С. Новик в работе «Система персонажей русской волшебной сказки».
Итак, возвращаясь к мотиву птицы, Финиста (Феникса) в исследуемой сказке, можно предположить, что в художественном плане стремление Марьюшки к обладанию заветным перышком Финиста выражает собой извечную тягу человеческой души к абсолютному, вечному. С точки зрения сказочной мудрости бытие такого рода часто открывается через обретение цельности в супружестве, для которого необходимы жертвенность и самоотверженность. Перышко — символ такой любви и самоотдачи. Потеря его означает утрату любви и единства.
Само же получение перышка, а с ним и Финиста, не требовало от его обладательницы никаких усилий. В варианте Афанасьева перышко покупается отцом девушки за 1000 рублей. Любовь же, как известно купить не удается никогда.
То, что легко дается, то легко и теряется — и здесь образ перышка подходит как нельзя лучше. Был Финист с той, в чьи руки попало его перышко, и вот — нет его, улетел — «как ветром сдуло». Чтобы вернуть любовь, пробудить от мимолетного наваждения к вечному союзу, чтобы нездешнее, залетное сделать родным, нужно на пути к нему три пары сапог железных износить, три посоха железных изломать, трое колпаков железных порвать.
И эта мудрость, понятное дело, уже не из сферы мифологии, а вполне житейская аксиоматика, наказ многоопытной зрелости легкомысленной юности.
»Иное царство» и путь к нему. Железные башмаки. Лес.
»…– Не брани меня, батюшка, отпусти в путь-дорогу дальнюю. Жива буду — свидимся, умру — так, знать, на роду написано.
Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил.
Заказала Марьюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь-дорогу дальнюю, искать желанного Финиста — Ясна Сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами…»
В сказке о Финисте то царство, где можно отыскать Ясна-сокола, отделено от отцовского дома чистым полем, темным лесом, высокими горами, лесными полянами с таинственными сестрами — Ягами. Мотив преграды на пути к иному царству можно видеть во всех волшебных сказках.
Это царство может находиться под водой или под землей, где владычествует Морской царь или змей, или, напротив, на горе или в заоблачной выси, где обитает Краса Ненаглядная, или просто за условной границей — столбом, рекой, лесом.
Во всех случаях «Тридесятое царство» осмысляется как мир, который, несомненно, соседствует с миром героя или героини сказки, но путь, к которому не прост и полон испытаний.
В мифологической модели мира соседствуют меж собой разные уровни бытия. Земной мир людей противопоставляется небесному миру богов и духов, а также — миру загробному, преисподней. Перемещение из верхнего мира в нижний и наоборот составляют основу многочисленных мифологических сюжетов: при помощи волшебных животных (коней, птиц) боги (культурные герои) проникают на землю, спускаются по мировому древу — универсальному символу, объединяющему все сферы мироздания.
По трактовке неомифологов, сказочное представление о двух мирах — «этом» и «том» — сопоставимо с внутренним содержанием души. Первая, обычная, «своя» область сказочного мира, где живет сам герой и его семья, где пашут, сеют, ездят по торговым делам, женятся и пр. соответствует сознанию человека. Иная область — то царство, куда неизменно отправляются герои сказок, где существуют избушки на курьих ножках, где бродят говорящие звери и птицы, где обретаются волшебные предметы и совершаются чудесные превращения — соответствует бессознательному. Анализируя волшебные сказки с позиции юнгианской школы, известный немецкий психоаналитик Ханс Дикман пишет:
»Сознание и бессознательное — это две противоположные сферы, в которых разыгрывается сказка и между которыми она пытается установить связь».
Присматриваясь к «невиданному царству, небывалому государству», В. Я. Пропп обнаруживает, что оно имеет »какую-то связь с солнцем» и «все, сколько-нибудь связанное с тридесятым государством, может принимать золотую окраску». Это царство может находиться на небе, где солнце, быть связано с горизонтом («едут-едут между небом и землей, пристали к неведомому острову»), на краю света, где красно солнышко из синя моря восходят; золотые дворцы и маковки, свинки — золотые щетинки, золоторогие олени, золотогривые кони, жар-птица в золотой клетке и прочие чудеса наполняют это царство солнечным, золотым сиянием. В сказке о Финисте Марьюшка обретает диковинные предметы, которые также отмечены особой «печатью» иного царства: серебряное донце — золотое веретенце, серебряное блюдечко с золотым яичком, серебряные пяльцы с золотой иголочкой.
В сказках образ «иного царства» является сложнейшей метафорой, символический смысл которой В. Я. Пропп пытался понять через особенности сюжета, сосредотачивая анализ, скорее на том, где оно есть, на чем к нему можно добраться, нежели на том, что оно есть.
Вот что пишет Е. Н. Трубецкой, символически осмысляя тайну «иного царства»:
»Исследователи, разумеется, имеют основания находить в этом образе… остаток древнего солнечного мифа. Но нас интересует здесь не солнечное происхождение сказочных образов, а та непреходящая, человеческая их сущность, благодаря которой народная фантазия хранит и бережет их в течение многих веков после утраты веры в божественность солнца.
Есть одно неумирающее, всем векам и народам свойственное общее переживание мистического опыта, которое неизменно вызывается в нас закатом и восходом солнца.
Это появление и исчезновение дня на нашем горизонте представляет собой естественное напоминание о неумирающем дне за краем земли, за пределами видимого нами земного круга; в этой таинственной дали полнота света и полнота жизни сохраняется и тогда, когда все земное погружается во мрак ночной или окрашивается унылыми, беспросветно серыми тонами. Для сознания языческого страна, где ночует солнце, есть область подлинного бытия и подлинной жизни. А для сознания, поднявшегося над языческим боготворением солнечной стихии, те же величественные явления заката и восхода суть естественные символические напоминания о какой-то запредельной славе. Это вечные возбудители восторженного настроения, духовного и, в особенности, сказочного подъема».
В солнечной символике иного царства вновь просматриваются ведущие для мифологической модели мира оппозиции:
верх — низ,
свет — тьма,
восток — запад.
Отсюда берут начало и развиваются символические мотивы, впрямую связанные уже с этическими представлениями:
жизнь — смерть,
добро — зло,
правда — кривда.
Воплощением добра во многих культурах являлось мужское небесное божество, зло олицетворяла хтоническая хозяйка нижнего мира, преисподней. В мире, куда попадает Марьюшка в сказке о Финисте, хозяйничает некая царица, действия которой явно враждебны героям. В этом царстве Финист не летает, он как бы лишается способности к полету; а золотое сияние волшебных предметов, внесенных Марьюшкой, будит желание ими обладать — они диковинны, незнакомы этому царству. Таким образом, героиня, судя по всему, оказывается в мире преисподней, который, по сути, является клеткой, темницей для Финиста, там он пребывает в волшебном забытьи, там Марьюшке необходимо решить трудную задачу: открыть суженному «дверцу» между мирами. На теме забытья и пробуждения мы подробнее остановимся позже. А пока отметим, что подобное переплетение мифологических и аллегорических аспектов можно наблюдать и в мотиве железных башмаков, посохов и колпаков:
»Можно установить, что обувь, посох и хлеб были те предметы, которыми некогда снабжали умерших для странствий по пути в иной мир», — пишет В. Я. Пропп и в подтверждение приводит различные свидетельства из погребальных обычаев разных народов: в Калифорнии умершим туземцам-охотникам дают обувь — для долгого пути к месту вечной охоты, в Египте покойного снабжают крепким посохом и сандалиями, в Скандинавии мертвому кладут особый вид крепкой обуви — чтобы тот мог свободно пройти по каменистой и покрытой колючими растениями тропе на пути в загробный мир…»
Там же В. Я. Пропп признает, что »железными эти предметы стали позже, символизируя долготу пути».
Символический язык волшебной сказки вновь обращается к сильному образу. Трое железных башмаков, трое посохов железных, три железных колпака становятся в контексте сказочного повествования художественной метафорой, выражающей не просто долготу, продолжительность странствия, но степень напряжения человеческих сил на пути от страдания — к радости.
Отчего в сказках так много страдают? И выпадают страдания на долю добрых, кротких, любящих? Злые страдают разве что от зависти. Конечно, можно видеть здесь следы жестокого обряда инициации, а конечную радость объяснять желанным для юноши переходом в иной, «взрослый» социальный статус. Но странно помыслить, что здесь мы имеем дело лишь с памятью об архаическом обряде, будто бы народу, сложившему сказки, не ведом был духовный смысл страданий и их связь с блаженством, столь емко выраженный в евангельском тексте:
»… Блаженны плачущие,
ибо они утешатся…
Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю…
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся…» (Мф. 5, 3-10)
В сказках так много страданий потому, что по-другому трудно открыть душу для со-страдания — человеку ли, птице, зверю. Лишь чуткое сердце способно отзываться на чужую боль, сочувствовать, сострадать, слезами смывать кровавые следы. Не страдают в сказках только бессердечные.
Замечательный русский философ Иван Ильин восклицает:
»Горе, горе бессердечному народу!
Если же сердце есть — страдаешь, и страдаешь тем сильнее, чем чувствительнее, шире и глубже восприятие сердца. Такое сердце участвует невольно в страданиях мира, видит все несправедливости и жестокости внутренним оком, из которого никогда не исчезает невидимая слеза… лишь зримая слеза омрачает взор на недолгое для нее время; невидимая слеза сердца, напротив, открывает человеку духовное зрение… Каждый плачущий — знает он это или нет — плачет от избытка мировой боли».
Примечательно, что сказочный мир, в свою очередь, не остается равнодушен к страждущему. Он также отзывается на чужую боль. Здесь мы встречаемся с мотивом солидарности природы с плачущим и жаждущим правды.
Путь Марьюшки к желанному суженному, характеризуется в сказке такой картиной:
»Птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марьюшку тронуть: волки серые, медведи, лисицы — все звери к ней сбегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный прорвала…»
Дальше, когда Марьюшка вступит в таинственный лес, ее помощниками вновь окажутся животные:
»Потемнел лес, страшно стало Марьюшке, боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марьюшке и замурлыкал:
— Не бойся, Марьюшка, иди вперед. Будет еще страшнее, а ты иди и иди, не оглядывайся».
Кот, а затем собака и серый волк становятся чудесными проводниками в страшном и пугающем сказочном лесу.
Лес, с точки зрения психоаналитика и толкователя волшебных сказок Марии-Луизы фон Франц — «… это область пространства, где видимость ограничена, где легко потерять дорогу, где не исключена встреча с хищными зверями и непредвиденными опасностями… — это символ бессознательного».
Действительно, лес в сказке дремучий, темный, таинственный. В. Я. Пропп, исследуя исторические корни этого мотива, предполагает, что »… сказочный лес, с одной стороны, отражает воспоминание о лесе, как о месте, где производился обряд, с другой стороны — как о входе в царство мертвых. Оба представления тесно связаны друг с другом». Далее В. Я. Пропп вдруг честно признается, что «эта связь пока еще не доказана…»
Зато в аллегорическом осмыслении пространство леса, связано с представлением об опасности заблудиться, т. е. блуждать, сбившись с пути.
Не каждому дается возможность вернуться, пройти сквозь ловушку леса, но только тем, кто сил не жалеет для обретения верного пути.
»Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?» — неизменно вопрошает Яга — страж границы между мирами — пришедшую. Черепа на кольях тына вокруг ее жилища ясно показывают, что Марьюшка не первая оказалась в гостях у хозяйки избушки — на курьих ножках. Ответ на заданный вопрос определяет судьбу.
Сказка знает и отмечает то, чем заканчивается опасное любопытство людей, не готовых вершить путь ради другого. Превратности пути выдерживает не каждый стремящийся в неведомое желанное царство, но только избранные.
Одних пропускать — другим запрещать — такова функция «стража» между мирами — Бабы-Яги. Но нет преград для натур ищущих, пламенных. Они три пары железных башмаков износят, три посоха железных изломают, три железных колпака изорвут на своем поприще, развернут избушку Бабы-Яги так, чтобы открылся вход, войдут, пройдут, не успокоятся, пока не найдут то, о чем страждет душа, и, преображенные, вернутся домой, внеся в свой мир обретенное достояние.
Итак, если в своих мифологических основах мотив путешествия в тридесятое царство связан с представлениями о посмертных странствиях человеческой души (или живого героя — медиатора) в «мире ином», то в сказке он трансформируется в аллегорию — указание единственно верного пути жизни: через несение страданий и тягот — к духовному преображению, славе и радости.
Для слушателя же, сопереживающего герою (героине) сказки, открывает народная мудрость и источник силы на пути через страшное, грозное, непреодолимое: это — сила любви всепобеждающей и стремления к возвышенному. Такое состояние духа прекрасно выражают бессмертные строки А. Блока:
»И невозможное — возможно,
Дорога дальняя легла…»
(«Россия»).
Сказочные дарители и звери помощники
С мифологической точки зрения перемещение к иному миру и движение в нем возможно только при помощи медиаторов — посредников, которым открыты «двери» между мирами. В волшебных сказках такого рода посредниками бывают антропоморфные и зооантропоморфные персонажи. К первым относятся разного рода «долгожители» (Баба — Яга, Кощей, странники, старцы, бабушки-задворенки, встречаемые героем на своем пути), а также мудрые девы, чудесные женихи и пр. В качестве вторых в сказках могут выступать конь, птица, серый волк, собака, кот, львица и другие животные.
В сказке о Финисте — Ясном Соколе помощниками героини выступают:
старец-даритель перышка,
три сестры — Бабы-Яги,
кот,
собака,
серый волк.
Функция дарителя в сказках заключается в передаче герою чудесного средства, предмета, слова, с помощью которого тот достигает желаемого.
Через многие сказки проходит тема чудесных старцев-помощников. Старики, старушки, бабушки-задворенки обладают способностью появляться «откуда-ни-возьмись» и исчезать «будто и не бывало». Примечательно, что возникают они обычно на пути героя или, точнее, тогда, когда он ищет или потерял путь — в прямом и переносном смысле.
Тщетно ищет в этом мире отец желанного для дочери перышка Финиста — Ясна Сокола.
»Ходил отец весь день, а перышка не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок.
— Здорово, дедушка!
— Здравствуй, милый! Куда путь-дорогу держишь?
— К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня: меньшая дочка наказывала купить перышко Финиста — Ясна Сокола, а я не нашел.
— Есть у меня такое перышко, да оно заветное; но для доброго человека, куда ни шло, отдам».
Эта, казалось бы, случайная встреча, определяет все дальнейшее развитие сюжета.
Примечательно, что обычно обращения героев к «встречным» старикам и старушкам подчеркнуто уважительно: «дедушка», «бабушка». Непочтительность закрывает перед героем возможность получения старческого наставления; только раскаявшийся в случайной грубости может получить прощение, а вслед и совет, дар, либо наставление старца. Можно предположить, что эти образы связаны с культом предков. Но вот что интересно: благообразный облик стариков и старушек, встречаемых на пути героями русских сказок, прямо противоположен образам других сказочных «долгожителей» — Кощея и Бабы — Яги. Будто бы являются те и другие посланцами и служителями разных сил, разных миров. Чудесного, светлого, покровительствующего герою и волшебного, темного враждебному ему.
Самым сложным и неоднозначным персонажем является Баба — яга. Яга может выступать в сказке и как «типичный вредитель», и как «типичный даритель».
В сказке о Финисте налицо вторая, дружественная героине, ипостась Яги.
»Зашла Марьюшка в избушку и видит: сидит там Баба-яга — костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос.
Увидела Баба-яга Марьюшку, зашумела:
— Тьфу, тьфу, русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?
— Ищу, бабушка, Финиста — Ясна Сокола.
— О, красавица, долго тебе искать! Твой ясный сокол за тридевять земель, в тридевятом государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Но я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу — бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать — не продавай. Просись Финиста — Ясна Сокола повидать.
Поблагодарила Марьюшка Бабу-Ягу и пошла».
По поводу традиционного ворчания и пофыркивания Яги относительно «русского духа» при встрече героя, В. Я Пропп в своем исследовании исторических корней волшебных сказок выдвигает следующее объяснение:
»Запах живых так же противен и страшен мертвецам, как запах мертвых страшен и противен живым». По Проппу, Баба-Яга — мертвец. Она лежит поперек своей избы «из угла в угол, нос в потолок врос». Изба тесна Яге, в ней она как в гробу. Что Яга — покойник, говорит и ее костеногость. Баба-яга — слепая: она не видит героя, а чует его по запаху. Культ предков по женской линии тесно соприкасался с тотемизмом и культом природы. Этим может объясняться особая власть старухи над живым миром природы, да и в ней самой много черт от животного. В некоторых сказках Ягу заменяет козел, медведь, сорока. Сама Яга обладает способностью превращаться в разных птиц и зверей.
Яга всегда обитает на краю таинственного леса, где начинается иной мир. Ее избушка — словно погранзастава, КПП между мирами.
Обойти избушку нельзя, вход в неведомый мир — только через нее. Чтобы туда попасть, нужно знать и произнести «пароль» — магическую формулу:
»Говорит Марьюшка:
— Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть.
Повернулась избушка к лесу задом, к Марьюшке передом».
Избушка повернется, но Баба — Яга пойдет на уступки и станет помощником только такому герою, который имеет право войти. Яга будто бы охраняет тайну «того света» от любопытствующих. Не случайно спрашивает она:
»Красная девушка, дело пытаешь аль от дела лытаешь?»
Мифология разных народов знает таких сторожей, ограждающих вход в царство мертвых. У греков — это Харон, перевозчик мертвых в аде; у чаморро — Хайфи, уводящий души умерших с земли; у индонезийцев — Темпон-Телон и т. п.
Сюжет со стремлением героев из мира живых проникнуть в мир загробный также широко распространен. Так в скандинавской мифологии на чудесном коне бога Одина в царство мертвых скачет Хермод, чтобы вернуть оттуда своего брата, в греческом мифе Орфей спускается в Аид, чтобы вернуть любимую жену, Эвридику.
Герои волшебных сказок также неотвратимо стремятся в загробный мир, чтобы вызволить из мрака, из плена, вывести на «белый свет» томящихся там любимых суженых. Схождение во ад и вызволение оттуда тех, кто дорог сердцу, связан с темой мужества героя, жертвенности и долготерпения во имя любви.
Не случайно Е. Н. Трубецкой называет сказку предварением христианского откровения. По его мнению, в русской сказке просто и естественно »совершается превращение волшебного в чудесное в христианском значении слова».
А Иван Ильин отмечает: »… Сказка отвечает нам на самый важный вопрос — о смысле жизни, о судьбе человека, тяготах и опасностях, о мудрости земной, об истинности пути.
Но человек спрашивает сказку как существо в религиозном смысле беспомощное, Бога не постигшее, но уже коснувшееся Зла и страха в жизни…
Что же касается ответа, то он приходит не из религии, не из Писания или священного предания церкви… Ответ дается из дорелигиозной, магической глубины, где инстинкт, художество и опыт жизни скопили не последнюю, а предпоследнюю национально выраженную мудрость».
Мудрость сказки ведает о том таинственном пределе, подойти к которому могут лишь избранные, сумевшие преодолеть бесконечные расстояния и препятствия, но за которым одних человеческих сил отказывается недостаточно. Герою необходима подмога для достижения цели: и вот, чудесная птица Могол поднимает царевича в заоблачную высь, вещий конь несет Ивана в тридесятое царство, серый волк помогает герою проникнуть в сад за молодильными яблоками.
Мы уже отмечали, что и в сказке о Финисте на помощь Марьюшке, «откуда ни возьмись» приходят животные — проводники: кот, собака и серый волк. Каждый является в свой час, чтобы человеческим языком вымолвить слово поддержки и указать дальнейший путь в тот миг, когда становится особенно страшно, а затем вновь оставляет героиню на ее поприще. Кот и собака помогают Марьюшке преодолеть начальные этапы пути, серый волк переносит ее на своей спине, помогая одолеть последний, самый страшный отрезок.
Кот в ряде мифологических традиций выступает как воплощение божественных персонажей высшего уровня. Особенно основательно коты внедрились в мифологию египтян: в гимнах Солнцу это верховное божество воспевалось в образе «Великого Кота», его изображение помещалось над умершим на крышках каменных саркофагов. Коты ассоциировались у египтян и с женской стихией: в виде женщины с кошачьей головой или просто кошки изображалась богиня Бастет (Баст). Материнская функция богини воспевается в бронзовых статуэтках I тыс. н. э., запечатлевших процесс кормления котят.
Древние германцы, как и египтяне, тоже обожествляли кошку. В их мифологии она олицетворяла богиню любви и материнства Фрейю.
С другой стороны, в низшей мифологии кот может выступать как воплощение нечистой силы или помощник, член свиты злого духа. Впрочем, в Китае — наоборот, кошкам приписывается способность рассеивать духов тьмы.
Во всяком случае, в мифологии разных народов относительно мистической кошачьей природы общее одно — представление о сверхъестественных способностях кошек и их связи с «загробным» миром. Не случайно у кельтов, египтян, славян образ кота близок к погребальному символу, он же — помощник при переходе души с того света на этот и наоборот.
В русских колыбельных кот активно призывается к колыбели младенца:
»Приди, котик, ночевать,
Мою деточку качать».
В колыбельных, собственно, отражается представление о коте — проводнике душ: период новорожденности воспринимался как переходный из того мира в этот.
Пес, собака, волк также относятся к древним мифологическим образам, связанным с царством мертвых. В древнегреческой мифологии чудовищный трехглавый пес Кербер (Цербер) охраняет вход в подземное царство. Для того чтобы грозный Цербер пропустил тень умершего в потусторонний мир, покойнику вкладывали в руки медовую коврижку.
Серый волк — одно из наиболее мифологизированных животных у славян. Определяющим в символике Волка является признак «чужой». Так, волк непосредственно соотносится с «чужими» — предками, обитателями мира мертвых. В некоторых заговорах от волка говорится, что он бывает «на том свете», при встрече с волком на помощь призываются умершие.
Интересно, что признак «чужие» может соотносится с каждым из двух родув-участников свадьбы. В причитаниях невеста называет «волками серыми» братьев жениха, а в песнях родня жениха «волчицею» именует невесту. С волком, ищущим себе добычи, символически может соотноситься и сам жених, добывающий себе невесту.
Итак, коту, собаке, волку присущи функции посредников между «этим» и «тем» светом, между людьми и силами иного мира. Однако, для слушателя, незнакомого с мифологическими аспектами образов животных в сказке, чудесные помощники героини воспринимаются по иному. Здесь опять на смену мифологическому в восприятии приходит аллегорическое.
Кот и собака — известны культуре, как образы амбивалентных персонажей. «Злым псом» называют врага и предателя, но о друге говорят: «верный, как пес», «преданный, как собака». Котишка-плутишка известен в русском фольклоре, как любитель тайком посещать хозяйский погребок — «по сметанку, по творог». Но в тоже время распространены совершенно иные мотивы: ученый Кот, Кот — баюн, «кот-воркота», у которого колыбелечка мягка, братик Коток — серый коготок, верный друг, спасающий от хитрой лисы непослушного петушка.
В контексте сказочного повествования, рисующего картину страшного, зловещего, враждебного и чужого леса, кот и собака в сказке о Финисте как раз выступают, как часть своего, домашнего, теплого, родного, близкого человеку мира. Факт же того, что героине служат не только домашние животные, но серый волк, воспринимается как естественная ступенька в проявлении чудесной солидарности живых тварей с человеком, идущим по пути добра и любви. Эта дружественность, рисуемая сказкой — прямая антитеза обычному миру, где даже среди близких царит завить, и разлад, и предательство. Отношение же сказочных животных к человеку и человека к животным отмечаются сопереживанием и сочувствием. Е. Н. Трубецкой высоко оценивает это художественное откровение сказочной мудрости:
»Кровавая битва всех против всех в мире животном — зрелище для нас привычное, повседневно наблюдаемое, и человек обыденный мирится с ним, как с чет-то нормальным и должным. Наоборот, сознание сказочное от него отталкивается и выражает свое возмущение… И человек связывается с тварью прочною связью взаимного сострадания и сорадования…»
Таким образом, и в мифологических, и в художественно-дидактических аспектах сказочный мотив чудесных дарителей и помощников открывает слушателю сокровенное представление о том, что человек не одинок в мире. Он окружен разными силами: одни препятствуют ему, пытаются сбить с верного пути, устрашают и грозятся погубить, другие же протягивают руку помощи, подставляют спину, ограждают и наставляют, донесут, не оставят, домчат каждого, кто устремляет свой путь к иному царству в поисках того, без чего тоскует душа в царстве земном.
Причем, в русских сказках тема добродетельности, как путеводной силы, открывающей возможность контакта с тем светом, приходит на смену теме особого рождения или посвящения. И хотя сказка сохраняет представление о том, что герой «не такой как все», что он знает нечто, неведомое и странное для других, что ему необходимы чудесные помощник при странствиях в ином мире, очевидно, что основной акцент делается на самом герое. Не каждому подается чудесная помощь.
Т. А. Агапкина в исследовании мифопоэтических основ славянского народного календаря констатирует:
»Праведность как необходимое условие для контакта с умершими — мотив весьма популярный в восточнославянских мифологических повествованиях».
В сказке о Финисте особое устроение сердца Марьюшки открывается благодаря приему контраста с сестрами, их чаяниями. В варианте Корольковой это особенно подчеркивается через добродетели трудолюбия и красоту облика:
»…Стала дочка Марьюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку. Рад был, что такая умная да работящая дочка растет. Из себя-то Марьюшка красавица писаная. А сестры ее завидущие и жаднющие, из себя-то они некрасивые, а модницы-перемодницы — весь день сидят, да белятся, да румянятся, да в обновки наряжаются, платье им — не платье, сапожки — не сапожки, платок — не платок».
Судя по всему, эта характеристика является не исконной в сказке, более поздним вкраплением (в варианте Афанасьева, кстати, ничего подобного нет; слушатель сам определяет объекты своей симпатии и антипатии); однако, образ героини, переданный сказителем, отражает народное понимание взаимосвязи судьбы героя с этическим началом.
Тот свет открывается тем, что чист сердцем, чей взор не замутнен соблазнами мира сего, устремления которых томятся в тесном круге земных благ.
Забвение невесты. Пробуждающие слезы
Размышляя о том, как встречаются в сказке природа вещественная с нравственной в метафорическом описании красоты или безобразия души, Ф. И. Буслаев отмечает, что для эпического поэта не свойственно анализировать и описывать этическое. Симпатии и антипатии слушателя формируются под влиянием повествования о действиях, поступках героя — они и заставляют догадываться о душевном расположении действующего лица. Буслаев замечает, что эпический сказитель »…не мог предположить в человеческой душе того брожения, которое бывает от столкновения различных ее движений, добрых и злых… выражающихся той немой душевной борьбой, описанием которой так любят томить читателя новейшие романисты. Чтоб не заглядывать в глубину души, эпический певец иногда охотно прибегает к сокрушительной силе времени, сказывающейся на душе забвением».
Так Ф. И. Буслаев объясняет типичный сказочный мотив забвения женихом своей невесты. При этом ученый обращает внимание на тот примечательный факт, что »…язык сближает забвение со смертью (так, в кельтском языке an Kouin значит и забыть, и умереть)… Это состояние души, которое вдруг умирает для всего, прежде любимого, объясняется сказкой вторжением злой, своекорыстной силы — чародейством и колдовством.
Так и в сказке о Финисте об этой беде предупреждает Марьюшку Баба-Яга:
»Твой ясный сокол за тридевять земель, в тридевятом государстве. Опоила его зельем царица-волшебница и женила на себе…»
В. Я. Пропп приводит толкование другими авторами мотива забвения, впрочем, также связанное с представление о смерти:
»Забытье рассматривается как потеря памяти при вступлении из царства живых в царство мертвых и наоборот». Пропп ищет историческую обусловленность забвения все в том же обряде инициации и последующем сожительстве юношей в «мужском доме» с временной женой:
»Вторая жена, на которой герой собирается жениться после возвращения домой, может соответствовать жене второго, регламентированного брака. В исторической действительности первая жена, жена братьев и каждого в отдельности оставлялась и забывалась. По возвращении домой совершался уже постоянный, прочный брак, создавалась семья. Именно так всегда хочет поступить герой. Но брошенная жена «оттуда» напоминает о себе, и герой женится на первой».
В сказке о Финисте мы находим обратную коллизию. Здесь союз жениха и невесты заключается в человеческом мире, к которому принадлежит Марьюшка и который пока чужой Финисту. Ф. И. Буслаев отмечает, что мотив забвения обыкновенно и выражает различие в натуре брачных партнеров. В нашей сказке — это различие изначально налицо. Невеста — земная, смертная девушка, ее суженый Финист — персонаж сверхъестественный, он и человек и птица — существо, принадлежащее поднебесью, он — залетный гость в мире людей.
Сказка знает два верных средства вырвать возлюбленного из плена забытья — поцелуй и слезы. И то, и другое в подобных коллизиях — знаки проявленной любви. Следствия чародейства (вредоносной магии) обычно рассеиваются в сказке тогда, когда героя кто-то полюбит.
Любовь — «горячая», «пламенная» — связывается мифологическим сознанием с огнем. Огонь — стихия и очищающая и разрушающая. Так, пламенной силой любви могут быть разрушены злые чары, и душа, очищенная от их действия, пробуждается от забытья.
В сказке о Финисте такой пробуждающей силой, являющей любовь, служат слезы:
»Настала ночь. Входит Марьюшка в спальню к Финисту — Ясну Соколу, а тот спит сном непробудным.
— Финист ты мой, Ясный Сокол, встань, пробудись!
Спит Финист, не просыпается.
Будила, будила — никак не может добудиться, а рассвет близко.
Заплакала Марьюшка:
— Любезный ты мой Финист — Ясный Сокол, встань, пробудись, на Марьюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми!
Упала Марьюшкина слеза на голое плечо Финиста — Ясна Сокола и обожгла. Очнулся Финист — Ясный Сокол, осмотрелся и видит Марьюшку. Обнял ее, поцеловал:
— Неужели это ты, Марьюшка! Трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистрепала и меня нашла? Поедем же теперь на родину».
С точки зрения психологии слезы и плач могут быть выражением горя, печали, а также радости и очищающего, преображающего душу покаяния. Интересно, что в мифологии разных народов подмечена эта преображающая, животворящая сила слез.
По одной из версий буддийской мифологии от слезы Авлокитешвары, оплакивавшего страдания мира, рождается Тара (спасительница) — наиболее популярный женский мифологический образ, воплощение беспредельного сострадания. Египетские легенды утверждают, что человечество было создано слезами создателя-бога. Греки считают, что слезы нереид стали жемчугом. В античной мифологии существует легенда о происхождении янтаря, в который превратились, затвердевшие на солнце слезы сестер Гелиад, оплакивавших гибель своего брата — бога солнца Фаэтона.
Славяне верили, что утренняя роса — это жемчужные слезы, которые с небес проливает на землю Лада.
В славянских погребальных обрядах оплакивание умершего являлось ритуальной формой поминовения души, переходящей на тот свет.
Слезы льются и в обрядах свадебных, знаменуя умирание для прежней, девической жизни и переход в новый жизненный статус замужней женщины.
Преображающая функция слез являет себя и в сказке о Финисте: герой пробуждается от плена забвения-забытья, чтобы вступить в земной мир Марьюшки, как в свой, родной:
» — Поедем же теперь на родину!»
Так, снимается изначальная оппозиция свой-чужой. «Пробившись» к Финисту, Марьюшка делает его своим в человеческом мире. Теперь становится возможным предвосхищаемый сказочный финал:
»И стали они жить-поживать да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, в труды затрубили, в пушки запалили, и был пир такой, что и теперь помнят».
И хотя в предваряющем концовку совете «князей» да «купцов» о том, «которая настоящая жена», можно вновь видеть следы постобрядового выбора между женами, мифологически необразованный слушатель, внимающий сказке в простоте сердечной, вновь услышит не что иное, как гимн любви торжествующей, делающей возможным невозможное. Бесконечные расстояния и испытания, колдовство и злые чары бессильны против любви. Так сказка утверждает всемогущество любви истинной, которая »…долготерпит и не завидует, не гордится и не ищет себе выгоды, не мыслит зла и все покрывает, все переносит и никогда не кончается».
Кто говорит, — сеет, слушает, — пожинает…
Истоки сюжета и образов русской сказки о Финисте — Ясном Соколе восходят к поэтической истории о Психее и Амуре, описанной Апулеем на основе мифологических источников.
Античный автор сложил повествование о странствиях человеческой души, жаждущей слиться с любовью. В основу этого, ставшего «бродячим», сюжета положена история о печальных последствиях нарушения царской дочерью Психеей запрета на лицезрение ее загадочного супруга. Амур исчезает, и Психея должна вернуть его, пройдя множество испытаний. Одолев их и даже спустившись в аид за живой водой, Психея после мучительных страданий вновь обретает возлюбленного.
Однако, понятно, что дистанция между классическим мифом и классической волшебной сказкой велика.
Е. М. Мелетинский отмечает:
»Структура первобытного мифа (и сказки), в которой все деяния (испытания) героя равноправны, где нет противопоставления средства и цели, может рассматриваться как некая метаструктура по отношению к классической волшебной сказке. В классической волшебной сказке на развалинах мифологического «космоса» твердо очерчивается «микрокосм» в виде сказочной семьи как арены конфликтов социального характера. Конфликты эти разрешаются вмешательством в личные судьбы чудесных лиц и предметов из мира условной сказочной мифологии. Если в мифе большую роль играла тема инициации героя, а женитьба выступала как средство социальной «коммуникации» и добывания магических и экономических благ, то в сказке женитьба — конечная цель и важнейшая ценность…»
О трансформации мифологических основ в художественно-поэтическое содержание, выражающее народное мировоззрение и мирочувствие, писали многие исследователи воспитательного потенциала сказки. Слушателю становились неведомы и безразличны мифологические истоки сюжета, но он вновь и вновь внимал сказочной мудрости, открывая для себя источник ведения о разных жизненных путях, о правде и кривде, о благочестивом и нечестивом, о высоком и низком, о страдании и радости.
Что касается дидактических аспектов сказки, то дидактика ее особого свойства.
Во-первых, сказка пробуждает у ребенка важнейшую способность души — сопереживание. Этот эмоциональный опыт сочувствия персонажам, приобщения к их борьбе за победу имеет несомненную ценность в формировании личностных идеалов и системы ценностей.
Во-вторых, восприятие сказки маленьким ребенком отличается от восприятия взрослого человека тем, что, сопереживая действию, ребенок становится на позицию героя, словно отождествляя себя с ним, пытаясь преодолеть стоящие у того на пути препятствия. И это чрезвычайно важно для личностного становления: ведь сказка в художественных образах, как пишет В. Я. Пропп, »…выражает лучшие качества народа и тем самым воспитывает эти качества в тех, кто любит слушать или читать сказку».
(Невозможно, однако, не признать, что не все герои русских сказок обладают «лучшими качествами народа»; сказка знает и мотивы любования плутовством и романтизацию воровства, и кощунственный смех. Ведь она — отражение той неоднородности, которая всегда присутствует в культуре. Здесь сплетены и нравственное, и безнравственное, и образцовое, и безобразное. Сказка требует внимательного и вдумчивого отношения…)
В-третьих, как отмечает В. П. Аникин, предназначенные детям волшебные сказки »самым последовательным образом воплощают благодетельный принцип очистительной силы безграничного вымысла. И подкреплением его можно считать, в свою очередь, беспредельные по силе воздействия на ребенка сцены, когда говорится о торжестве избавления от бед и напастей… Счастливые сцены обретения благополучия возникают как моральный противовес мрачному, гибельному, от чего отвращается человеческая душа. Другими глазами смотрят люди на счастье жить в родном доме, среди близких, даже если пережили страх только в воображении».
Это дидактическое свойство сказки высоко оценивают и психологи. Мария-Луиза фон Франц утверждает, что сказка »…дает воодушевляющий и жизнеутверждающий пример для подражания, который на бессознательном уровне напоминает человеку о неограниченных жизненных возможностях».
И, наконец, в-четвертых, сказка, раздвигая перед ребенком границы видимого бытия, вводит его в мир нравственных предпочтений и духовных ценностей. По словам Ивана Ильина: »Сказка будит и пленяет мечту. Она дает ребенку первое чувство героического — чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности… Она заселяет его душу национальным мифом, тем хором образов, в котором народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее».
Итак, мифологические истоки, аксиоматика и дидактика переплелись в сказке навеки. Но смешение их представляется не механическим, но функциональным распределением элементов языческого и христианского мироощущения. Их нерасторжимый сплав, подчас являет собой особое духовное образование, в котором преображенное христианским духом язычество стало необходимой частью народной мировоззренческой системы.
Сказка о Финисте — Ясном Соколе — красноречивый пример такого сплава, где ясно выступает то главное, благодаря чему хранится и передается из поколения в поколение народная сказка, то, что цементирует этот сплав. Это — призыв человека к расширению жизненного горизонта от земного — к духовному, к обретению цельности.
»В общении с крылатым и вещим сам человек одухотворяется…», — писал Е. Н. Трубецкой.
Эта мысль глубоко сродни христианской душе. Окрыленность, обретение подлинной цельности бытия, сказка рисует через образ всепобеждающей силы любви, стремящейся слиться с любимым. Сказки повествуют слушателю о жертвенности и неутомимости на выбранной дороге, о пробуждении из плена забытья и чудесном преображении, о спасительной силе любви.
Сказка открывает перед слушателем путь жизни.
Живой хвалебной песнью Господу называет подобный путь Иван Ильин: »В человеке пробуждаются потаенные силы его далеких предков, с которыми он удивительным образом чувствует себя единым. Все просыпается для него, все живое окликает его; и он чувствует себя цельным и окрыленным».
Ребенок по своей природе мистик. Обыденность, оскудение романтики, героики, жажды подвига ему противопоказаны. Потому-то дети всегда так тянутся к сказке. Пройдя путь от сугубо мифологического миросозерцания к истокам духовной премудрости, сказка научилась предостерегать и наставлять, являя за словами целый мир метафорических образов.
»Юность — новь; и кто изменчив — молод.
Знайте мед и горечь — умирать!..
О, учитесь Фениксом сгорать!..»
(К. Бальмонт).
Литература
1 Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. — М.: «Индрик», 2002.
2 Аникин В. П. Художественное слово. Вступительная статья из сб. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Детство. Отрочество. — М.; «Художественная литература», 1994.
3 Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. — М., «Высшая школа», 2003.
4 Дикман Ханс. Юнгианский анализ волшебных сказок. — СПб: Академический проект, 2000.
5 Ильин И. А. Духовный смысл сказки. // Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. Иное царство и его искатели в русской народной сказке. — М., Лепта, 2000.
6 Ильин И. А. Русская душа в своих сказках и легендах. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике. — М.: «Высшая школа», 2003.
7 Ильин И. А. Путь духовного обновления.// Путь к очевидности. — М.: Республика, 1993.
8 Капица Ф. С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор. — М.; «Флинта», «Наука», 2000.
9 Кремлева И. А. Похоронно-поминальные обряды у русских: традиции и современность. — М., 1993.
10 Крячко А. А. Русская сказка в домашнем театре. — М.; «Планета — 2000», 2004.
11 Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. — М: Мысль, 1994.
12 Мелетинский Е. М. Миф и сказка. Русское устное народное творчество. Хрестоматия по фольклористике. — М.: «Высшая школа», 2003.
13 Новый Завет. Псалтырь. Притчи. — М.: Библейское общество, 1992.
14 Панченко А. А. Религиозные практики: к изучению «народной религии». // Мифология и повседневность. В.Ч. СПб, 1999.
15 Потаповская О. М. Воспитание сказкой. — М; 2002.
16 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — М., «Лабиринт», 2000.
17 Пропп В. Я. Мифология сказки. — М.; 1969.
18 Русские народные сказки. Составление и вступительная статья В. П. Аникина. — М.: пресса, 1992.
19 Соболев А. Н. Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям. — СПб: 1999.
20 Структура волшебной сказки. Изд-е РГГУ, — М.: 2001.
21 Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. — М.: 1995.
22 Трубецкой Е. Н. Избранное. // Иное царство и его искатели в русской народной сказке. — М., Канон, 1995.
23 Франц, Мария — Луиза фон. Психология сказки. Толкование волшебных сказок. Психологический смысл мотива искупления в волшебной сказке. — СПб: Б.С.К., 1998.
24 Ханзен-Леве А. Мифо-поэтический символизм. — СПб.: Академический проект, 2003.
25 Шамаева С. Е. Апология сказки.- Воронеж, 1996.
26 Юдин А. В. Образ кота в украинских колыбельных песнях. — М., 2003.
27 Юдин Ю. И. Русская народная бытовая сказка. — М.: Academia, 1998.
Источник

Окончание третьего класса – важный этап в жизни ребёнка. По мнению педагогов, именно в этот период у детей появляется огромный интерес и тяга к знаниям. Вместе с тем, конечно, младшим школьникам, хочется провести летние каникулы с друзьями и хотя бы на время забыть о домашних заданиях и учебниках. Родителям также не хочется загружать детей уроками, однако полностью отказываться от познавательного процесса на всё лето тоже не стоит. Мы подготовили для вас список книг для чтения летом после 4 класса.
Программа по чтению будущего пятиклассника ощутимо сложнее той, которую изучают в младшей школе. Список изучаемых текстов можно разделить на несколько групп:
- русские народные сказки;
- произведения русских писателей XIX в.;
- произведения отечественных авторов XX в.;
- зарубежная литература;
- мифы Древней Греции.
Чтобы лучше усвоить материал и в течение учебного года не перегружать ребёнка, рекомендуем начать подготовку уже сейчас. Тем более, что после 4 класса в рекомендованном списке литературы есть внушительные по своему объёму произведения. Например, «Старик Хоттабыч», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и «Приключения Электроника».
Необходимо читать в среднем 6-7 страниц ежедневно, чтобы освоить всю программу за летние каникулы.
Содержание:
«Школа России»: список литературы на лето
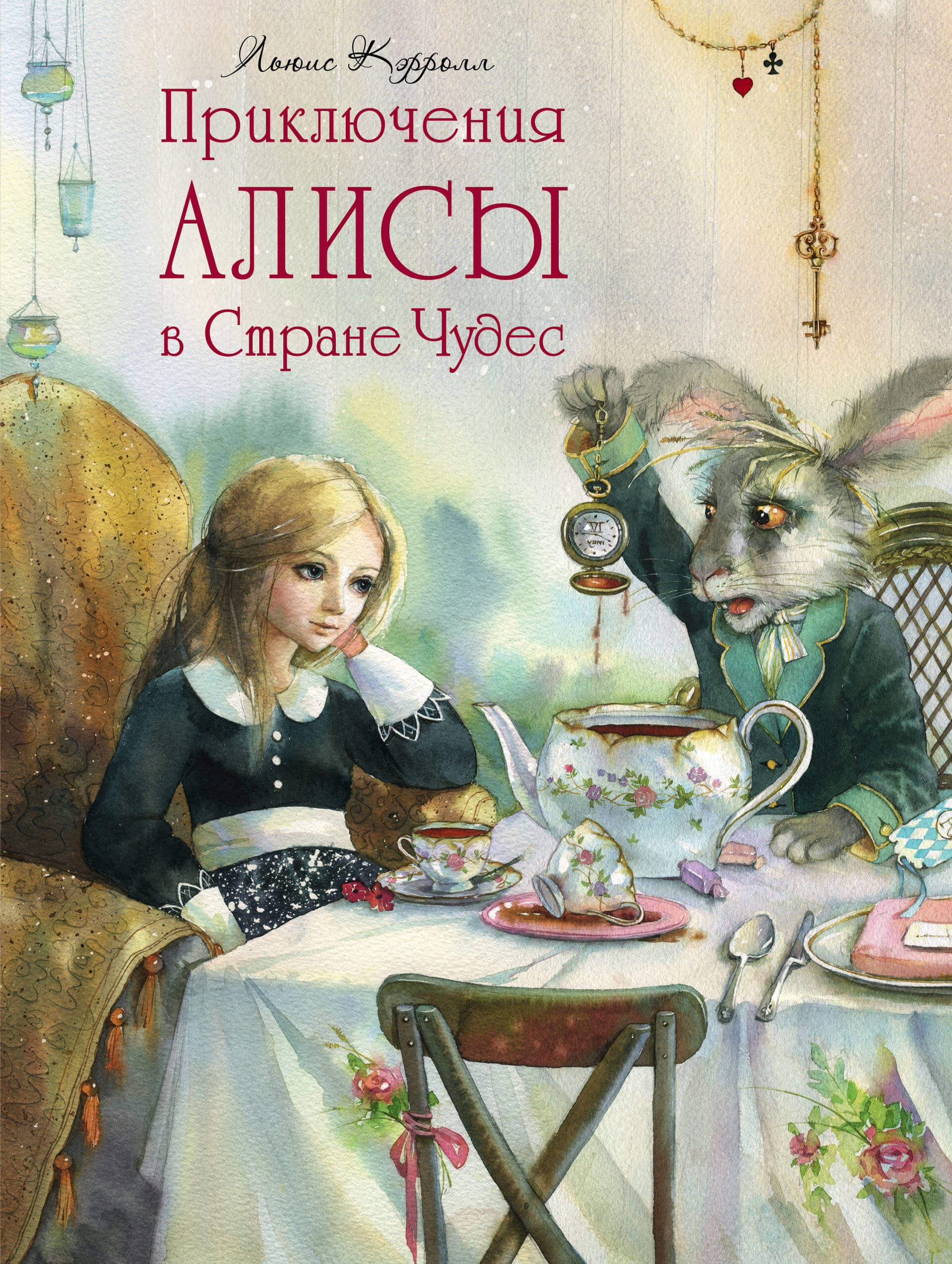
Русская литература
- В. Брагин «В стране дремучих трав».
- А. Усачёв «Великий могучий русский язык».
- С. Прокофьева «Тайна хрустального замка».
- Л. Гераскина «В стране невыученных уроков».
- К. Булычёв «Сто лет тому вперёд», «Девочка с Земли», «Тайна Третьей планеты».
- В. Крапивин « Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой».
- Ю. Ситников «Возвращение кота».
- Т. Ломбина «Дневник Пети Васина и Васи Петина».
- Р. Погодин «Дубравка».
- В. Зарапин «Опыты на воздухе. Весёлые научные опыты для детей и взрослых».
- В. Медведев «Баранкин! Будь человеком!»
- С. Алексеев «Идёт война народная», «Ради жизни на земле».
- Е. Велтистов «Приключения Электроника».
- Ю. Олеша «Три толстяка».
- Б. Зубков «Как построили небоскрёб», «Из чего все машины сделаны?»
- М. Константиновский «О том, как устроен атом», «О том, как работает автор».
- Г. Шторм «Подвиги Святослава», «На поле Куликовом».
- А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила».
Зарубежная литература
- Эдит Патту «Восток».
- Д. Даррел «Зоопарк в моем багаже».
- Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес».
- Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
- Л. Мальмузи «Неандертальский мальчик в школе и дома».
- Ф. Зальтен «Бемби».
Список литературы на лето по программе «Перспектива»
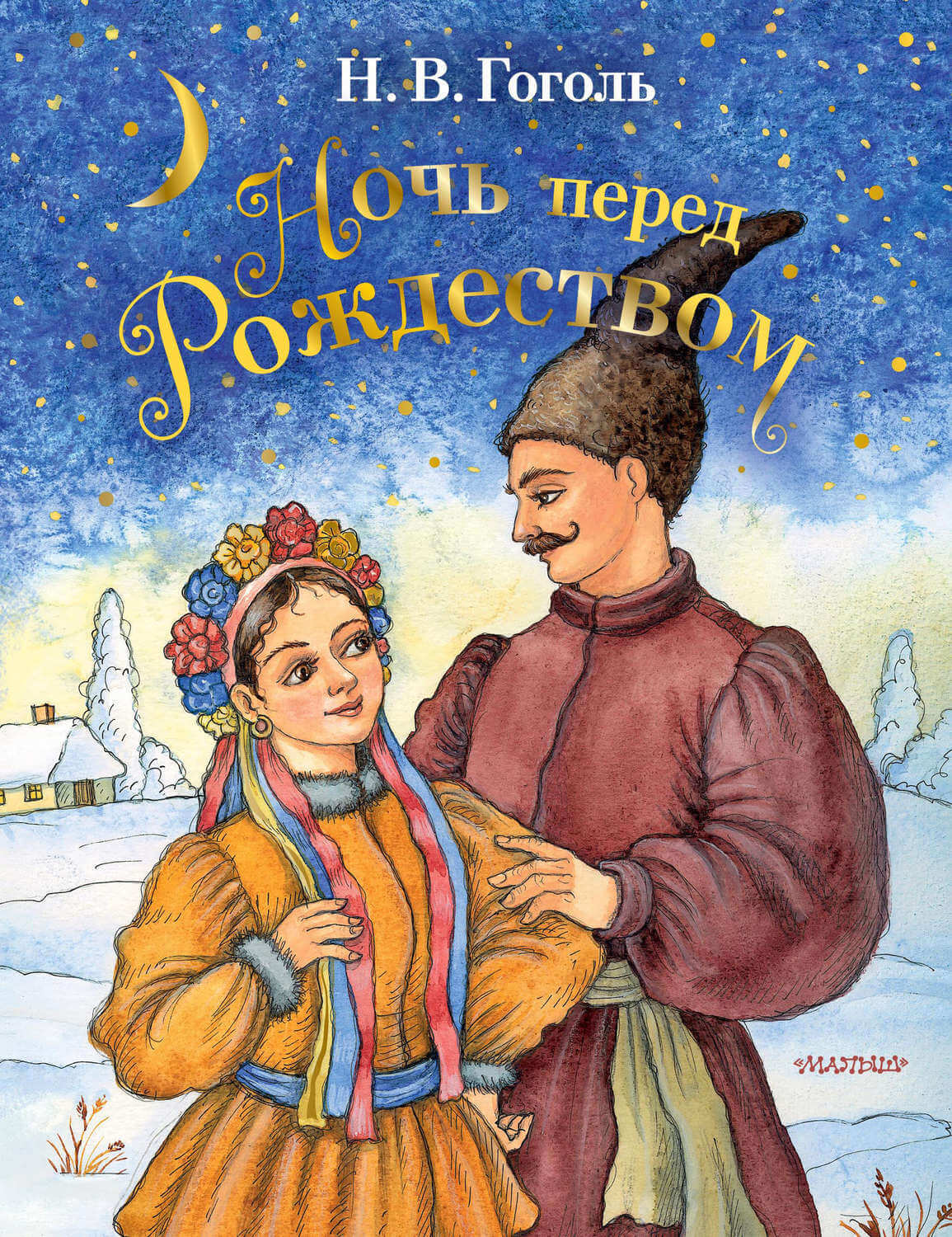
Русская литература
- Русские народные сказки: «Василиса Прекрасная», «Финист – Ясный Сокол».
- В. Жуковский «Спящая царевна».
- Сказки А. Пушкина.
- Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница».
- И. Крылов «Басни».
- Юмористические рассказы А. Чехова («Толстый и тонкий», «Налим», «Злоумышленник», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия» и др.).
- И. Тургенев «Муму».
- Л. Толстой «Кавказский пленник».
- В. Короленко «Дети подземелья».
- А. Куприн «Чудесный доктор»
- А. Платонов «Волшебное кольцо»
- К. Паустовский «Кот-ворюга»
- В. Астафьев «Васюткино озеро»
- В. Белов «Скворцы»
- В. Осеева «Васек Трубачёв и его товарищи»
- М. Горький «Дед Архип и Ленька»
- К. Булычёв «Путешествие Алисы», «Гостья из будущего»
Зарубежная литература:
- Мифы и легенды Древней Греции (под редакцией Н. Куна).
- Г. Андерсен «Соловей», «Снежная королева».
- В. Гауф «Карлик Нос».
- Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
- Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе».
- А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста».
- Дж. Родари «Сказки по телефону» или «Говорящий сверток», «Голубая стрела».
- М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна».
- Д. Толкин «Хоббит, или туда и обратно».
- О. Уайльд «Соловей и роза».
- Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес».
- А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».
- Р. Стивенсон «Остров сокровищ».
- Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».
Список литературы на лето «21 век»
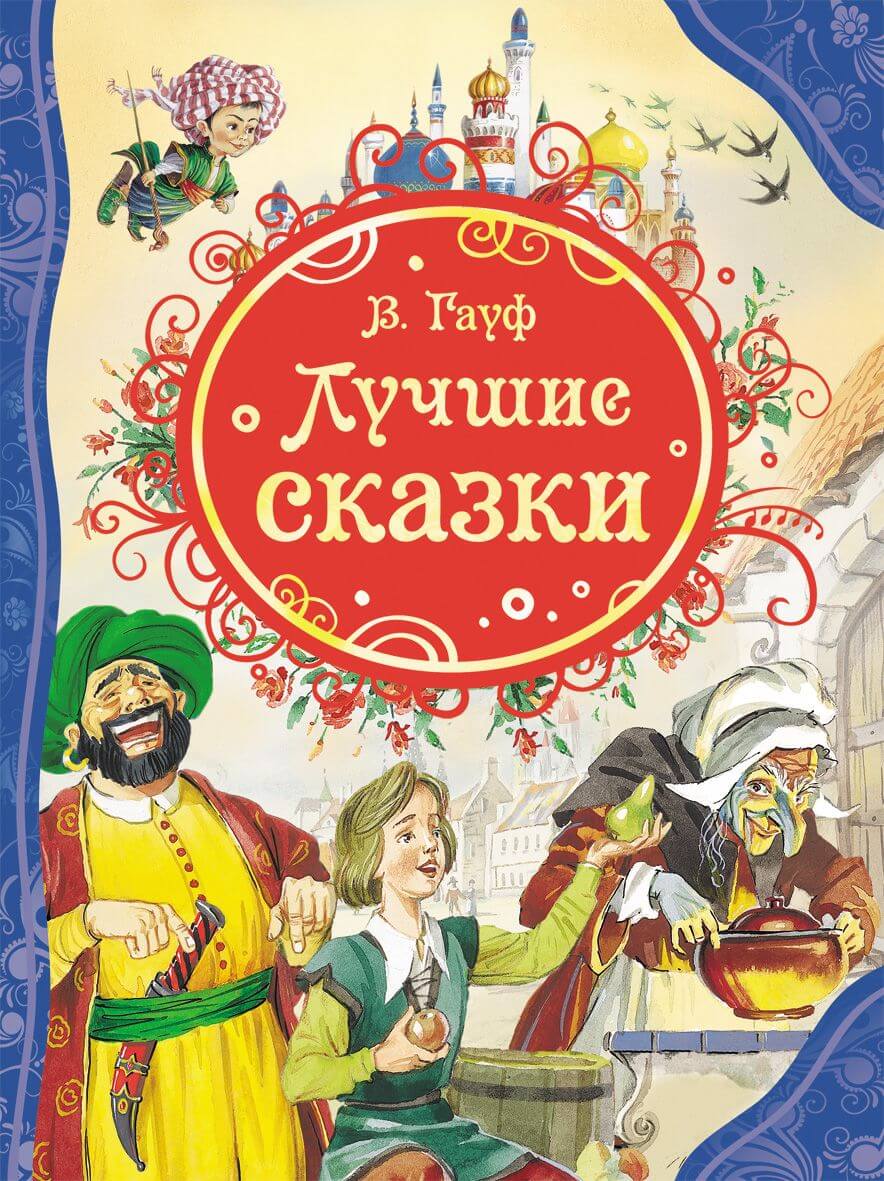
Русская литература
- Русские народные сказки «Марья Моревна», «Иван-Царевич и Серый Волк» и др.
- Библейские предания «Блудный сын», «Суд Соломона».
- Русские былины о богатырях.
- Басни И. Крылова, Л. Толстого, А. Измайлова, И. Хемницера.
- Сказки Ш.Перро.
- П. Ершов «Конёк-Горбунок».
- Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».
- В. Жуковский «Война мышей и лягушек».
- В. Одоевский «Городок в табакерке».
- В. Даль «Сказка об Иване молодом сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища».
- М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключение Гекльберри Финна».
- Х. Андерсен «Дикие лебеди».
- Сказки В. Гауфа.
- Сказки Б. Гримм.
- А. Куприн «Четверо нищих».
- В. Катаев «Сын полка».
- Е. Ильина «Четвертая высота».
- Н. Вагнер «Сказки Кота-Мурлыки».
- Д. Свифт «Путешествие Гулливера».
- К. Булычёв «Тайна третьей планеты», «Приключения Алисы», «Девочка с Земли».
- Л. Лагин «Старик Хоттабыч».
- П. Треверс «Мэри Поппинс на Вишнёвой улице».
- Е. Велтистов «Приключения Электроника».
Список литературы для чтения летом по программе «2100»
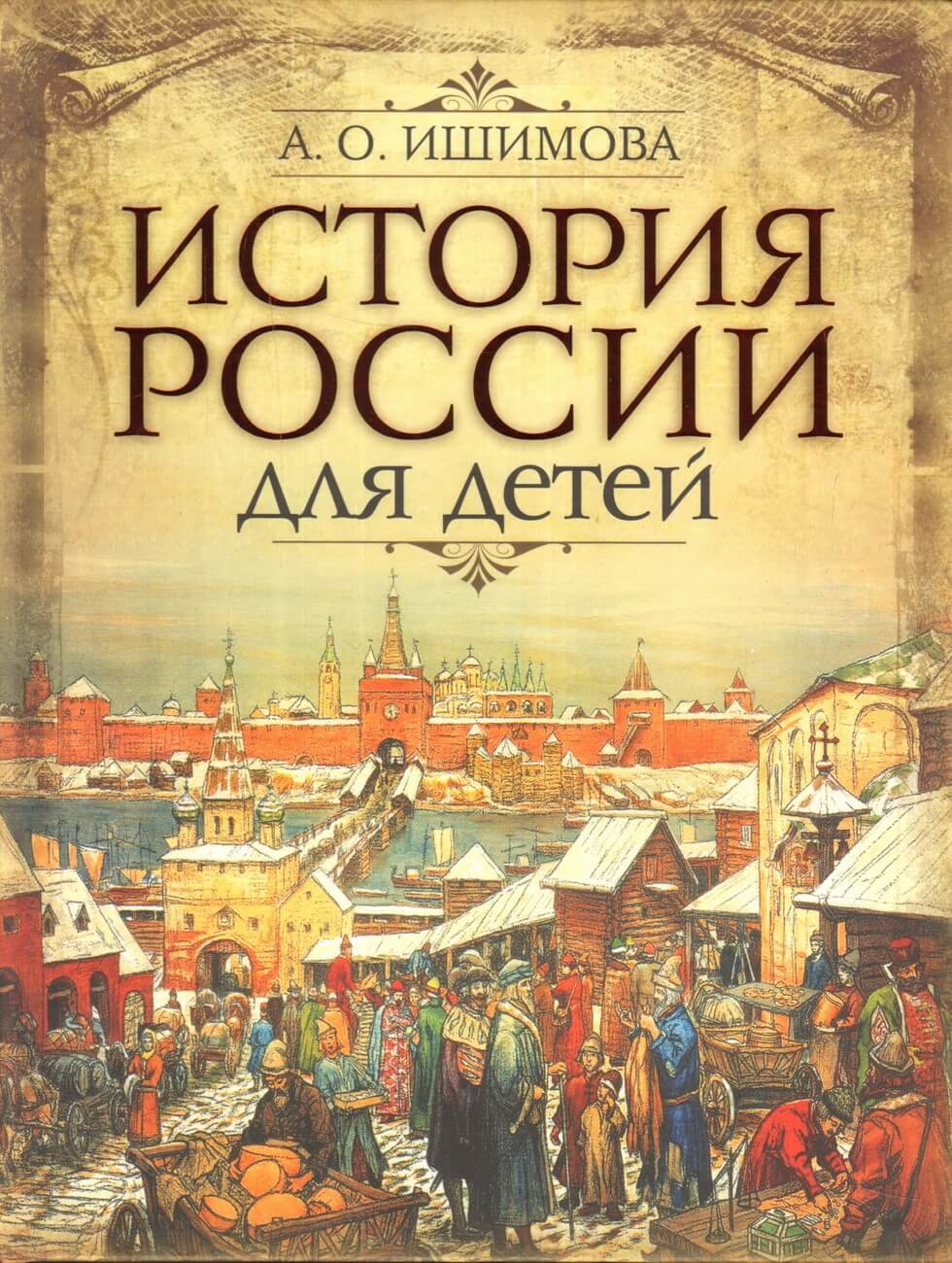
Русская литература
- Г. Сапгир «Стихи».
- Е. Велтистов «Приключения Электроника».
- Стихи Ю. Мориц.
- А. Пушкин «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде».
- Н. Кончаловская «Наша древняя столица».
- «Повесть временных лет».
- Д. Герасимов «О поселянине и медведице».
- Савватий (Терентий Васильев) «Азбуковное учение».
- С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука».
- А. Болотов «Жизнь и приключения Андрея Болотова, написанные самим им для своих потомков».
- Н. Новиков журнал «Детское чтение для сердца и разума».
- Басни И. Крылова.
- А. Одоевский «Городок в табакерке».
- А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители».
- В. Жуковский «Спящая царевна».
- В. Даль «Война грибов с ягодами».
- А. Ишимова «История России в рассказах для детей».
- Стихи А. Плещеева.
- Стихи А. Майкова.
- Стихи Ф. Тютчева.
- Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
- Л. Толстой «Два брата».
- К. Ушинский «Детский мир и хрестоматия», «Жалобы зайки».
- А. Куприн «Слон».
- Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки».
- Б. Житков «Морские истории».
ТОП-10 современных произведений для чтения летом
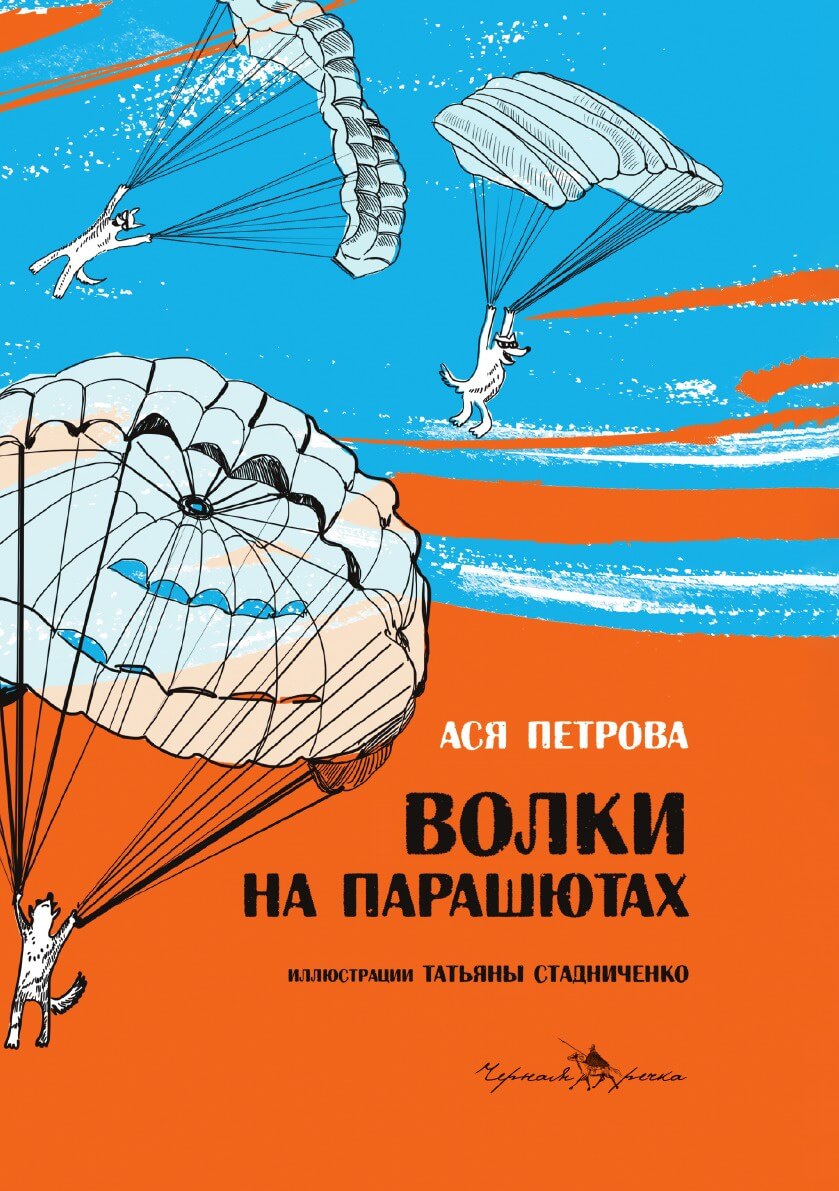
- С. Седов «Сказки про мальчика Лёшу».
- М. Бершадская «Большая маленькая девочка».
- С. Востоков «Не кормить и не дразнить».
- А. Гиваргизов «С детского на детский», «Записки выдающегося двоечника», «Про драконов и милиционеров».
- Т. Михеева «Асино лето».
- М. Ботева «Мороженое в вафельных стаканчиках».
- А. Перова «Волки на парашютах».
- Т. Крюкова «Блестящая калоша с правой ноги», «Ровно в полночь по картонным часам».
- М. Бородицкая «Последний день учения».
- М. Дружинина «Классный выдался денёк!».
Что ещё почитать будущему пятикласснику
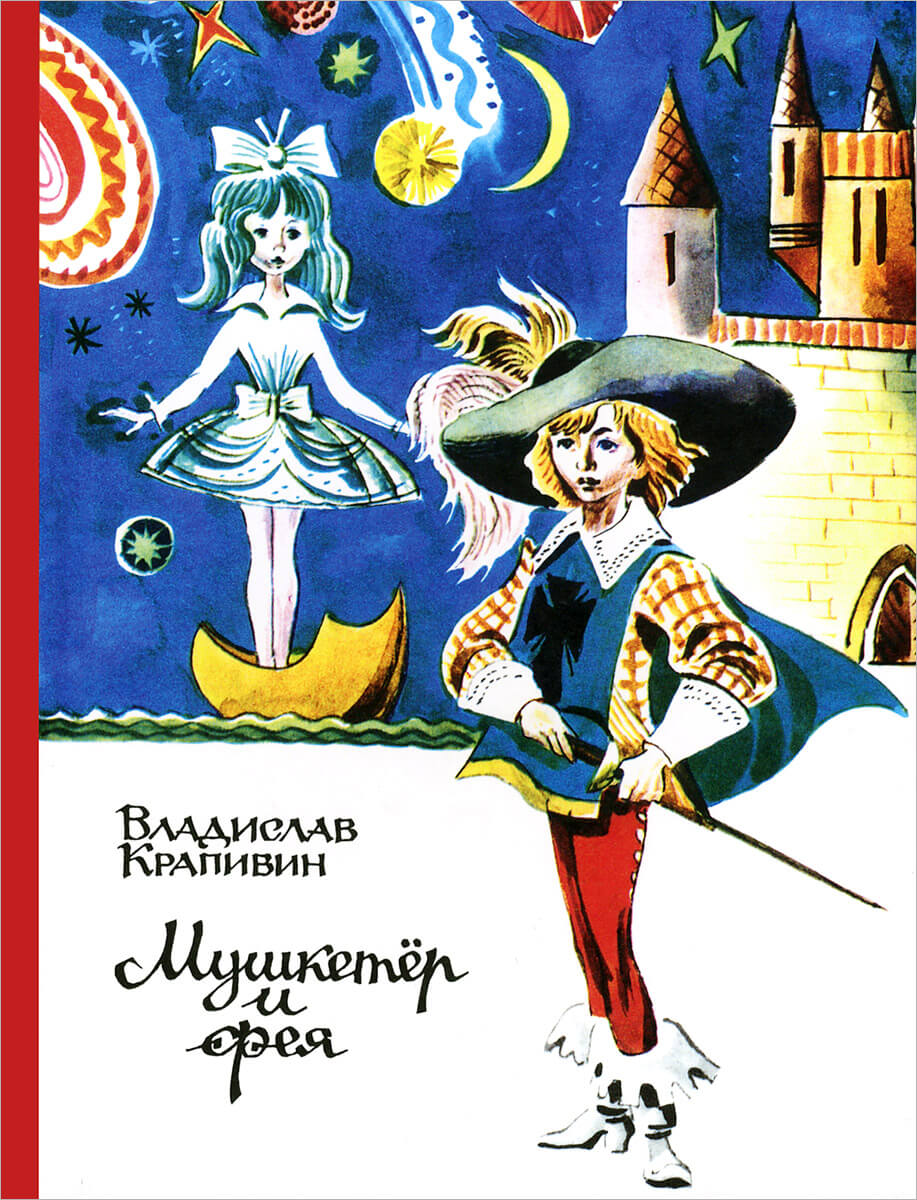
Если список литературы у ребёнка подходит к концу, предлагаем ещё несколько книг, которые в школьную программу не входят, однако уже многие годы не оставляет равнодушным юных читателей.
- Л. Давыдычев «Рассказ про Ивана Семёнова второгодника и второклассника».
- Л. Кассиль «Дорогие мои мальчики», «Будьте готовы, Ваше высочество», «Кондуит и Швамбрания».
- В. Крапивин «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой», «Бегство рогатых Викингов».
- В. Осеева «Динка», «Динка прощается с детством».
- А. Фраерман «Дикая собака Динго».
- Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье».
- Э. Сетон-Томпсон «Снап», «Виннипегский волк», «Чинк».
- А. Линдгрен «Мы все из Бюллербю», «Расмус-бродяга», «Братья Львиное Сердце», «Ронни дочь разбойника».
- Дж. Родари «Сказки по телефону», «Говорящий свёрток».
- Р. Стивенсон «Остров сокровищ».
- Э. По «Золотой жук».
- А. Конан Дойл «Затерянный мир».
Чтобы лучше запомнить прочитанное и зафиксировать главные моменты, рекомендуем вести читательский дневник.
Задания после 4 класса на лето

Летняя пора – уникальное время, чтобы не только подтянуть и освежить полученные знания, но и подготовиться к новому учебному году. Чтобы сохранить уровень полученных в школе навыков и умений, необходимо уделять занятиям минимум 15 минут ежедневно. Такую методику используют во многих странах мира. Это помогает не только поддерживать познавательную деятельность, но и придерживаться дисциплины даже в период летнего отдыха.
Русский язык
- Производить синтаксический разбор предложений (простых и сложных).
- Разбирать слово как часть речи, работать над составом слова.
- Писать изложение текста (90-100 слов).
- Писать сочинения по плану (0-25 предложений).
- Повторять все изученные правила русского языка (это нужно делать в августе перед началом учебного года).
Математика
- Вычислять периметр и площадь прямоугольника, многоугольника.
- Решать уравнения, применяя правила нахождения компонентов.
- Применять правила выполнения операций с числами в 3-4 действия со скобками и без.
- Работать с единицами величин (длина, масса, площадь, время).
Чтение
- Тренировать скорость чтения (минимум 80 слов в минуту).
- Читать группами слов, без пропусков и перестановок букв и слогов, соблюдая орфоэпические нормы и интонацию.
- Формулировать своё отношение к сюжету, героям и их поступкам.
Лайфхак для родителей: найдите правильную мотивацию к чтению для дошкольника или младшего школьника. Вместе придумайте желанную цель, на которую ребёнок будет копить, выполняя те или иные задания от родителя. Осуществить это помогает приложение «Где мои дети» и новая функция «Задания для ребёнка»!
Получите чек-лист подготовки к школе на свою почту
Письмо отправлено!
Проверьте электронный ящик
Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android

Мобильное приложение «Где мои дети»
Смотрите передвижения ребёнка на карте, слушайте что происходит вокруг, когда вас нет рядом.
Отправляйте громкий сигнал, если ребёнок не слышит звонка от вас.
Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android
Загрузить приложение




