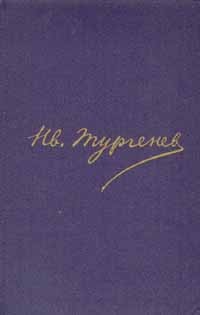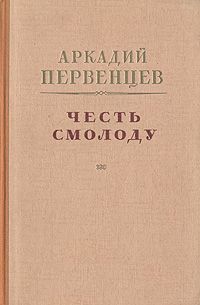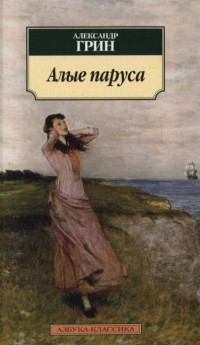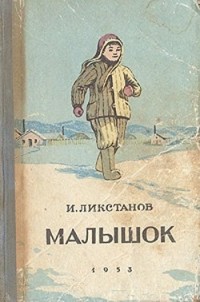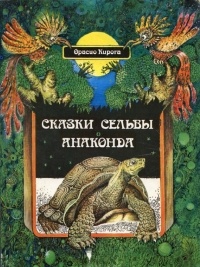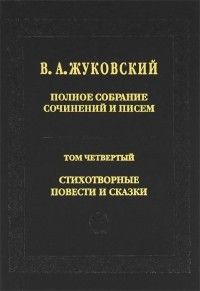УРОК 20
В. А. ЖУКОВСКИЙ.
«СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА»
Основное содержание урока
Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). Особенности сюжета сказки. Сходство
и различие сюжета и героев сказки Жуковского и народной сказки. Сказка в актёрском исполнении.
Основные виды деятельности учащихся.
Выразительное чтение статьи учебника «Василий Андреевич Жуковский» и сведений о Жуковском из практикума «Читаем, думаем, спорим…». Составление плана статьи.
Восприятие и выразительное чтение сказки (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на вопросы и
составление плана сказки (в том числе цитатного). Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Составление характеристик героев и их
нравственная оценка. Чтение и обсуждение статьи учебника «Из истории создания сказки „Спящая царевна“». Пересказ народной сказки о спящей красавице.
Обсуждение иллюстраций к сказке. Рецензирование актёрского чтения.
Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению наизусть фрагмента сказки. Составление письменного высказывания на тему
«Дворец царя Матвея в заколдованном сне и после пробуждения».
Практическая работа. Сопоставление сюжета и героев народной сказки и сказки Жуковского.
СОДЕРЖАНИЕ УРОКА
I. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник)
Рассказ учителя о В. А. Жуковском
с показом презентации, включающей
несколько портретов поэта;
изображения мест, связанных с его именем(см. страницу Рисунки Жуковского);
небольшой фрагмент стихотворения «Сельское кладбище».
II. Чтение вслух статьи учебника «Василий Андреевич Жуковский» (см. текст статьи ниже):
Составление плана статьи.
Чтение сведений о Жуковском из практикума «Читаем, думаем, спорим…».
Учитель может рассказать подробнее о взаимоотношениях Жуковского и Пушкина (см. страницу Друзья Пушкина. Жуковский В.А.) и
прокомментировать слова Белинского: «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина».
III. Особенности сюжета сказки.
Сходство и различие сюжета и героев сказки Жуковского и народной сказки
Выявление восприятия сказки Жуковского «Спящая царевна»:
Почему сказка называется «Спящая царевна»?
Какие народные сказки о спящей царевне вы знаете?
Вспомните народную сказку «Спящая красавица» в обработке Ш. Перро. Чем на неё похожа сказка В. А. Жуковского?
IV. Выразительное чтение сказки Жуковского по частям с выделением этапов развития сюжета.
Составление плана сказки и беседа по содержанию
:
1. Чтение сказки с начала до слов «…Ни пером не описать».
Пункт плана сказки: «Пророчество рака» или «Рождение царевны»
(пятиклассники могут обосновать, какой из заголовков плана им кажется наиболее удачным, или предложить свой вариант).
Чем начало сказки Жуковского напоминает народные сказки?
2. Чтение сказки со слов «Вот царём Матвеем пир…» до слов «…До земного их конца».
Пункт плана сказки: «Происшествие на пиру у царя» или «Месть злой чародейки». Чем одарили царевну чародейки?
3. Чтение сказки со слов «Скрылась гостья…» до слов «…Вот и триста лет прошло».
Пункт плана сказки: «Заколдованный сон» или «Пророчество чародеек сбылось».
Спас ли царевну от злого пророчества запрет царя на использование веретён?
Почему эта мера предосторожности оказалась бесполезной?
Кто был объят сном в царстве Матвея?
Почему то был сон, а не смерть?
Почему, по-вашему, никто из смельчаков не смог разбудить спящую царевну до истечения срока пророчества?
Почему погибали все, кто хотел освободить царевну от сна?
4. Чтение сказки со слов «Что ж случилося?..» до слов «…Весь тот край был погружён».
Пункт плана «Пробуждение» или «Поцелуй царского сына».
Почему, когда царский сын попал в заколдованное сном место, ему уже не было страшно?
Как встречала его природа, окружающая царский дворец?
Почему царский сын не заснул, когда попал во дворец царя Матвея?
Что поразило его во дворце?
Что почувствовал царский сын, увидев спящую царевну? Почему он её поцеловал?
5. Чтение сказки со слов «Царь на лестницу идёт…» до конца.
Пункт плана «Конец злых чар» или «Свадьба».
Как понять строки: «Всё бывалое — один / Небывалый царский сын»?
Сравните описание царского дворца после пробуждения с описанием сна и сопоставьте детали этих эпизодов.
Что было и что стало с царём, царицей, свитой, стражей, мухами, собаками, конями, поваром, огнём и дымом?
V. Рецензирование выразительного чтения сказки.
VI. Чтение статьи учебника «Из истории создания сказки „Спящая царевна“»
(см. страницу текст статьи ниже):
Какое соревнование устроили Жуковский и Пушкин в Царском Селе?
Чем «Сказка о царе Берендее» Жуковского напоминает «Сказку о царе Салтане…» Пушкина
(отчёт о выполнении индивидуального задания)?
Чем сказка Жуковского «Спящая царевна» близка народным сказкам и чем от них отличается?
Ответы на вопросы и выполнение заданий из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».
VII. Обсуждение иллюстраций к сказке «Спящая царевна».
VIII. Сказка в актёрском исполнении
Прослушивание звукозаписи чтения сказки по фонохрестоматии.
Рецензирование актёрского чтения.
Ответы на вопросы и выполнение заданий 1—2 и 4—5 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение» (к сказке «Спящая царевна»).
Домашнее задание
Выучить наизусть фрагмент сказки «Спящая царевна» и подготовиться читать его выразительно.
Составить небольшое письменное высказывание на тему «Дворец царя Матвея в заколдованном сне и после пробуждения».
Прочитать балладу Жуковского «Кубок» и подготовиться читать её выразительно.
Индивидуальные задания.
Выполнить устно задания 3 и 6 из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение» (к сказке «Спящая царевна»).
Следующие уроки: Урок 21. В. А. Жуковский. «Кубок» >>>
Источник: Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. – М.: Просвещение, 2016.
Василий Андреевич
ЖУКОВСКИЙ
1783-1852
Жуковский был первым поэтом на Руси, которого поэзия вышла из жизни.
В. Г. Белинский
Василий Андреевич Жуковский родился в 1783 году в Тульской губернии. Его отец — тульский помещик, мать — пленная турчанка. Мать легко овладела русской грамотой,
была умна, обаятельна. После смерти отца в семье относились к нему ласково, но он чувствовал необычность своего положения. Позднее он писал: «Я привыкал отделять
себя от всех, потому что никто не принимал во мне особливого участия и потому всякое участие ко мне казалось мне милостию».
Учился Жуковский сначала в частном пансионе, затем в Тульском народном училище. Первые его стихотворения были написаны, по-видимому, в возрасте семи-восьми лет.
Позднее мальчика увезли из Тулы и поместили в Московский университетский пансион…
В 1802 году в журнале «Вестник Европы» Жуковский помещает своё произведение «Сельское кладбище» (перевод из английского поэта Томаса Грея), которым начинается
длинный ряд его переводов. «До Жуковского на Руси никто и не подозревал, чтоб жизнь человека могла быть в тесной связи с его поэзиею и чтоб произведения поэта
могли быть вместе и лучшею его биографиею», — писал русский критик В. Г. Белинский.
Творческие и личные отношения Пушкина и Жуковского — важная страница в истории русской литературы. В течение всей жизни Пушкин питал к Жуковскому уважение
и был к нему привязан. Жуковский ещё в 1815 году, прослушав пушкинские «Воспоминания в Царском Селе», воскликнул: «Вот у нас настоящий поэт!»
Имя Жуковского — одно из наиболее известных в русской поэзии. «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина», — писал Белинский.
По И. М. Семенко
Источник: Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.:
Просвещение, 2015. (вернуться к уроку)
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
СКАЗКИ
«СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА»
Лето 1831 года Жуковский и Пушкин проводили в Царском Селе (см. страницу Пушкин в Царском Селе). Там они вступили в своеобразное
«состязание»: кто лучше напишет сказку, подобную народной. Об этой
стороне жизни двух поэтов Гоголь, находившийся вместе с ними, вспоминал: «Всё лето я прожил в Павловском и в Царском Селе… Почти каждый вечер собирались
мы — Жуковский, Пушкин и я. Сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина… сказки русские народные… у Жуковского тоже русские народные сказки…
Чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский…» Жуковский тогда закончил «Сказку о царе Берендее» и сказку
«Спящая царевна». Пушкин написал только одну — «Сказку о царе Салтане…». Она соответствует «Сказке о царе Берендее» Жуковского. Но, возможно, он вернулся
осенью 1833 года к мысли о соревновании и создал «Сказку о мёртвой царевне…», которая может быть сопоставлена со сказкой Жуковского «Спящая царевна».
Сказка Жуковского «Спящая царевна» написана почти тем же стихом, что и пушкинские сказки «О царе Салтане…», «О мёртвой царевне…», «О золотом петушке».
Жуковский использовал сюжеты немецкой народной сказки, которую он нашёл у братьев Гримм, и французской, обработанной Шарлем Перро.
Сюжет сказки Жуковского сходен с сюжетом «Сказки о мёртвой царевне…». Жуковский стремился придать речи народный характер. В народном духе выдержан зачин:
Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей всё нет как нет.
Пословицы, поговорки, народные речения и выражения — всё вводит Жуковский в сказку. Однако поэт не всегда выдерживает дух и язык народной речи. Мы часто
встречаем в сказке книжные, литературные выражения («Блещут розы по кустам», «Зданье — чудо старины», «Молод цвет её ланит» и пр.). Жуковский сделал
очень важный шаг вперёд в литературной обработке сказки.
Источник: Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.:
Просвещение, 2015. (вернуться к уроку)
РАЗМЫШЛЯЕМ О ПРОЧИТАННОМ
«Спящая царевна»
1. Вы прочитали сказку В. А. Жуковского «Спящая царевна». Что в ней вам особенно понравилось, запомнилось: пророчество рака, заколдованный сон, пробуждение?
2. К какому виду сказок вы бы её отнесли, если бы она была народной? Известно, что она появилась после шутливого соревнования Жуковского и Пушкина на
лучшую обработку народной сказки. Что в ней напоминает народные русские сказки? Что отличает её от них?
3. Почему не пригласили двенадцатую колдунью? Как она отомстила? Кто спас царевну, усыпив её не навсегда, кто пробудил её от многовекового сна?
Источник: Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.:
Просвещение, 2015. (вернуться к уроку)
ЛИТЕРАТУРА
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
«Спящая царевна»
Найдите в других книгах и в Интернете иллюстрации к сказке В. А. Жуковского «Спящая царевна».
Какие из них вам понравились и показались наиболее удачными? Почему?
Источник: Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.:
Просвещение, 2015.
ФОНОХРЕСТОМАТИЯ
В. А. Жуковский. «Спящая царевна»
1. На предыдущих уроках вы прочитали и прослушали народные сказки: волшебные, о животных, бытовые. И вот теперь прослушали литературную сказку, написанную поэтом.
Отличается ли манера сказывания народной сказки от художественного чтения сказки литературной? Чем? Почему?
2. Как актёр передаёт характеры злой и доброй чародеек, используя ритм, тембр, эмоциональную окраску звучания?
3. Прочитайте описание «сонного царства» так, чтобы передать одновременно и ощущение сонного покоя, и лёгкую усмешку автора.
4. Как меняется интонация актёра, когда он переходит к рассказу о царском сыне? Какие черты характера царевича передаёт чтец?
5. Прослушайте внимательно описание спящей царевны. Были ли такие подробные портретные описания в народных сказках?
6. Сравните описания «сонного царства» и проснувшегося, ожившего царского двора. Прочитайте описания вслух, передавая умиротворённость, неподвижность
в первом случае и движение, оживление во втором.
Источник: Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. — М.:
Просвещение, 2015. (вернуться к уроку)
Category Archives: Детям
Иван Тургенев «Муму» (1852)
Каких только аллюзий не находили в «Муму». Одна из них была поистине эпического размаха, где под главным героем повествования — Герасимом — понимался весь русский народ. Но и без аллюзий у рассказа нашлись противники в виде цензоров, увидевших в тексте для всех очевидное — самодурство помещиков. Закладывал ли в «Муму» некий смысл сам Тургенев? Или он просто изложил историю, которую ему рассказали очевидцы? Будучи под царским требованием находиться в родовом поместье, Иван нашёл интересную тему для повествования, им и реализованную. Поэтому нужно оставить домыслы в стороне, сконцентрировав внимание на содержании, допуская очевидное — кое в чём Тургенев всё-таки позволил себе вольности, домыслив обстоятельства, о которых никто не мог доподлинно знать.
Рассказываемая история не имеет привязки сугубо к Муму. Главным героем повествования был и остаётся Герасим — дворник в московском поместье, некогда крестьянин-пахарь. Будучи глухонемым, оставаясь нелюдимым, Герасим пытался найти существо, способное быть предметом его радостей. Не так важно, кто за таковое будет принят, лишь бы оно позволяло о себе заботиться. Герасим вполне мог опекать дерево, либо заботливо относиться к метле, но для повествования о горькой судьбе такое не подойдёт. Гораздо лучше показать на примере несостоявшейся любви. А полюбил Герасим прачку из дворни, за которую решил вступаться всякий раз. И не быть у истории продолжения, не вмешайся в дело посторонние, по чьей воле девушку выдали за другого, тогда как Герасиму пришлось проглотить обиду. Являясь человеком впечатлительным, он глубоко уйдёт в себя, испытывая сильные переживания. Герасим не станет крушить окружающую обстановку, показав умение соглашаться с ниспосланным судьбой. И на девушек Герасим вовсе более не обращал внимания.
Как быть? Предмета для заботы у него так и не появлялось. Он не нашёл дерево для опеки, к той же метле относился с прежней чёрствостью, словно сердце обратилось в камень. Никто не мог от него ничего дознаться — нелюдимость его не покидала. Всё изменилось, стоило подобрать собачку, кого и стал Герасим с той поры опекать. Будь собака спокойного нрава, молчаливая и без характера, склонного к проказам, тогда быть истории опять без продолжения. Но собака беспокоила барыню, уставшую от её присутствия во дворе. Дворня на свой лад поняла волю хозяйки, заставив Герасима избавиться от собаки. И вот уже из понимания этого обстоятельства исходит необходимость трактовать произведение.
Тургенев не обличал помещиков в самодурстве. Он описал дворянские привычки в том виде, в каком они присущи большинству людей, наделённых избыточным количеством средств. И не надо находить в тексте того, к чему Иван не побуждал. Суть повествования свелась к тому, что Герасим в очередной раз не захотел вступать в противоречие с дворней, предпочтя поступить так, как от него требуют. Если появилась необходимость избавиться от собаки, это он сделает собственными руками. Потому Герасим утопит Муму, а Тургенев опишет процесс утопления с максимальной отрешённостью, словно сам являлся глухонемым. Не будет даже всплеска воды, словно собаки и не было в лодке.
Читателю важно понять, как Герасим отнёсся к необходимости избавления от Муму, какие действия предпринял впоследствии. Действительно ли он мог сбежать со двора, добраться до родной деревни и там пропасть для мира окончательно? Ведь Герасима толком не искали, и прожил он остаток жизни, более никем не потревоженный. Просто так сложились обстоятельства… вот и всё.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Аркадий Первенцев «Честь смолоду» (1946-48)
Надо ли детям рассказывать о войне? Необходимо! Это требуется в той же степени, как с юных лет показывать мир полным жестокости. А лучше ознакомить с принципом существования жизни на планете, когда каждый должен бороться и выживать, невзирая на трудности. Причём сразу внушить, что человек отличается от всего мира лишь одним — он является единственным живым существом, способным жить во имя справедливости. Вот как раз о справедливости людям с юных лет и нужно рассказывать в самую первую очередь, доказывая на примерах, почему это именно так. Причём, справедливость допускается реализовывать с помощью поступков, считаемых за недопустимые. Потому война является лучшим примером — на войне убивают. И если юным сердцам не привести столь явного доказательства, то понимание справедливости сформируется по обратному принципу, когда уже неприемлемое будет считаться за должное быть. Вот потому некогда дети знали о мире больше, нежели тем озаботились последующие поколения, погрязнув в грёзах, отныне воспринимая «справедливость» за обязанное быть предоставленным по первому требованию. А ведь когда-то умирали за право торжества справедливости…
Нет, Аркадий Первенцев не писал о справедливости. Он не мог и подумать, будто может быть иначе. Он рассказал, каким образом дети взрослели, познавая мир на собственных ошибках. И люди на его страницах были разными, прекрасно понимающими, за какие поступки будут уважаемы, а за какие — наказаны. Но нельзя заставить всех быть одинаковыми. В обществе всегда будут стремящиеся жить по совести, будут и подлецы. Впрочем, общество обществу рознь. В иных обществах «жить по совести» — понятие противоположной окраски, тогда как «быть подлецом» — почётно. И если не говорить на примерах, скрывать от подрастающего поколения, пожнёшь далеко не то, к чему хотел стремиться. Если в мире убивают — об этом нужно говорить, об этом необходимо сообщать в детских произведениях, чтобы юный читатель знал и понимал, вырабатывая определённое мнение, а не познавал после самостоятельно, уже вступив во взрослую жизнь.
Как это происходит у Первенцева? Ребята растут и мужают, они пребывают в среде беззаботности, но не позволяют себе лишнего. А если кому-то желается совершить подлость, он будет восприниматься за изгоя. Подобного нельзя избежать, всё равно в обществе будут существовать элементы, пытающиеся разрушить представление об общем счастье. Имея врага среди сверстников, ребята подрастут и столкнутся с пониманием ещё более ужасающего — существуют враги пострашнее. И если внутренний враг — свой, с кем нужно научиться сосуществовать, то враг внешний — угроза, должная быть уничтоженной. Потому становится за благо борьба, когда человеку позволяется убивать людей. Как бы то ужасно не звучало для юных сердец, но жизнь действительно жестока ко всем одинаково. А если в мире исчезает справедливость, она должна быть восстановлена. Кому же определять понимание «справедливости»? То ляжет на плечи самых сильных. Так определила природа — выживает сильнейший, он же определяет, чему и каким образом быть, в том числе и восприятию такого сложного явления, каковым является «справедливость».
Безусловно, Аркадий Первенцев имел полное право писать о жестокостях на войне для детей. Тогда каждая семья познала лишения, самые маленькие дети имели представления, с каким трудом удалось одолеть агрессию врага. Главное, суметь сохранить память о том опыте, чтобы никогда не забывать. В том числе нельзя забывать и о бесчеловечности человека, возникающей как раз от утраты понимания, какой должна быть она — человечность, неразрывно связанная с правильным пониманием справедливости.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Александр Грин «Алые паруса» (1922-23)
«Алые паруса» Грин начал писать задолго до публикации рассказа «Грэй» в майском выпуске «Вечернего телеграфа» за 1922 год. Девушка по имени Ассоль не раз появлялась на страницах малых произведений, встречалась и схожая по замыслу идея понимания её жизни. Была и такая Ассоль, которая теряла мужа при кораблекрушении. Была и героиня, отправлявшаяся на поиски мужа, спасая того от смерти. Теперь же Грин решил сообщить историю, начав её издалека — с отца главной героини, как он оказался вынужден уйти с морской службы, дабы присматривать за малолетней дочерью, поскольку мать девочки промокла под дождём и умерла от воспаления лёгких. Ассоль взрослела в условиях отчуждённости, презираемая окружающими. Вследствие этого она привыкла жить в фантазиях, почти не обращая внимания на других. Но и будущий избранник девушки не отличался любовью окружающих, скорее прослыв за человека отчаянного, способного на сумасбродные поступки. Таким образом два сердца оказались обязаны слиться в одно под алыми парусами корабля.
Говоря про данную повесть, принято соотносить лёгкость содержания с трудностью жизни самого Грина. Ведь Александр жил в не менее тяжёлых условиях, буквально существуя, сходя с ума, никем всерьёз не воспринимаемый, практически уничтожаемый. Разве кто-то ценил Грина? И было ли кому ценить? В общественной жизни он не состоялся, семейные радости словно минули стороной, однако он продолжал писать рассказы и стихотворения, которые принимали на публикацию. Воспринимать действительность в подлинном смысле Грин не хотел. Разве есть в его творчестве нечто такое, заставляющее задуматься о происходящем? Конечно, в литературном наследии можно найти отголоски осмысления человеческих поступков, только насколько часто Грин до этого нисходил? Нет, Александр жил собственной жизнью, тогда как герои его произведений существовали в отдельной реальности.
«Алые паруса» легко воспринять за аллегорию. Кто-то даже склонен видеть в Ассоль самого Грина, жившего фантазиями, ожидая наступления прекрасного, обязанного принести исцеление для израненной души. Ведь должен был где-то существовать человек, способный обратить течение жизни из бурного потока неприятия в спокойное русло равнинной реки. Может под Грэем тогда следовало понимать жену Нину? Женившись в 1921 году, Грин словно попал в русло той самой равнинной реки, жизнь успокоилась, душа излечилась от ран. Может Нина была такой же храброй женщиной, готовая пойти на жертвы, дабы познать боль Александра, без страха согласившись разделить страдания. А уж то, что именно Нина спасла Грина от хандры, — в этом нет никакого сомнения. Читатель и сам становится тому свидетелем, увидев полное прекращение литературной деятельности в 1920 году. Получив надежду на лучшее, Александр начал творить, придя к мысли о сформировавшемся образе нового произведения.
Так о чём говорил Грин на страницах «Алых парусов»? Он призывал верить в самое невозможное к осуществлению, надеяться на достижение лучшего, не обращать внимания на безумства мира, находиться в гармонии с самим собой и быть готовым бесконечно долго ждать. Собственно, Грин выразил манифест любого писателя, желающего творить, обретая любовь и уважение читателя. Сколько Грин прожил часов, уделяя внимание чистым листам бумаги? Невероятно много, ибо написал он огромное количество творений. Но, как бы то не было печально, значительной части из им созданного никогда не будет найдено применения, поскольку верить и надеяться можно, только смысла от этого не прибавится. Поэтому остановиться следует на главной мысли: жить во имя будущего, творить во имя настоящего, словно прошлого никогда не было.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Иосиф Ликстанов «Малышок» (1946)
Когда-то у детей были совсем другие заботы. И так было долгие тысячелетия существования человечества. С совсем юных лет детей готовили к тяжёлым условиям жизни, ни в чём не давая послабления. Только ребёнок вставал на ноги, начинал осмыслять происходящее, он тут же получал для выполнения определённые обязанности. Не со всеми детьми подобное случалось, но подавляющее большинство обязывалось нести строгую повинность. Кому-то приходилось познавать ремесло крестьянина, иные осваивали кустарные ремёсла, но для каждого ребёнка находилось занятие, которое с ним оставалось до конца его дней и передавалось уже его детям. И брались дети за тяжёлый труд не силой побуждения, а с огромным желанием, стараясь быть лучше прочих, а то и ради доброго слова родителей. Читатель имеет право усомниться в сказанном. Но нельзя сомневаться в том, что в годы Отечественной войны дети стремились помогать взрослым, вести себя подобно им и выполнять любые задачи, исполнять которые брались в самый короткий срок с наилучшим результатом. Собственно, таковым оказывается главный герой произведения Иосифа Ликстанова — юноша с золотыми руками.
Только нельзя повествовать про то, каким главный герой являлся превосходным умельцем. Вернее, таковым его следовало показать с первых страниц. У парня был талант — забивать гвозди. С этим талантом он успеет прославиться на весь Крайний Север. И читатель за него радовался, видя, какой отличный советский гражданин — этот паренёк. Надо же, с таким азартом выполняет столь важное для строительства дело — управляется с молотком. Ведь сколько гвоздей у него получается сэкономить, насколько выросла эффективность труда, каким быстрым он оказывается мастером. С таким умельцем Советский Союз быстро освоит весь Крайний Север. Но мало уметь самому, главный герой начнёт передавать знания другим. Очень быстро забивать гвозди с первого раза научатся многие, пройдя не столь уж суровую школу. О чём же повествовать дальше? Вот тут-то перед читателем возникает основной замысел советской литературы, показывать, насколько отличный специалист легко низводится до хорошего, чтобы снова бороться за звание лучшего.
Поняв, насколько главный герой — отличный специалист, теперь он ставился автором на позицию догоняющего. Неважно, каких успехов ему удалось достигнуть, теперь должен начать заниматься квалифицированным трудом. Забивать гвозди — ремесло полезное, но куда важнее работать на станке. Вот это-то у главного героя и не будет получаться. Более того, другом у него окажется не до конца сознательный парень, предпочитающий от работы отлынивать. Зато в качестве примера будут девушки, в чьих руках дело спорится. Тут бы главному герою обидеться, всё-таки у девчонок получается лучше. Только автор с подобным отношением к повествованию подходить не стал. Наоборот, следовало заставить главного героя бороться с неумением освоить важное дело, шаг за шагом осваивая возможности станка. И у него обязательно получится выполнять норму, после чего рекорды придут сами собой.
Читатель может не понять, каким образом хватало средств для производства во время войны, если некоторые станки простаивали, на которых доверяли трудиться подросткам без постоянного надзора наставника. Ребята перепортят множество материала, до всего доходя собственным умом и с помощью подсказок сверстников. Всё повествование они будут находиться в стороне от общего производства, сохраняя ощущение важности делаемого. Так ли это важно для читателя? На страницах показаны люди с разным характером, обязанные делать общее дело, невзирая на проявление личных качеств. В итоге все начнут трудиться с отличным результатом, поскольку иного не могло быть в советском государстве.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Орасио Кирога «Анаконда» (1921)
Как бы хотелось смотреть на происходящее одновременно со всех сторон, умея знать, какие процессы происходят на всех уровнях сразу. Но человек ограничен в представлениях, не способный смотреть дальше собственного носа. Всё, замечаемое людьми, ограничивается доступным их пониманию социумом. Всё, выходящее за его рамки, ими не усваивается. Может причина в том, что люди живут сегодняшним днём, не задумываясь о будущем, как не опираясь на прошлое, используя свои возможности сугубо в целях извлечения кратковременной выгоды. Для примера всегда можно ссылаться к «Войне миров» за авторством Герберта Уэллса. Вспомните, на человечество обрушалась опасность пасть под пятою марсиан, тогда как другое людей вовсе не беспокоило, хотя за свою жизнь начали бороться и мельчайшие частицы, вступившие в беспощадное сопротивление иноземным вирусам и бактериям. Но кто о таком станет думать? Человек этим точно заниматься не будет. А теперь давайте представим, как людям воспротивятся змеи, не согласные молча умирать в качестве подопытных животных.
В затерянных лесах, влажных тропических, куда никогда не ступала нога человека. Теперь нога, защищённая от змеиных укусов, ступила на ту землю. Здесь прежде, как и в других местах, шла война за выживание. Змеи, есть среди них констрикторы и ядовитые, жили в обоюдном презрении. Вечно не брал мир, если такое слово можно применить, змеиное сообщество. Как теперь быть? Совершенно верно, предстоит бороться. Змеям становится известно, ибо змеям всегда всё становится известно, для какой цели к ним пришли люди. Подумать только, а думать надо всегда… не только вот сейчас только, человек задумал бороться с ядом змей, задумайтесь, ядом змей. Для этого змей, ядовитых преимущественно, начнут отлавливать. Зачем же всех? Люди решили, они всегда за других любят решать, создать уникальное противоядие. Не знали лишь змеи, несмотря на приписываемую змеям мудрость, что малая часть способна обезопасить от подобной части, взятой в большем количестве. Но отстаивать своё право, так как бороться за существование необходимо, змеи могли единственным способом — кусать. Да не тут-то было…
Кирога наполнил повествование трагическими событиями. Слишком много смертей он поместил на страницах не слишком долгого повествования. Умереть предстоит едва ли не всем действующим лицам. Храбрые змеи, доведённые до отчаяния, способны умирать за правое дело, как будут они умирать и по собственной глупости, и по незнанию, в том числе напрасно, либо с пользой для общего дела. Будут умирать и люди, ибо смертен человек, не каждый раз способные хитростью превозмочь отвагу тех, кто стремится выжить любой ценой, даже посредством принесения себя в жертву. Можно на краткий миг оговориться, упомянув про особый тип змей — змееедов, тем и славных для человека, предпочитающих убивать так ему ненавистных ядовитых гадов.
Теперь нужно остановится и задуматься. Человек не способен думать о праве змей на существование. Для примера можно привести зоопарки, где интереса удостаиваются любые животные, только бы они были теплокровными, а ещё лучше — млекопитающими. Прочее людей не интересует вовсе. Почему? Человек не видит дальше собственного носа, как тут уже говорилось. Оценивать мир с позиции змеи, рыбы, насекомого или вируса, он никогда не станет. Почему бы не позволить ему это сделать хотя бы под видом литературного произведения? Безусловно, Кирога не был подлинно правдив, наделив змей тем, чего они лишены. Впрочем, это люди так думают… они ведь дальше собственного носа не видят.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Орасио Кирога «Сказки сельвы» (1918)
Каждый рассказ из «Сказок сельвы» достоин отдельного упоминания, настолько изобилует содержание мыслями. Но сделать это не представляется возможным, слишком неоднозначной была личность Орасио Кироги. Не получится правильно рассудить, какие именно цели преследовал автор, сообщая определённую историю именно таким образом. Ведь не был Орасио детским писателем. О нём говорят, что он скорее предпочитал исследовать закоулки человеческой души, склонный к раскрытию мистических материй. Что до его склонности к написанию рассказов для детей, то нужно хорошо разобраться с самим определением этого именно под таким пониманием. Хорошо бы ещё знать историю Уругвая, особенно в начале XX века. Ничем подобным не располагая, оказываешься вынужденным поверхностно знакомиться со сказаниями Кироги о сельве.
Есть среди сказок рассказ «Война крокодилов», как отважные рептилии воспротивились пришествию прогресса в воды их реки. Не хотелось крокодилам терпеть шум цивилизации, попадать под лопасти кораблей, голодать из-за распуганной рыбы. Стали они возводить препятствия на пути, строили плотины. Ничего не спасало. Тогда мудрый крокодил посоветовал воспользоваться торпедой, то есть применить против человеческих достижений человеческое же оружие. Смотрится подобное повествование излишне аллегоричным. Однако, может ещё со времён Купера, читатель полюбил наблюдать за сопротивлением слабых народов, где имелась надежда на лучший исход. Да и у Кироги данный рассказ можно принять за иное осмысление борьбы южноафриканских индейцев за отстаивание прав на родную им землю.
Аналогичным образом получится принять «Сказку про енота». Пусть Кирога сообщал, как дикое животное становилось домашним питомцем, жило в волю и не знало бед, всё равно оставаясь уязвимым для сил природы, поскольку, сколько не приближайся к европейской цивилизации, тебя продолжат держать в клетке, не делая различия между тобой и твоими соплеменниками.
Схожую мысль можно усвоить с помощью рассказа «Переправа через Ябебири». В реке обитали скаты, которые не любили, когда к ним непочтительно относятся. Ещё бы, стали приходить рыбаки и удить рыбу динамитом. Какому скату это понравится? А тут стало известно про человека, обустроившегося близ реки и прогонявшего всякого, кто смел таким образом рыбачить. Полюбили скаты этого благодетеля, всячески проявляя ему признательность. Особенно они старались, стоило человеку вступить в сражение с тиграми. Скаты готовы были пойти на смерть, только бы защитить человека от опасности. Может Кирога хотел показать, насколько люди отличаются друг от друга, когда одни стремятся защищать мир и порядок, а другие склонны наводить разрушения и страдания?
А вот рассказ «Ленивая пчела» сходным образом понять не получится. Тут скорее Орасио говорил о стремлении части общества к социалистическим воззрениям, к важности соблюдения прав пролетариата. Стоило одному презреть заведённый в обществе порядок любви к труду, как от него тут же отказались, не согласившись принимать обратно в улей. Вдумчивый читатель скорее в подобном увидит попытку пророчества, осуществления которого Кирога мог желать, но всё-таки опасался. Рассказ получился с двойным подтекстом, одинаково применимый к любому дню, на какой не пытайся опереться. Безусловно, в обществе не должно быть дармоедов, получающих выгоду за чужой счёт. Такие обществу не нужны, согласно повествовательной линии. Чтобы это понять, нужно представить дармоеда самому себе, иначе он не сумеет сделать выводов.
Данными рассказами Кирога не ограничился. Есть другие рассказы в цикле про сказки сельвы, не менее примечательные. В каком возрасте к ним не обращайся, никогда не оценишь прежним образом, находя совсем иные мотивы.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Василий Жуковский «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке» (1845)
Русская сказка во всей красе, такой не сыщешь… не сыщешь нигде. О древности она, про Русь? Экий ты, читатель, в золотых яблоках гусь. Может про русских, какие некогда бывали? Но тех русских нигде и никогда не знавали. Те русские жили в отдалённые времена, им не знакомы с Ильменя племена. Не до Гардарик тем русским было, в окружении народов кочевых русское царство тогда жило. Владело богатствами, каких грекам сыскать не доводилось. Обладало силами, знание о коих пылью покрылось. Тогда случилась история в той чудесной стране, когда отправился Иван-царевич вдаль на коне. Искать отправился жар-птицу, золотых яблок воровку. Вот и ты, читатель, раз в оных сошёл за гуся, проявляй в знакомстве с заметкой сноровку.
Откуда Жуковский изыскал сюжета такого основу? Говорит, брал предания он за основу. А проще сказать — всё в виде единой сказки оформил. Оттого всё тут знакомо, будто не раз народ русский подобное молвил. Однако, подобные сказки — грань одного сюжета. Про него не так много песен в народе кажется спето. А Серый Волк — почитай за новину, ежели его не будь — сгинуть предстояло царёву сыну. Всё прочее — виденное порою в многих местах, о чём сказывать станешь, вскоре устав. Для пущего наполнения Баба Яга накормит и спать уложит молодца, дабы отправлялся на поиски Кощея яйца. Сам умрёт молодец, пав под ударом предательского братьев ножа, после поможет ему сперва мёртвая, потом живая вода. Змея о трёх головах он сможет победить, найдёт способ драчун-дубинку применить. Расстелить сможет скатерть-самобранку, использовать невидимую шапку-ушанку. Сюжетов всяких не перечесть полным числом, в одной сказке у Жуковского таковые найдём.
Что смутит — глупость главного героя. Всегда русский в сказках на дело идёт, могилу себе попутно роя. Как получается счастье обрести? Дуракам неведомы божьи пути! Достигает желанного не по праву — вопреки… Помогают друзья, они же — враги. Вот съел коня у царевича волк, какой из этого выходил путный толк? Ведь сказано было — пойдёшь туда, потеряешь коня. И пошёл Иван-царевич, животину словно не ценя. Мигом Серый Волк проявит свой нрав, съест разом коня, словно вины не сознав. Да вина к врагам русского героя приходит в положенный срок, понимает всякий враг — быть другом русских героев отныне сущность свою он обрёк. Будет помогать, куда не направляйся Иван, за коня теперь Серый Волк окажется сам. Он же будет обращаться в жар-птицу и даже, как ни странно, в красивую принцессу-девицу. Он же — плакать будет над убитым героем, огласит окружающее пространство воем. Он же — останется при Иване насовсем, хотя попрощаться с ним на веки успел перед тем.
Таков Жуковский, сказки бравшийся сочинять, сумевший нечто из старого на новый лад собирать. И вроде бы ничего толком не говорил, зато с широким размахом сказание преподносил. Вышел Иван-царевич на славу, и Серый Волк на славу вышел. В целом, подобной истории читатель в сказках прежде не слышал. Не помешает Баба Яга, вновь убит будет Кащей, хватило бы сказителям разных затей. Можно бесконечно героев отправлять на повторение одних и тех же геройств, не станет то причиной расстройств.
Всё-таки, читатель, как в золотых яблоках гусь, ради тебя созидалась подобная Русь. Вот он — герой, которого следует знать и с умом воспевать… Таким героем каждый русский желал и не перестанет быть желать.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Василий Жуковский «Кот в сапогах» (1845)
Сказок всем в мире известных — малое число. Например, про кота в сапогах разве не знает никто? Кот известен, сюжет сказки — не совсем. Сразу не припомнишь — прославился чем. Или вспомнишь? Может не обо всём. Теперь и с точки зрения Жуковского сказку прочтём. Всё такое же, каким после воплотить на экранах старание проявляли, почти ни в чём от сюжета поэта не отступали. «Кот в сапогах» — Шарля Перро творение, Василий из него сделал стихотворение. Опять же, стихотворением то называть весьма тяжело, говорило бы хоть нечто за него. Писал Жуковский, текст посередине страниц помещая, тем только вид поэзии стиху придавая. Да и не тот важен подход, и в таком виде всякий с радостью сказку прочтёт.
Славное нажил отец состояние: мельница и кот с ослом. Умирая, сыновей радовал сим добром. Старший получит дело жизни его, остальные не получат ничего. Разве осёл и кот — сытой судьбы залог? Хорошо среднему брату — ослиным мясом хотя бы голод отвлёк. А младшему каким образом быть? Котом не сможет себя прокормить. Пусть забирает сапоги и на все стороны света идёт… Что с ним, что без него, хорошего младший не ждёт. Да ведал ли кто, каким удачливым окажется кот в сапогах? А каким счастливым будет его владелец, царским зятем став…
Звали парня — Карабас. Тихим был его шепчущий глас. Ниже травы и тише воды, он бы под кустом сидел во время войны. С таким кашу не сваришь, выйдет пустой кипяток, но Перро предлагал извлечь из сказки некий урок. Получив в наследство кота, думал сын — досталась ерунда. С такой ерундой хоть крест на жизни ставь. А казалось — лучше крылья расправь. С каким треском обрушишься вниз, с тем же успехом будешь маркиз. Требовалось малое — дать волю коту, тот возвысит твою простоту. Не обыкновенный кот достался, который под лавкой мышей сторожит, этот охотиться и на людоедов страшных привык.
В какой стране всё происходило? В каких краях животное к царю ходило? Носило снедь, добытый в поле улов… ещё и обладало необычным для него даром слов. Кролика добудет, сразу на царский стол лично носил, пока его хозяин голодным дни в тоске проводил. Перепёлок изловит — туда же, к царю. Без утайки заявляя лично: дарю! Таким котом был, обычным для тех времён. Вполне понятно, почему царь казался едва не влюблён. Оставался сущий пустяк, оженить на царской дочери хозяина как.
Может сказка о том, как из топора кашу получается сварить? Не имея ничего, сможешь желаемое ты получить. Разве топор роль в варении каши сыграл? На вкус каши никак не влиял. Но без топора солдату из сказки без горячей еды предстояло остаться, а с топором — все рады для такого варева стараться. Примерно схожий с «Котом в сапогах» сюжет, когда добывается великое, к чему доступа вроде бы нет. Скажут крестьяне — владения Карабаса кругом. Пусть и ехал царь в царстве своём. А чей тот замок, с виду ужасный? И там Карабас будет причастный. Хотя, царь тем замком вроде бы в общей доле владел, да Перро на такие мелочи вовсе не глядел. Важно иное, хозяин кота, будучи безземельным и вовсе не маркизом, останется в окончании сказки с правом владеть здешним миром. Такой уж сюжет измыслил писатель-француз! Всё-таки, в колоде карт тоже не единицей считается туз.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Василий Жуковский «Спящая царевна» (1831)
Просто сказать, как есть показать, братьев Гримм перещеголять, к Шарлю Пьеро благодарность послать, сочинить сюжет на схожую тему, поднять вековечную проблему, подготовив на русской почве замену, преодолеть из пренебрежения людского стену. Ведь сказка о царевне спящей, кажется в едином образе вящей, для сказителей неизменно ледащей, но западной — ни в чём не нашей. Про девушку, уколовшую палец веретеном, забывшуюся вековечным сном, живущую отныне одним днём, чьего пробуждения столетия ждём, к которой придёт принц с желанием пробудить, уста к устам девицы прислонить, к жизни ото сна пробудить, мужем отныне для царевны той быть. Как не понимай, сюжет имеет право на трактовку, проявил в оной Жуковский сноровку, проведя краткую ознакомительную подготовку, а читатель — конечно же — севший слушать в изготовку.
Дело было давно, когда не жил из нас никто, о чём поведать легко, жило злое существо. Оно праздник испортить замыслить пожелало, о том страстно мечтало, заготовив острое жало, вонзить иглу в палец царевны ожидало. Как было тогда? Была в царстве беда: не имела детей царей чета, и не думала иметь уж никогда. Но случилось счастье, вёдром сменилось ненастье, отяжелела в одночасье, сбылось дело брачье. К царице подполз рак, подал царской особе знак, и стал ясен тогда зрак, не бесплодным вышел брак. Радости не имелось конца, ожидал царь юнца, юницу царица ждала для венца, не сходила улыбка с лица. Созваны гости, пусть воспримут царёву радость, разделят истомившую сладость. Кто же знал, какую сотворит гадость… злое существо, покусившись на младость.
Не позвал царь из чародеек одну, та испустила злобу свою, дабы познал властитель проступка цену, померкнет свет в очах дочери к определённому дню. Должна умереть царевна, о веретено палец уколов, отныне закон суровой правды таков, не бывать иному — урок жизни готов, но пожелала иная чародейка снов. Не умрёт царевна: заснёт! Триста лет так она проведёт, в сон всё царство с нею отойдёт, пока принц её в глухом лесу не найдёт. Так должно быть — другому не бывать, да не готовил царь для дочери кровать, швеям приказал он царство покидать, судьбу пытался отдалять. И как бы не слагалось время, отягощённым сталось бремя, заснёт в срок нужный царя племя, пока не звякнет юноши в пределах царства стремя.
Шли годы, третье столетие сменялось, царство лесом покрывалось, от глаз людских скрывалось, никому не покорялось. Кто шёл в тот лес, погибал. Потому каждый в окрестностях знал, туда никого не пускал, ибо тем на смерть обрекал. Знали люди легенду, её в сердце храня, передавала из поколения в поколение молва, ибо слишком манящей казалась цена, царём ощутит счастливец себя. Кто пройдёт лес, прикоснувшись к губам царевны, к тому не будут больше боги гневны, сказания о том излишне древни, лишь вести о смельчаках бывали скверны.
И вот явился принц, посланник судьбы, дитя трёхсотлетней борьбы, порождение очередной людской войны, чьи годы не станут горьки. Он пройдёт лес, отыщет застывшую вне времени девицу, найдёт рядом уколовшую палец спицу, не заметит на горизонте блеснувшую зарницу, пробуждая от сна юную царицу. Очнётся в тот миг царство, словно в забытье не впадало, будто не кололо палец девицы веретена жало, ничего людей спавших не поменяло, только счастьем лицо принца сияло.
Сказал ли новое Жуковский? Не сказал. А ждал ли кто того? Не ждал, и мнения о творчестве Василия не поменял, с чистым сердцем старание поэта в России человек принял.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Василий Жуковский «Сказка о царе Берендее» (1831)
Есть мудрые про сказку слова, будто сказка мудростью полна, явно лживая по содержанию притом, даёт наставление полезное потом. Иной сказке только бы показать сюжет, в чём смысла не было и нет. И вот Жуковский, вступая в поэтический с Пушкиным спор, породил творение, не заслужив от современников укор. Дивно это — показать Русь былую: не видел русский человек страну такую. Волшебством переполнялись события тех дней, страдали люди от злокозненных старцев и их затей. Так и Василий, взяв за основу некие части древних сказаний, породил сам то, чему быть среди чудесных преданий, да без полезного урока для молодцов, скорее следует говорить про слаженный строй вместе поставленных слов.
Жил царь Берендей, с женою жил — не будучи годы один, и проводил дни в делах, его голова уже полнилась от седин, лишь печаль брала царя, ибо не родила жена детей. Не знал царь, как избавиться от бесплодия цепей. На походы ходил, однажды попав в неприятность, сила волшебная его заманила, покушаясь на пленника знатность, притянув за бороду царя ближе к воде, тот пил, истомившись жаждой втройне. Заставила сила такое пообещать, чего царь ещё не мог знать. Ведая всё, о тайнах не подозревая, освобождения от злодея желая, царь дал обещание выполнить уговор, понимая, иначе утопит в воде его злодейский взор. Не знал царь о простом, возвращаясь из похода, покуда не узнал — ждёт его продолжение рода. Тут бы кручиниться в тоске небывалой, но не шёл злодей за наградой.
Тем злодеем Кощей бессмертный был, его к чаду царскому зачем-то разгорелся пыл. Без объяснения, ибо сказка не даст того понять, стал Кощей взросления сына царского ждать, и когда тот достиг полагающихся годин, явился к нему Кощей, когда тот остался один. Рассказал о необходимости покинуть отчий дом, быть слугою Кощея царевич обречён. Прознает о том Берендей, тогда и одолеет тоска, а сын его успокоит… была не была. И пойдёт царевич с горем поквитаться, не зная, оставляет сиротою собственное царство, коли не вернётся в положенный час, сгинет навсегда с человеческих глаз.
Появится в сюжете девица — младшая Кощеева дочь, кого не страшит самая тёмная ночь. Сия девица — одна из тридцати сестриц, чьих не различишь из-за сходства лиц. Она умела обращаться в созданий разных, хоть в пчелу, хоть в реку способная обратиться, и делала так, по какой цели неясной, может, чтобы царевич решил сам на ней жениться. Быть беде, не помогай она сыну царёву во всём, о чём в сказке сей мы прочтём. Когда побегут, Кащей за ними гнаться служек заставит, сам себя их нерасторопностью бессмертный ославит.
Другой вопрос, возникающий непременно. Почему к царевичу читатель относится гневно? Ему указывали, каким образом поступить, он же решал, будто по иному должно быть. Все проблемы, встававшие на его пути, царевич мог без затруднений обойти. Он же, словно пресловутый Иван-дурак, всё делал не так. Говорили, чтобы спешил, тогда он с места не сходил, а велели обождать, предпочитал тогда царевич ход ускорять. Могли попросить головы не поднимать, чего не мог царевич понять, а ежели нужда имелась громко о чём-то заявить, не мог и слова он огласить.
Посему, прочтя сказку сию, с в самую малую меру увлекательным сюжетом, отставим её в сторону, не удовлетворившись Жуковского о пользе ответом.
Автор: Константин Трунин
» Read more
Сказка о царе Берендее
Автор: Жуковский В.А.
Слушать аудиосказку: Аудиоверсия на WEB-SKAZKI.RU
Читать сказку: Текст произведения на WEB-SKAZKI.RU
Василий Андреевич Жуковский Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче,
охитростях Кощея бессмертного и
опремудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери
Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года Был он женат и жил в согласье с женою; но все им Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нужда случилась царю осмотреть свое государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно…
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился Сам объехать все поле: авось попадется на счастье Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик Стал на место, хвать его разом справа и слева Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность Выплыл, как будто ни в чем не бывало. «Постой же! (подумал Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула
Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он Голову хочет… ан нет, погоди! не пускают; и кто-то Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» — кричит он.
Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:
Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;
Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».
Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю Все!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».
«Ладно! — опять сиповатый послышался голос.- Смотри же,
Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».
С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,
Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей Рядом первый министр; на руках он своих парчевую
Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный как светлый
Месяц, в пеленках колышется. Царь догадался и ахнул. «Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал.
Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,
Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко Царь был печален — он все дожидался: вот придут за сыном;
Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич Рос не по дням — по часам; и сделался чудо-красавец.
Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,
Вовсе забыл… но другие не так забывчивы были.
Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую Чащу заехал один. Он смотрит: все дико; поляна;
Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, — сказал он.
Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить». «Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после; теперь же Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,
Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось Время. Он сам остальное поймет. До свиданья». И с этим Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич В крепкой думе поехал обратно из темного леса.
Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит. «Батюшка царь-государь, — говорит он, — со мною случилось Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.
Царь Берендей побледнел как мертвец. «Беда, мой сердечный Друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько заплакав.
Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель,
Так отвечал Иван-царевич, — беда невелика.
Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;
Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,
Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые Латы, меч и коня вороного; царица с мощами Крест на шею надела ему; отпели молебен;
Нежно потом обнялися, поплакали… с богом! Поехал В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет
День он, другой и третий; в исходе четвертого — солнце Только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;
Все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый Берег и частый тростник — и все как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль Слез Иван-царевич с коня; высокой травою Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют.
Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли
Кберегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
Кбелым сорочкам, оземь ударились, все обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет…
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне Платье мое, я сама тебе пригожусь». Он с нею Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и, краснея,
Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,
Голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй,
Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;
Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным
Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,
Прямо к нему поползи; затопает он — не пугайся;
Станет ругаться — не слушай; ползи да и только; что после Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась
Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.
Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он Весь из карбункула-камня и ярче небесного солнца Все под землей освещал. Иван-царевич отважно Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;
Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени Стал Иван-царевич. Кощей ж затопал, сверкнуло
Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;
Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, — сказал он,
Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим
К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;
Ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался Там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул.
«Ну, Иван-царевич, — сказал он, — теперь мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять… головы не удержишь!» «Ах ты, Кощей окаянный, — Иван-царевич подумал,
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла — и слышит он голос: «Впусти!» Отворил он Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чем ты Так призадумался?» — «Нехотя будешь задумчив, — сказал он.
Батюшка твой до моей головы добирается». — «Что же Сделать решился ты?» — «Что? Ничего. Пускай его снимет Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». «Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;
Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен
Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену».
Так все и сделалось. Утром ни свет ни заря, из каморки
Вышел Иван-царевич… глядит, а дворец уж построен.
Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;
Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку,
Так он сказал Ивану-царевичу, — вижу, ты ловок На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.
Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.
Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь С плеч голова. Поди». — «Уж выдумал, чучела, мудрость,
Думал Иван-царевич, сидя под окном. — Не узнать мне Марью-царевну… какая ж тут трудность?» — «А трудность такая.
Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши, — что если Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью
Может нас различать». — «Ну что же мне делать?» — «А вот что:
Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,
Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаковом Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник,
Молвил Кощей, — изволь-ка пройтиться три раза мимо Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он
Воба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит
Впервый раз — мошки нет; проходит в другой раз — все мошки
Нет; проходит в третий и видит — крадется мошка,
Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!» — сказал он Кощею, подавши Руку красавице с мошкой. «Э, э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто, — Кощей проворчал, на царевича с сердцем Выпучив оба зеленые глаза. — Правда, узнал ты Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты же, покуда Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только Знай наперед: не сошьешь — долой голова; до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,
Милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле Будешь задумчив, — он ей отвечал. -Отец твой затеял Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много
Этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же ты будешь Делать?» — «Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану.
Снимет он голову — черт с ним, с собакой! какая мне нужда!» «Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого
Поэт, переводчик. Один из основоположников романтизма в русской литературе.
Родился в селе Мишенском Тульской губернии. Сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и его крепостной, пленной турчанки Сальхи, которая в 16 лет уже была вдовой. В России Сальха выучила русский язык и приняла крещение с именем Елизавета Дементьевна. Фамилию и отчество Жуковский получил от друга Бунина Андрея Григорьевича Жуковского. Жена Афанасия Ивановича Мария Григорьевна приняла в свою семью незаконнорожденного ребенка и воспитывала как родного сына.
Образование получил в московском благородном пансионе Роде и в Главном народном училище Тулы, откуда был исключен за неуспеваемость. С 1797 по 1800 г. учился в Московском благородном пансионе, по окончании которого служить не стал, а поселился в селе Мишенском для занятия самообразованием. Изучал древнерусскую литературу, русскую и всеобщую историю, занимался переводами. В 1801-1802 гг. служил в Соляной конторе.
Литературную деятельность Жуковский начал в 1797 г., еще учась в пансионе. В 1802 г. в «Вестнике Европы» был помещен его перевод произведения Грея «Сельское кладбище, обративший на себя внимание литературной общественности. В 1808 г. вышла из печати его знаменитая баллада «Людмила», положившая начало романтизму в русской литературе. В этот же год Жуковский стал редактором журнала «Вестник Европы».
В 1812 г. со вступлением французских войск на территорию России, вступил в ополчение, где продолжал свои литературные занятия и написал балладу «Светлана», имевшую большой успех. В начале 1813 г. поэт заболел тифом и вышел в отставку.
В 1817 г. Жуковский был приглашен ко двору для преподавания русского языка великой княгине Александре Федоровне, жене будущего императора Николая I. С 1824 г. был воспитателем наследника престола Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Со своим воспитанником поэт объездил всю Россию, часть Сибири и Западную Европу. Современники говорили, что влияние Жуковского на цесаревича было благотворным.
Один из ближайших друзей А.С. Пушкина, которого знал еще ребенком.
С 1841 г. жил в Германии, в связи с расстроившимся здоровьем. Помимо поэзии Жуковский занимался рисованием, запечатлев пейзажи Швейцарии, Германии, Италии, Крыма.
В 1812 г. просил руки своей племянницы Марии Протасовой, в которую был безнадежно влюблен, но дважды получал отказ. В 1841 г. в возрасте пятидесяти восьми лет женился на 18-летней дочери живописца Евграфа Романовича Рейтерна Елизавете. Имел сына Павла – живописца; и дочь Александру, фрейлину, замужем за Верманом.
К концу жизни ослеп. Умер в Баден-Бадене. Похоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.
Российский писатель, поэт, переводчик Василий Андреевич Жуковский родился 9 февраля 1783 года. Известность пришла к творцу благодаря переводам и сказкам «Спящая царевна», «Сказка о царе Берендее».
О рождении Василия Жуковского слагают легенды. Известно, что родителями талантливого писателя были секунд-майор и помещик Орловской, Тульской, Калужской губерний Афанасий Иванович Бунин и турчанка Сальха, которая после крещения получила имя Елизавета Дементьевна Турчанинова. В исторических справках сказано, что мужчина состоял в браке с Марией Григорьевной Буниной. Но союз не принес наследника помещику. Это стало причиной измен с наложницей Турчаниновой. Девушка подарила желаемого сына Бунину.
Андрей Григорьевич Жуковский усыновил мальчика, несмотря на то что при дворе знали, кто отец Василия. Отчим был из обедневших киевских помещиков. Историк литературы И. Ю. Виницкий считает, что ситуация с рождением наследника была более сложной, нежели представляют в многочисленных биографиях писателя.
В 2-летнем возрасте Василий по требованию отца Бунина стал сержантом Астраханского гусарского полка. Через 4 года объявили о выдаче Жуковскому нового чина – прапорщика. Вскоре после этого юного солдата отправляют в отставку. В 1789 году к мальчику приезжает учитель Еким Иванович. К сожалению, должного педагогического навыка у немца не было, поэтому обучение на себя взял приемный отец Андрей Жуковский.
Через год семья Буниных перебирается в Тулу. Незамедлительно к Василию приглашают учителя Покровского. Педагог в то время слыл литератором и поклонником классицизма. Но неугомонный характер Жуковского привел к тому, что Покровский отказался работать с молодым человеком. Отцу Василия учитель заявил, что талант у парня отсутствует, поэтому смысла в обучении нет.
Наследство Афанасия Бунина после его смерти перешло дочерям. Жуковскому досталось 10000 рублей. По тем временам это была значительная сумма. Еще год после кончины отца Василий посещал пансион Роде, затем сдал экзамены для поступления в Главное народное училище. Спустя несколько месяцев учебы в заведении Жуковского выгоняют за неспособность постичь науки.
Василий принимает решение о переезде к сводной сестре Варваре Юшковой. На территории усадьбы молодой женщины располагался домашний театр. Здесь Жуковский впервые осознал, что хочет стать драматургом. В 1794 году писатель создает первую трагедию по сюжету «Камилл, или Освобожденный Рим». Позже из-под пера Василия появляется мелодрама, в основе которой лежит роман «Поль и Виргиния».
Домашнее образование не могло дать необходимых знаний Жуковскому, поэтому сводная сестра определяет Василия в Московский университетский пансион. На экзамене поэт продемонстрировал высокий уровень владения французским и отчасти немецким языками. Комиссия пансиона оценила по достоинству знания литературы. В университете Жуковский подружился с Андреем Тургеневым. Молодой человек значительно повлиял на дальнейшее творчество писателя. В пансионе Василий Андреевич пишет первые стихотворения, в числе которых «Майское утро».
Литература
Творческий путь Василия Жуковского был тернист и непрост. Зарабатывать на жизнь поэзией или прозой писатель не мог, поэтому брался за переводы. Талант Жуковского на этом поприще высоко оценивали современники, в том числе Платон Бекетов, владелец крупнейшей типографии. Еще в Московском университетском пансионе Василий Андреевич познакомился с , который стал учителем и наставником для Жуковского на долгие годы.
Реформатор русского литературного языка считал своим долгом критиковать творчество подопечного. Но Карамзин не забывал и о похвале. Учитель всегда подмечал удачные высказывания и обороты, используемые Жуковским в работах. С 1808 по 1820 годы поэт находился в романтическо-художественном поиске.
Это ярко проявляется в балладах того времени, к примеру в «Людмиле». Интересно, что произведение является творческим переводом работы немецкого поэта Г. А. Бюргера. В «Людмиле» Жуковский раскрывает лирические настроения, присутствующие в его жизни.
4 года потребовалось Василию Андреевичу на создание баллады «Светлана». В основе стихотворения лежит «Ленора», созданная Г. А. Бюргером. Произведение отличается от «Людмилы» жизнерадостностью и весельем. Друг Жуковского высоко оценил работу мастера.
Неотъемлемой частью жизни Василия Жуковского оставались переводы. Поэт обладал природным даром, который позволял ему переводить лучшие стихи, баллады мировой литературы. Василий Андреевич полно раскрыл традиционную немецкую сказочность и передал волшебство стихотворения «Лесной царь» во время перевода на русский язык.
Жуковскому нравилось творить, поэтому писатель часто переводил произведения известных поэтов, но при этом не забывал о собственном творчестве. В 1822 году Василий Андреевич знакомит общество с элегией, созданной в духе романтизма, – «Море». Автор словами передал свое восхищение красотой, которая окружает людей. Позже Жуковский приступил к переводу баллады «Кубок», созданной И. Шиллером. Переводчик трудился над работой 6 лет. В те времена не было нужды в дословном пересказе – достаточно было передать смысл, ощущения, эмоции произведения.
Время от времени Василий Жуковский помогал детям постигать науки, в том числе литературу. Тесное общение с мальчиками и девочками разных возрастов подтолкнуло к написанию сказок. Около 30 лет потребовалось Жуковскому на создание семи сказок, которые и по сей день остаются популярными среди взрослых и малышей. В числе творений Василия Андреевича «Красный карбункул», «Сказка о царе Берендее», «Спящая царевна», «Война мышей и лягушек», «Тюльпанное дерево», «Кот в сапогах», «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке».
В сказках Жуковский предпочитал идти на яркие эксперименты. Писатель применял изобразительно-выразительные средства языка, играл со стихотворными размерами. Василий Андреевич увлекался нереальными, таинственными и отчасти страшными мирами, которые ярко проявлялись в творчестве Тика, Новалиса и Гофмана. Это отражалось в сказках Жуковского.
Иногда возникал интерес у писателя к национально-поэтическому направлению. Творец пытался объединить таинственность Европы и местный фольклор в книгах сказок. За год до смерти Жуковский пишет два волшебных стихотворения «Котик и козлик» и «Птичка». Автор посвятил работы дочери и сыну.
Наставник царской семьи
Василий Андреевич Жуковский поступает на службу к царской семье в 1815 году. В течение двух лет литератор трудился чтецом матери-императрицы . Следующие 25 лет писатель проведет на придворной службе. Фото того времени практически не сохранились.
В 1817 году Жуковский приступает к педагогической деятельности. Педагог обучает русскому языку и литературе жену — , позже уроки Василия Андреевича посещает супруга Михаила Павловича Елена Павловна. Жуковский постепенно расширял кругозор подопечных, включая в программу обучения философию, историю, педагогику и эстетику.
Опыт, знания позволили Жуковскому продвинуться по карьерной лестнице. Василия Андреевича назначили наставником цесаревичей. С этого времени автор сказок, стихотворений и баллад стал руководителем воспитателей и учителей, трудящихся в царской семье. Жуковский признавался, что на новой должности он мог «творить добро».
Карьера наставника цесаревича подразумевала ответственность перед маленьким мальчиком и большим государством, поэтому учитель читает и перечитывает художественную, педагогическую, философскую литературу. Первые занятия с цесаревичем прошли осенью 1826 года. К этому времени Жуковский подготовил библиотеку наследнику престола и разработал план обучения, дневное расписание, которое одобрил царь.

Василий Андреевич отвечал за русскую грамматику, физику, историю человека, историю и географию. Уроки, которые вели другие преподаватели, не оставались без внимания Жуковского. Писатель давал учителям рекомендации, как лучше преподавать тот или иной предмет. Василий Андреевич хотел видеть на русском престоле образованного царя, поэтому ко двору приглашал ученых. У Жуковского было свое видение будущего правителя. Цесаревич должен стремиться к образованности, но забывать о душевности нельзя.
«Где правитель любит народное благо, там и народ любит власть правителя», — утверждал Василий Андреевич.
В течение 12 лет наставник обучал наследника престола, только когда цесаревич стал совершеннолетним, официально работа при дворе для Жуковского завершилась. На прощание князь получил подарок от педагога – «образовательное путешествие». Будущий правитель вместе с Жуковским отправился в поездку по городам России и странам Западной Европы.
Василий Андреевич самостоятельно составил маршрут, во время поездки по которому цесаревич познакомился со своим государством. Тем временем в 1841 году отношения царского двора и Жуковского накалились до предела. Писатель получил отставку и уехал в Германию.
Личная жизнь
В 56-летнем возрасте Василий Жуковский познакомился с 17-летней Елизаветой Евграфовной Рейтерн. С первого взгляда романтичный писатель влюбился в юную девушку, но отец, который был другом Василия Андреевича, высказал протест женитьбе. Жуковский не желал отступать, поэтому через год вновь сделал предложение Елизавете. Влюбленная дама дала положительный ответ.
В 1841 году в Дюссельдорфе состоялось заключение союза. К сожалению, брак оказался непростым. Елизавета постоянно болела, была подвержена нервным срывам. Частые выкидыши не позволяли исполнить мечту Жуковского о детях. Но через год после свадьбы в семье появилась девочка Александра. Еще через три года – мальчик Павел. Из-за недомоганий супруги пожилому мужчине пришлось взвалить на себя все обязанности по дому и воспитанию детей.
Дети Жуковского не стали писателями. Александра Васильевна состояла в морганатическом браке с князем Алексеем Александровичем, но позже союз распался. Жуковская подарила ему единственного сына. Позже девушка вышла замуж за барона и стала баронессой Верман.
О Павле Васильевиче известно немало. Ему покорилась кисть художника, но полотна были не единственной страстью сына Жуковского. Мужчина стал инициатором организации Белевского краеведческого музея, разрабатывал проект здания Музея изобразительных искусств в Москве.
Смерть
Василий Андреевич Жуковский долгое время проживал в Баден-Бадене. В 1851 году к нему пришла болезнь. Один глаз писателя перестал видеть, поэтому творцу рекомендовали проводить больше времени в темной комнате. Несмотря на проблемы со здоровьем, Василий Андреевич страстно желал вернуться на родину – в Россию. Поддерживали в этом писателя Чаадаев и .
14 июля 1851 года семья Жуковских должна была отправиться в путь, но этого не произошло, так как у мужчины воспалился глаз. Самостоятельно писать и читать Василий Андреевич не мог. Литератору помогали супруга и камердинер. Состояние здоровья Жуковского стремительно ухудшалось, поэтому автор стихов и баллад просит приехать в Баден Вяземского.
Окончательно слег Василий Андреевич после смерти Гоголя. А 12 апреля 1852 года не стало самого писателя. Автор сказок «О царе Берендее» и «Спящей царевне» был похоронен в специальном склепе, на стенах которого высекли строчки его стихотворений. Зная любовь писателя к России, в августе 1852 года камердинер перевозит прах Жуковского в Петербург. Сейчас могила поэта, переводчика и учителя находится на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, недалеко от могилы Н. Карамзина.
Библиография
- 1808 – «Людмила»
- 1812 – «Светлана»
- 1818 – «Лесной царь»
- 1822 – «Море»
- 1825-1831 – «Кубок»
- 1831 – «Спящая царевна»
- 1831 – «О царе Берендее»
- 1845 – «О Иване-царевиче и Сером Волке»
- 1851 – «Котик и козлик»
- 1851 – «Птичка»
Знаменитый русский поэт Василий Андреевич Жуковский родился в 1783 году в селе Мишенском, Белевского уезда, Тульской губернии. Отец его был помещик Афанасий Иванович Бунин (из этой же семьи происходил и литератор XX века Иван Бунин), мать – пленная турчанка Сальха (в крещении – Елизавета Дементьевна Турчанинова). Фамилию свою Жуковский получил от своего крестного отца, бедного белорусского дворянина, жившего в доме Буниных.
Старший сын Бунина умер, и Жуковский был единственным мальчиком среди старших сестер и племянниц, которые были только немного моложе его. Воспитание среди женского общества, баловство, ласка, общая любовь, положили отпечаток на мягкую, нежную душу будущего поэта. Учение свое он начал в Тульском народном училище, но учитель его не понял и не сумел оценить исключительных дарований своего ученика, а только сердился на неспособность мальчика к математике. В 1797 году Жуковский поступил в Благородный Пансион при Московском университете. Отец Жуковского поручил своего сына директору Московского университета И. П. Тургеневу, бывшему членом Новиковского кружка. В доме Тургенева Жуковский познакомился с многими выдающимися людьми того времени; познакомился с Карамзиным, Дмитриевым . Жуковский очень полюбил семью Тургеневых, особенно близко сошелся с одним из сыновей, Андреем. В Благородном Пансионе определились взгляды Жуковского, развились его способности и дарования. Учителя Пансиона всячески поощряли литературные вкусы и занятия учеников, которые устраивали между собой литературные состязания и издавали рукописный журнал. Жуковский скоро стал во главе этого литературного кружка; 14-ти лет, на акте пансиона, он прочел оду собственного сочинения – «На благоденствие России». В оде этой чувствуется сильное влияние Ломоносова , Державина , самостоятельного мало, но уже видно легкое перо Жуковского, видны его несомненные литературные дарования.
Орест Кипренский. Портрет Василия Андреевича Жуковского, 1815
Главное, что вынес Жуковский из Благородного Пансиона, было знание иностранных языков и знакомство с важнейшими произведениями иностранной литературы, но в общем образование, полученное им за 3 года в пансионе, было скорее поверхностное, хотя и многостороннее. Впоследствии ему пришлось чтением пополнять пробелы своего образования.
По окончании Благородного Пансиона, в 1801 году, Жуковский поступил на службу в Соляную контору в Москве, но прослужил недолго, так как служба его совсем не интересовала. В этом же году бывшие ученики Благородного Пансиона образовали «Дружеское Литературное Общество», на котором еще отразились черты Новиковского кружка. Члены общества стремились к самосовершенствованию, поддерживали «культ дружбы» (типичная черта сентиментально-романтической эпохи), развивали свои литературные взгляды и вкусы. Через несколько лет все члены «Дружеского Общества», – Жуковский, кн. Вяземский , А. Тургенев, Воейков, Блудов, Мерзляков и др. вошли в состав «Арзамаса ».
Василий Андреевич Жуковский. Видеофильм
Выйдя в отставку, Жуковский поселился в деревне, в своем родном Мишенском, где он всецело отдался чтению и литературным занятиям. К этому времени можно отнести настоящее начало его поэтической деятельности. В 1802 году он написал элегию «Сельское кладбище », которая была напечатана в «Вестнике Европы» Карамзина и сразу обратила на себя внимание читающей публики.
Проведя некоторое время в Мишенском, Жуковский переехал к своей замужней сестре, Е. Протасовой, которая поселилась в городе Белеве, в 3-х верстах от Мишенского, со своими дочерьми, Марией и Александрой. Жуковский, который был всего на несколько лет старше своих племянниц, взялся давать им уроки словесности и литературы. Годы, проведенные в семье Протасовых, тихая жизнь провинциального городка, литературные занятия и беседы с милыми девушками, были может быть самым счастливым временем жизни Жуковского. Скоро он осознал, что глубоко полюбил свою старшую племянницу, Марью Андреевну. Чувство это, нежное, светлое и глубокое положило отпечаток на все творчество Жуковского. Понимая, что брак между дядей и племянницей невозможен, Жуковский решил уехать из Белева. Всеми силами он старался побороть зародившееся в душе его чувство.
«Ты цветешь во цвете дня,
Ты цветешь не для меня…»,
писал он в одном из своих прелестных лирических стихотворений.
Поселившись в Москве, Жуковский взял на себя издание журнала «Вестник Европы», надеясь работой заглушить свое чувство. В «Вестнике Европы» были напечатаны многие произведения самого Жуковского, – повесть «Марьина роща» (напоминающая «Бедную Лизу » Карамзина), баллада «Людмила », доставившая Жуковскому известность, некоторые критические статьи.
Но ни разлука, ни время, ни литературные труды не могли победить чувства Жуковского к Маше Протасовой, и через 3 года, в 1811 году он вернулся в Мишенское, передав «Вестник Европы» в другие руки. Он был уверен, что Маша тоже его любит, и решился просить Е. А. Протасову согласиться на их брак, указывая на то, что он только ее полу-брат. Но Протасова наотрез ему отказала и разрешила видаться с ее дочерью только под условием, что он никогда не будет говорить Маше о своем чувстве. Через некоторое время она потребовала, чтобы Жуковский совсем уехал из Мишенского, так как в одном из его стихотворений («Пловец») она увидала намек на его чувство к дочери. Жуковский был в отчаянии, но покорился и уехал. Это было в 1812 году. Вся Россия была в это время охвачена патриотическим подъемом Отечественной войны . Жуковский записался в Московское ополчение. Он не участвовал в Бородинском бою , так как был в резерве, но близко переживал Бородино и пожар Москвы.
После отступления французской армии, в Тарутине Жуковский написал стихотворение «Певец во стане русских воинов» (см. полный текст , краткое содержание и анализ), которое в свое время пользовалось огромным успехом и доставило Жуковскому славу. Но литературная слава не радовала его. Он не мог забыть любимой девушки, хотя принимал с чисто христианским смирением посланное ему испытание. Несмотря на горе разлуки, светлое настроение никогда не покидало его: – «Много хорошего есть в жизни и без счастия», – говорит он в одном из своих писем этого времени.
Жуковский составил план воспитания цесаревича Александра Николаевича на 12 лет. Он выбирал для него преподавателей по разным предметам, а сам преподавал русский язык, литературу и главное руководил всем воспитанием наследника. Главное внимание Жуковский обращал на воспитание сердца
своего ученика, который в будущем должен был стать царем России. В своем послании к Великой княгине Александре Федоровне по случаю рождения наследника, Жуковский высказывает пожелание, чтобы наследник, будущий царь, никогда не забыл бы: «…святейшего из званий: человек
». Он должен –
Жить для веков в величии народном,
Для блага всех
– свое позабывать.
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать.
Жуковский старался передать своему воспитаннику свое собственное христианское мировоззрение, развить в нем гуманное отношение к людям. Можно с уверенностью утверждать, что влияние Жуковского во многом сказалось в гуманных реформах Царя-Освободителя .
Жуковский горячо полюбил своего воспитанника, который также на всю жизнь сохранил к нему сердечную привязанность.
Василий Андреевич Жуковский. Портрет работы К. Брюллова, 1837
Несмотря на свою службу при царевиче Александре Николаевиче, Жуковский урывками занимался литературой. За этот период он написал «Ундину », несколько сказок и лирических стихотворений.
В 1837 году умер Пушкин. Жуковский тяжело перенес это горе, как утрату всей России и как личное горе близкого друга. Узнав, что Пушкин тяжело ранен на дуэли, Жуковский поспешил к нему и последние дни и часы поэта провел около его кровати. Уже после похорон Жуковский написал письмо Сергею Львовичу Пушкину, отцу поэта, описывая ему подробно последние часы жизни его сына. Это письмо, написанное со всей искренностью и горячим чувством, на какие был способен Жуковский, можно отнести к лучшим его произведениям.
Воспитание наследника Александра Николаевича закончилось большим путешествием сперва по России, затем за границей; Жуковский сопровождал своего воспитанника. В 1841 году образование цесаревича было окончено, и Жуковский, щедро награжденный, вышел в отставку.
В этом же году он женился в Германии на дочери своего друга, живописца Рейтерн. Ему было 58 лет, его невесте, Елизавете Рейтерн – 18… Это была поэтичная, мечтательная девушка, что-то в ее образе несомненно напоминало Машу Протасову. На старости лет осуществилась всегдашняя мечта Жуковского о семейном счастьи. Конец своей жизни, 12 лет, он провел тихо и мирно со своей молодой женой и двумя родившимися у них детьми, дочерью и сыном. Единственное, что омрачило счастье Жуковского, это частые болезни его жены. Он не смог никогда вернуться в Россию, по которой, конечно, тосковал, но жена его не могла бы перенести русского климата. К концу жизни сам Жуковский начал страдать глазами и даже почти ослеп. Это не помешало ему в его литературных трудах, – он приобрел машинку и научился писать, не глядя. За последние 12 лет он написал очень много переводов, главным образом из народного эпоса. За этот период он перевел «Наль и Дамаянти» из индийского эпоса, «Рустем и Зораб» из персидской «Книги Царей» (Шахнаме), «Одиссею », над которой трудился 6 лет. К переводу Гомера он относился с каким-то священным трепетом. «Мне хотелось», пишет он, «заглянуть в перво-мир-поэзию, в этот потерянный эдем, в котором во время оно дышалось так легко и целебно. Гомер отворил мне заповедную дверь в него, и я пожил счастливо с его светлыми созданиями». Кроме того он перевел стихами «Слово о полку Игореве », величайшее произведение нашего народного эпоса.
В последние годы своей жизни за границей Жуковский очень сблизился с Гоголем . Их сближало одинаковое христианское, мистическое настроение.
Надгробие Жуковского в Александро-Невской лавре
Жуковский не боялся смерти и часто говорил: «Смерть – великое благо». Умер он тихо и мирно в 1852 году, 69-ти лет. Тело его было перевезено в Россию, в Петербург, и погребено в Александро-Невской лавре, рядом с Карамзиным.
Был внебрачным сыном богатого помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, попавшей в Россию в 1770 после взятия русскими войсками крепости Бендеры.
В Петербург Жуковский Василий Андреевич приехал в 1815 г.
Жуковский Василий Андреевич принимал деятельное участие в литературной жизни Петербурга, был активным членом и постоянным секретарем литературного общества «Арзамас».
У Жуковского Василия Андреевича на «субботы» собирались И. А. Крылов , А. С. Пушкин , Н. В. Гоголь , А. В. Кольцов и др.
В Петербурге были написаны многие произведения поэта, в которых он выступил как крупнейший представитель романтизма в русской поэзии («Двенадцать спящих дев», «Славянка», переводы из Дж. Байрона, Ф. Шиллера, B. Гете и др.).
В стихах и письмах Жуковского Василия Андреевича 20-30-х гг. содержатся описания столицы и ее пригородов.
С 1826 г., назначенный воспитателем наследника — Александра II , Жуковский Василий Андреевич жил во флигеле Зимнего дворца, т. н. «шепелевском доме» (не сохранился; участок нынешнего нового здания Эрмитажа).
Летние месяцы Жуковский Василий Андреевич обычно проводил в Царском Селе или Павловске , где жил во дворцах.
В 1840 вышел в отставку и с этого времени в Петербурге бывал лишь наездами.
Используя свое влияние при дворе, Жуковский Василий Андреевич неоднократно добивался смягчения участи представителей передового общественного движения, ставших жертвами правительственной реакции.
Благодаря его усилиям были облегчены условия ссылки Пушкина; настойчиво и не безуспешно ходатайствовал он за некоторых приговоренных декабристов, хотя и осуждал их восстание; позднее хлопотал за сосланного М.Ю. Лермонтова , содействовал освобождению из неволи Т. Г. Шевченко.
Фамилию и отчество поэт получил от усыновившего его бедного помещика Андрея Григорьевича Жуковского, проживавшего в семье Буниных. Детские годы при их внешнем благополучии были омрачены сознанием неравенства в семье отца, в которой мать будущего поэта находилась на положении служанки. Позднее он писал: «Я привык отделять себя от всех, потому что никто не принимал во мне особенного участия и потому, что всякое участие ко мне казалось мне милостью… Я был один, всегда один» (Дневник, Спб., 1903, с. 27).
Первоначальное образование Василия Андреевича началось у домашних учителей, затем учился в пансионате города Тулы и в народном училище, откуда он был вскоре отчислен за неуспеваемость.
Некоторое время жил в семье сестры Варвары Афанасьевны Юшковой, где продолжал учиться под руководством разных учителей и гувернанток. В семье Юшковых, глубоко почитавших произведения новейшей литературы, особенно Карамзина и Дмитриева, у него пробудились литературные интересы.
С 1797-1800 Василий Андреевич учился в Благородном пансионе при Московском университете (см. описание акта в «Московских ведомостях», № 103, декабря 26 дня 1800). Именно там началась литературная деятельность поэта и стали формироваться морально-философские и эстетические взгляды, на которых отразилось влияние боровшихся литературных направлений классицизма и сентиментализма, а также нравственные идеи конца XVIII века, в значительной степени явившиеся реакцией на французскую философию, подготавливавшую революцию 1789.
В годы учения поэт писал торжественные и философские оды в духе Державина и Ломоносова
«Добродетель», 1798;
«Герой», 1799;
«Мир», 1800;
«К Тибуллу», 1800, внутренне полемизируя иногда с их идеями, противопоставляя гражданским идеалам классицизма добродетель и человеколюбие эпохи предромантического сознания конца XVIII в.
Некоторые из стихотворений свидетельствуют об идейном влиянии карамзинского сентиментализма и его поэтики («Майское утро», 1797).
В эти годы его стихи печатались в журналах «Приятное и полезное препровождение времени», «Утренняя заря», «Иппокрена» и других. На развитие мировоззрения и литературных интересов поэта оказало воздействие не столько школьное преподавание в пансионе, сколько дружеское окружение. В котором главная роль принадлежала семье директора Московского университета и Благородного пансиона И. П. Тургенева. Горячего поборника просвещения XVIII века, видевшего смысл жизни в духовном развитии личности, в ее нравственном совершенствовании и служении добру. По окончании пансиона все реже в творчестве Василия Андреевича проявлялись традиции классицизма , уступая влиянию поэтических принципов Карамзина, чему в значительной мере способствовало участие поэта в организованном им совместно с Андреем Тургеневым и А. Мерзляковым «Дружеском обществе» (1801).
Поэт в это время изучает новую немецкую, английскую и французскую литературу (Шиллера, Гёте, Грея, Томсона, Юнга, Флориана, Парни, Мильвуа и других), переводит отрывки из
«Страданий молодого Вертера» (1801) Гёте,
роман Коцебу «Мальчик у ручья» (1801),
его комедию «Ложный стыд» (1801),
элегию Грея «Сельское кладбище» (начальный вариант — 1801),
«Вильгельма Телля» (1802) и другие.
Весной 1802, оставив службу в Московской соляной конторе, он поселился в селе Мишенском с намерением продолжить свое образование, глубоко заняться изучением немецкой и английской литературы и посвятить свою жизнь поэтическому творчеству.
В том же 1802 Василий Андреевич написал второй перевод элегии Грея «Сельское кладбище», тогда же появившийся в «Вестнике Европы» (№ 24) и поставивший его в ряд лучших русских поэтов. Год создания им этого произведения Жуковский считал днем рождения своей лиры. С этого времени он тесно сближается с Карамзиным, часто гостит у него в Кунцеве и сознает себя его учеником и сторонником сентиментализма.
С 1802-1807 написаны повесть «Вадим Новгородский» (1803), элегия «Вечер» (1806).
В 1805 он начал занятия со своими племянницами Протасовыми, к одной из которых — Марии Андреевне — испытал чувство глубокой любви, сделавшейся источником глубокого лиризма его любовных элегий, песен и многих баллад.
С 1808 Василий Андреевич в течение двух лет редактировал журнал «Вестник Европы», стремясь «под маской занимательного и приятного» содержания способствовать просвещению и нравственному воспитанию читателей. В журнале опубликовал свои песни:
«Тоска по милом» (1807),
«Мой друг, хранитель-ангел мой» (1808),
элегическое послание
«К Филалету» (1808),
«Людмила» (1808),
«Кассандра» (1809)
«Писатель и общество» (1808),
«О басне и баснях Крылова» (1809),
«О критике» (1809),
«О сатире и сатирах Кантемира» (1809).
В начале войны 1812 Жуковский вступил в ополчение. В день Бородинской битвы находился в резерве, недалеко от места сражения. После сдачи Москвы он перед сражением при Тарутине написал свой патриотический гимн, романтическую оду «Певец во стане русских воинов», которая впервые появилась в «Вестнике Европы» в декабре 1812.
В январе 1813 Василий Андреевич после болезни возвратился из армии в свои родные места (Муратово, Долбино Орловской губернии, Мишенское) с надеждой получить согласие у Е. А. Протасовой на брак с ее дочерью Машей. Но получив решительный отказ от ее матери, он после двухлетних колебаний окончательно утратил веру в возможность семейного счастья и, стараясь облегчить страдания любившей его девушки, уехал в Петербург, куда его давно звали друзья, чтобы принять место при дворе, где он приобрел известность как автор «Певца во стане русских воинов».
С сентября 1815 начинается период его придворной службы Жуковского В.А. в должности чтеца при вдове Павла I , императрице Марии Федоровне.
С 1826 воспитателя наследника, будущего царя Александра II . Последняя должность часто лишала его возможности заниматься литературой. Придворное положение Жуковского вызывало недовольство свободомыслящих его друзей, но оно не сделало его верноподданным поэтом самодержавия и человеком, оторванным от прогрессивных интересов общества. Он осуждал крепостничество как зло, противоречившее нравственному достоинству человека и общественной справедливости, выступал в защиту просвещения, против самодержавного произвола и охранительной реакционной литературы, которой стремился противопоставить литературу просвещенного дворянства, объединить лучших писателей страны (Пушкин, Гоголь, Вяземский, Баратынский , Д. Давыдов , В. Одоевский, Н. Языков и другие). Он добивался смягчения участи Пушкина, освобождения от солдатчины Баратынского, выкупа из крепостной неволи Т. Шевченко, освобождения из ссылки Герцена, освободил своих крестьян от крепостной зависимости. Все это вызывало у придворной клики и самого Николая I недоверие к поэту, в котором он видел главу либеральной партии в России. Известно, что Николай I в ответ на готовность Жуковского поручиться за И. Киреевского, издававшего журнал «Европеец», ответил: «А кто за тебя поручится?» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 4, Спб., 1891, с. 10).
Глубокий гуманизм и прогрессивный образ мыслей сближал Василия Андреевича с лучшими людьми России и передовой литературы, одним из зачинателей которой он был на заре XIX века. В литературной борьбе 10-х гг. поэт находился в лагере карамзинистов и был одним из активных членов общества «Арзамас» (1815), в котором занимал почетное место секретаря. Как крупнейший поэт нового направления, он сделался предметом ожесточенных нападок со стороны эпигонов классицизма, консервативных писателей «Беседы любителей русского слова», выступавших против его баллад
«Светлана»,
«Варвик»,
«Алина и Альсим»,
«Эолова арфа»,
«Двенадцать спящих дев» и песен.
С октября 1820 по январь 1822 Василий Андреевич был за границей в царской свите. Он путешествовал по Германии, Швейцарии, Австрии, познакомился с Гёте, Тиком, Уландом и другими немецкими писателями. За время жизни за границей написал стихотворение «Лалла Рук» (1821),
переложил повесть Томаса Мура «Пери и Ангел» (1821),
перевел поэму Байрона «Шильонский узник» (1822),
трагедию Шиллера «Орлеанская дева» (1822).
В первые годы по приезде были написаны элегия «Море» (1822),
«Ты передо мною», 1823;
«Привидение», 1823;
«Ночь», 1823;
«Я музу юную, бывало…», 1824;
«Таинственный посетитель», 1824;
«Мотылек и цветы», 1824,
«Замок Смальгольм» (1822).
Но затем, в течение шести лет, до 1831, он ничего не создал, за исключением перевода баллады Шиллера «Торжество победителя» (1828), стихотворения «К Гёте» (1827) и отдельных произведений на случай. Суета придворной жизни и обязанности воспитателя наследника мешали творчеству поэта.
Лишь в 1831, когда Василий Андреевич жил в Царском Селе, ежедневно встречаясь с Пушкиным и очень часто с Гоголем, он пережил вновь необыкновенный подъем творческих сил, который когда-то наполнял его жизнь в Муратове и Долбине. Творческое вдохновение не покидало его и за границей, куда он уехал лечиться в 1832-33.
В 1831 Василий Андреевич написал три сказки:
«Сказка о царе Берендее»,
«Спящая красавица»,
«Война мышей и лягушек»,
много баллад из Шиллера
«Перчатка»,
«Поликратов перстень»,
«Жалобы Цереры»,
Саути — «Доника»
«Суд божий над епископом», подражаний и стихотворных повестей.
В 1832-33 поэтом были написаны последние баллады, к жанру которых он больше уже не возвращался. К ним относятся баллады из Уланда
«Роллан-оруженосец»,
«Плавание Карла»,
«Братоубийца»,
«Рыцарь Роллон»,
«Улин и его дочь»
«Элевзинский праздник» Шиллера.
С середины 30-х гг. Василий Андреевич создает произведения преимущественно большого эпического жанра: поэмы и повести в стихах. Пишет повесть «Ундина» (1837), Л. Фуке, вольный перевод «Камоэнс» (1839) Фр.Тальма, переложил в стихах индийскую народную повесть «Наль и Дамаянти» (1841).
С последними годами связана и перемена в личной жизни поэта. После путешествий с наследником сначала по России (со 2 мая по 17 дек. 1837), а затем по Европе (с мая 1838 по начало 1839) он в 1839 вышел в отставку, которая была принята под тем предлогом, что «возложенные на него педагогические задачи» окончились с достижением наследником совершеннолетия. На самом деле Николай I был недоволен его ролью. как воспитателя, его заступничеством за осужденных и его резким письмом царице, в котором осуждалась грубость наследника. Поэтому царь поспешил дать поэту почетную отставку и тем положил конец его придворной карьере.
В августе 1839 Василий Андреевич принимал участие в торжествах по случаю открытия памятника в честь Бородинской битвы 1812 и тогда же опубликовал отдельной брошюрой свое стихотворение «Бородинская годовщина».
В июле 1840 он уехал в Германию и вскоре сделал там предложение дочери своего друга — художника Рейтерна. После кратковременного посещения Петербурга для приведения в порядок своих материальных дел он снова вернулся в Германию и в 1841 женился и поселился в Дюссельдорфе, навсегда оставшись в Германии. Много раз он пытался вернуться в Россию, тосковал по родине и друзьям, но обстоятельства мешали ему осуществить свое желание.
В семейной жизни поэт, видимо, не нашел того счастья, к которому стремился. В письмах он часто жалуется на тяжелую болезнь жены, оторванность от друзей, ухудшающееся здоровье и постепенную утрату зрения. Именно в это время у него усиливаются религиозные настроения и консервативные политические взгляды. Творческая деятельность Василия Андреевича и в последние годы не ослабевала, несмотря на участившиеся болезни.
В первый год семейной жизни он написал три сказки белыми стихами, заимствованные из собрания Гриммов:
«Об Иване-царевиче и сером волке»,
«Кот в сапогах»,
«Тюльпанное дерево».
В последующие годы перевел поэму «Рустем и Зораб» (1844-47), являющуюся переложением части поэмы Фирдоуси «Шах-Наме», в переработке немецкого поэта Рюккерта, «Одиссею» (1842-49) Гомера.
Смерть прервала его работу над переводом «Илиады» и созданием оригинальной поэмы «Вечный жид» на апокрифический сюжет средневековья, замысел которой заключался в изображении нравственно- философского значения и исторической судьбы христианства.
Последние годы Василий Андреевич жил в Баден-Бадене и там же умер. Прах его вскоре был перевезен в Петербург и погребен на кладбище Александро-Невской лавры рядом с могилой Карамзина.
Творчество поэта, исключая ученическое, делится на три периода.
Первый продолжался с начала 1802 по 1808 и может быть назван предромантическим. Основным лирическим жанром для Василия Андреевича в это время была медитативная элегия, в которой тематические и художественные традиции карамзинизма сочетались с индивидуальным восприятием жизни и конкретно-психологическим характером, придававшим единство всему произведению в целом. Поэт следовал поэтическим принципам Карамзина, соотнося слово и образ не с объективной действительностью и логическим содержанием идей, а с теми переживаниями, которые они вызывают в сознании. Но он пошел дальше своего учителя, преодолел нормативность сознания сентиментализма с его искусственными, абстрагированно-замкнутыми «чувствованиями» и условными образами добродетельных героев и выразил индивидуальную человеческую душу, которая стала жизнью и содержанием поэзии. Таким качественно новым поэтическим произведением стала элегия «Сельское кладбище», за традиционными мотивами которой уже раскрывается живой человек, с подразумеваемыми жизненными противоречиями и драматизмом. В ней картины природы, раздумья о несправедливости и противоречиях социальной жизни, о печальной участи поэта в реальной действительности проникнуты такой правдой индивидуального переживания, таким искренним сочувствием к простым людям и внутренне оправданной меланхолической грустью, что существом стихотворения становятся не раздумья, не смысл отдельных суждений и картин природы в сентиментальном духе, а внутренний мир лирического героя, строй души его. Эта элегия подтверждает справедливость слов Белинского о том, что поэт, «повидимому, действовал как продолжатель Карамзина, как его сподвижник, тогда как в самом- то деле он создал свой период литературы, который не имел ничего общего с карамзинским… Жуковский внес романтический элемент в русскую поэзию: вот его великое дело, его великий подвиг» (В. Г. Белинский , Полн. собр. соч., т. VII, с. 124). В элегии впервые проявились особенности раннего романтизма: лирическое настроение, эмоциональный колорит и одухотворенность всего произведения индивидуальным характером поэта. Все это нашло выражение в новых средствах поэтической речи: в экспрессивной выразительности и эмоциональной окраске смыслового значения слова, в мелодическом строе стихотворной речи, достигаемым системой интонирования, пауз, повторений, параллелизмов, сокращением и расширением объема предложений, инверсивных и ритмических вариаций и т. д.
Поэтическое богатство элегии так значительно и необычно, что ей, как писал Плетнев, «суждено было начать у нас счастливый переворот в поэзии».
Дальнейшее развитие поэтические принципы поэта получили в элегии «Вечер» — вершине творчества поэта первого периода. Лирические мотивы, сложная система вопросительных и восклицательных интонаций, естественная и незаметная смена усиления и ослабления эмоционального напряжения делают стихи единым, плавно льющимся музыкально-лирическим потоком, в котором с малейшими оттенками отражаются переживания лирического героя. В этой элегии уже нет риторических длиннот и интонационного однообразия «Сельского кладбища», но и в ней внутренний мир поэта раскрывается не в непосредственном лирическом выражении, а в связи с традиционно-сентиментальными мотивами и ситуациями, что и делает названные элегии типично пред- романтическими, которыми заканчивается первый период творчества поэта.
Второй период продолжался с 1808 по 1833. В это время Василий Андреевич пишет романтические элегии, песни, баллады. Переходом к ним были послания, в которых раскрывались непосредственные переживания, вызванные условиями личной жизни поэта, его социальным самосознанием, убеждавшим в несоответствии окружающей действительности нравственному достоинству человека. В искренней скорби посланий поэта, в его жалобах на жизнь («К Филалету», начало 1808; «Тургеневу», 1813) — раскрывался глубокий драматизм, составлявший подтекст элегий, песен и баллад поэта, их психологическая конкретность и непосредственность. Настроения томления по идеальному, романтическому счастью и отрешенности от «изменяющих благ» выразились со всей полнотой в элегии «Теон и Эсхин» (1814), на которую Белинский смотрел «как на программу всей поэзии Жуковского, как на изложение основных принципов ее содержания» (Полн. собр. соч., т. VII, М., 1955, с. 194). Она проникнута скрытым драматизмом, который разрешается романтической верой в то, что любовь и стремление к «возвышенной цели» сильнее смерти («Сих уз не разрушит могила»).
Понимание поэзии Василия Андреевича связано с темой очарования души, озаренной видением прекрасного, всегда мгновенного и невыразимого. Эта тема отражается и в любовной лирике поэта, и в его дружеских посланиях, а также в элегии «Таинственный посетитель» (1824), которую Белинский считал одним «из самых характеристических стихотворений Жуковского». С характерно романтическим содержанием его связана мелодическая манера развития темы, движение которой реализуется сменой вопросов, переходами от одного мотива к другому, эмоционально окрашенных интонацией непосредственного обращения к неведомому таинственному посетителю. Чувство, навеянное таинственным посетителем, близко «молодой надежде»; любви, делающей для нас мир прекрасным; думе, которая «в минувшее уводит нас безмолвно за собой»; поэзии, с которой «все близкое прекрасно»; предчувствию, которое понятно говорит «о небесном, о святом». Поэт не знает, кто этот таинственный посетитель. «Но эта-то неопределенность,- пишет Белинский,- эта-то туманность и составляет главную прелесть, равно как и главный недостаток поэзии Жуковского» (Полн. собр. соч., т. VII, с. 180). О чувстве очарования и устремленности души к неведомому идеалу как преобладающем содержании поэзии говорят стихи
«Минувших дней очарованье» (1818),
«К мимо пролетевшему гению» 1818
«Невыразимое» (1819) и другие.
Тот же характер элегического очарования и «идеальности» имеет любовная лирика поэта, связанная с романтическим чувством любви к М. А. Протасовой
«Мой друг, хранитель-ангел мой», 1808;
«О, милый друг! теперь с тобою радость», 1811;
«К ней», 1811;
«Ты предо мной стояла тихо», 1823.
Василий Андреевич разработал в своей поэзии средства непосредственного выражения лирического переживания, передаваемого не столько логической, сколько интонационно- ритмической стороной стихотворной речи, ее эмоционально-семантическим колоритом.
С 1808 его поэзия обогатилась новым поэтическим жанром. В сюжетах его баллад, в их повествовательной речи, так же как в лирических пейзажах и мелодическом строе его элегий, раскрывается та же атмосфера мечтательности поэта и романтического томления. Поэтому сюжет и вытекающая из него мораль, как и сами характеры героев, не имеют самостоятельного значения — все это служит лишь отражением настроения рассказчика, самого поэта.
В первой балладе — «Людмила» поэт заявил себя как мастер этого жанра. Он придал своей балладе, национальный колорит, перенеся место действия в Московскую Русь XVI — XVII вв., дал героине русское имя Людмила, ввел народно-сказочные формулы и наименования, сохранив принципы мелодического построения речи. Его баллада отражала элементы русской национальности, но подлинной народности она была лишена. Ее историческое значение, однако, велико, так как баллада была первым художественным воплощением идеи народности. «Людмила» вызвала к себе внимание современников и послужила предметом споров (1816). В балладе «Светлана» усилен национальный колорит, кошмары и ужасы теряют таинственность и объясняются сном и душевным состоянием героини. Нои в ней народность отразилась неглубоко, слишком идиллично изображена русская жизнь, бледны характеры, условны и внешние картины быта и природы. Однако это не лишает балладу художественной ценности, ее сущность не в воспроизведении объективной действительности, а в том чувстве светлой радости, легкости и вместе с тем грусти, которые она вызывает.
Большим достижением Василия Андреевича в балладе «Двенадцать спящих дев» был психологический анализ и романтические картины природы, отражающие настроение произведения в целом, внутренний мир героев. В этой балладе сюжет, образы и религиозные мотивы — все в своем лирическом звучании выражает переживания поэта и его мировоззрение. После «Двенадцати спящих дев» поэт уже не писал на русский сюжет.
В 1814 была написана «Эолова арфа» — баллада на тему о неравной любви. В ней утверждается торжество любви над смертью и превосходство нравственного достоинства человека над общественным положением. Это произведение — одно из высших достижений поэта. Василий Андреевич написал немало переводных и оригинальных баллад на античные сюжеты и сюжеты баллад западноевропейских писателей.
Третий период — с 1834 до конца жизни — ознаменован переходом от элегии, песен и баллад к большим эпическим жанрам: поэме и повести в стихах. В его творчестве обнаруживается интерес к эпической ясности и художественной простоте, которые одухотворяются внутренней поэтичностью и яркой романтикой. Жуковский В.А. перевел
«Ундину»,
«Наль и Дамаянти»,
«Рустем и Зораб»,
«Одиссею».
Его переводы имели огромное значение для развития русской литературы. Они познакомили русских читателей с крупнейшими поэтами эпохи, с иранским, индийским и греческим эпосом. Пушкин говорил о нём как переводчике: «В бореньях с трудностью силач необычайный». Переводы Василия Андреевича отличаются индивидуальным своеобразием. Он переводил произведения, близкие ему по духу, отражая в них лирический склад своей души, внося отступления от подлинника, которые придавали переводу единый колорит и психологическое звучание. С годами в его переводах становилось все меньше отклонений от подлинника. Таким непревзойденным переводом является перевод «Одиссеи».
Заслуга Жуковского как поэта-романтика в том, что он, выразив свой внутренний мир, сделал достоянием русской литературы не только романтизм, но и открытые им средства поэтического изображения душевной жизни вообще. Конкретный анализ литературного наследия поэта показывает высокую художественную ценность его поэзии и дает возможность понять, как «необъятно велико значение этого поэта для русской поэзии и литературы» (Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, 1955, с. 142).
Жуковский Василий Андреевич скончался 12(24).IV. 1852 г. в Баден-Бадене (Германия), тело его было перевезено в Петербург и похоронено в Александро-Невской лавре (ныне Некрополь мастеров искусств).
В 1854 г. на средства, собранные по публичной подписке, сооружен надгробный памятник работы П. Клодта.
В 1887 в Александровском саду (ныне Сад им. Горького) установлен бюст Жуковского Василия Андреевича работы В. П. Крейтана.
Одна из центральных улиц города (бывшая Малая Итальянская) названа его именем.
Хотите познакомиться с таким известным поэтом, как Василий Жуковский? Краткая биография его должна заинтересовать любителей литературы. Начав как сентименталист, Жуковский стал одним из основателей русского романтизма. Его поэзия насыщена образами народной фантастики, меланхолическими мечтаниями. Василий Жуковский перевел произведения Дж. Байрона, Ф. Шиллера, «Одиссею» Гомера. Предлагаем подробнее познакомиться с его жизнью и творчеством.
Происхождение В. А. Жуковского
Василий Жуковский родился в с. Мишенском Тульской губернии 29.01.1783. Отец его, А.И. Бунин, был помещиком этой деревни, а мать — пленной турчанкой. Василий Жуковский получил отчество и фамилию от друга Буниных, Андрея Григорьевича Жуковского. Семью Буниных незадолго до рождения будущего поэта постигло страшное горе: в короткое время из 11 человек умерло шестеро, включая и единственного сына, обучавшегося в то время в лейпцигском университете. Мария Григорьевна, убитая горем, в память о своем сыне решила взять новорожденного в свою семью и воспитать его как своего собственного сына.
Учеба в пансионе
Вскоре мальчик стал любимцем всей семьи. В возрасте 14 лет Василий поступил в университетский пансион города Москвы. Он проучился в нем 4 года. Пансион не давал обширных познаний, однако под руководством преподавателей ученики нередко собирались для чтения своих литературных опытов. В периодических изданиях печатались лучшие из них.
Первые произведения
Вскоре опубликовал первые свои произведения и Василий Андреевич Жуковский. Биография его отмечена дебютом в печати в 1797 году. Первое опубликованное произведение — «Мысли при гробнице». Оно было создано под впечатлением гибели В. А. Юшковой. В период обучения в пансионе (с 1797 по 1801 год) были изданы следующие творения Жуковского: в 1797 году — «Майское утро», в 1798 — «Добродетель», в 1800 — «Мир» и «К Тибуллу», в 1801 — «К человеку» и другие. Во всех них главенствует меланхолическая нота. Поэта поражает быстротечность всего земного, непрочность жизни, которая кажется ему полной страданий и слез. Это настроение объяснялось главным образом литературными вкусами того времени. Дело в том, что первые произведения Василия Андреевича появились тогда, когда многие восторгались «Бедной Лизой» Карамзина, опубликованной в 1792 году. Возникали бесчисленные подражания.
Однако не все объяснялось модой. Обстоятельства рождения Василия Жуковского не были забыты ни другими, ни им самим. У него было неоднозначное положение в свете. Детство и юность поэта не были счастливыми.
Первый перевод, возвращение в деревню
Ко времени учебы в пансионе относится также первый перевод Жуковского — романа «Мальчик у ручья» Коцебу (1801 год). Василий Андреевич по завершении курса обучения поступил на службу, однако вскоре решил бросить ее. Он поселился в Мишенском для того, чтобы продолжить образование.
Творчество 1802-1808 годов
За время жизни в деревне (1802-1808) практически не печатал свои произведения Василий Андреевич Жуковский. Биография его отмечена появлением лишь нескольких новых творений. В «Вестнике Европы» в 1802 году было помещено его знаменитое «Сельское кладбище» — переделка или вольный перевод из Грея. Это произведение сразу же обратило на себя внимание. Естественность и простота стали новым открытием того времени, когда еще господствовал высокопарный псевдоклассицизм. Примерно тогда же Жуковский создал «Марьину Рощу» — повесть, написанную в подражание «Бедной Лизе».
Василий Андреевич в 1806 году отозвался на всеобщее патриотическое настроение «Песнью барда над гробом славян-победителей». «Людмила» появилась в 1808 году. Это была переделка произведения «Ленора» Бюргера. Именно с в отечественную литературу вошел романтизм. Василия Андреевича захватила та его сторона, где он является стремлением вглубь Средних веков, в мир средневековых преданий и сказаний.
Жуковского воодушевил успех «Людмилы». Переделки и переводы с этого времени непрерывно следуют одни за другими. Василий Андреевич переводил в основном немецких поэтов. А самые удачные его творения связаны с творениями Шиллера. В это время Жуковский создавал и оригинальные произведения. Появилась, например, первая часть поэмы «Двенадцать спящих дев» под названием «Громобой», а также несколько прозаических статей.
Переезд в Москву, редакторская деятельность
В это же время стал редактором «Вестника Европы» Жуковский Василий Андреевич. Краткая биография его отмечена переездом в Москву для исполнения этой должности. Два года продолжалась редакторская деятельность, с 1809 по 1810 год. Сначала Василий Андреевич работал единолично, затем вместе с Каченовским. К последнему и перешел окончательно «Вестник Европы».
Сердечная драма Жуковского
После этого Жуковский возвратился в свою деревню и пережил здесь глубокую сердечную драму. Еще несколько лет назад он начал заниматься со своими племянницами, дочерьми Е. А. Протасовой, младшей дочери помещика Бунина. Екатерина Афанасьевна овдовела незадолго перед тем и поселилась в Белеве. Василий Андреевич страстно полюбил Марию Протасову, старшую свою ученицу. Излюбленными мотивами его лирики становятся грезы о взаимной любви и семейном счастье. Однако чувство Жуковского скоро приобрело меланхолический оттенок. Родственные связи делали эту любовь в глазах других невозможной. Поэту приходилось тщательно скрывать свое чувство. Лишь в поэтических излияниях оно находило выход. Впрочем, не мешая научным занятиям Жуковского. Он с особым усердием принялся заниматься историей, русской и всеобщей, и приобрел основательные знания.
«Певец во стане русских воинов» и «Светлана»
Жуковский в 1812 году решился попросить руки Марии Протасовой у ее матери, однако получил решительный отказ. Препятствовали браку родственные отношения. Василий Андреевич вскоре после этого уехал в Москву. Здесь вступил в ополчение Жуковский Василий Андреевич. Кратко об этом его опыте можно сказать следующее. Увлеченный патриотическим воодушевлением, которым были захвачены русские войска, в лагере под Тарутиным Жуковский написал «Певца во стане русских воинов». Это произведение сразу же приобрело большую известность. Оно разошлось в тысячах списков по армии и всей России. Новая баллада Жуковского «Светлана» относится тоже к 1812 г. Несмотря на русское вступление, в этом произведении разрабатывались мотивы «Леноры» Бюргера.
Жизнь и творчество Жуковского при дворе
Недолго продолжалась военная жизнь Василия Жуковского. Он заболел тифом в конце 1812 года и вышел в отставку в январе 1813-го. В 1814 году появилось «Послание императору Александру», после которого императрица Мария Федоровна захотела, чтобы Жуковский приехал в Петербург. Мария Протасова в 1817 году вышла замуж за профессора Майера. В поэзии Жуковского и позже будут звучать мечты о любви. Однако девушка была слаба здоровьем и в 1823 году она умерла. Сможет ли забыть Марию Протасову и найти себе спутницу жизни Василий Жуковский? Биография его дальнейших лет даст вам ответ на этот вопрос.
Основные ноты поэзии Жуковского
«Тоска любви», «стремленье вдаль», «скорбь о неизвестном», «томление разлуки» — вот основные ноты поэзии Василия Андреевича. Характер ее практически полностью зависел от мистического настроения Жуковского, вызванного неосуществившимися грезами о любви. Таким образом, обстоятельства времени, господствовавшие в обществе сентиментальные литературные вкусы, как нельзя лучше пришлись к личному чувству поэта. Жуковский внесением в свое творчество романтического содержания значительно расширил сентиментализм отечественной литературы, утвердившийся до него. Однако, развивая в своих произведениях новые мотивы, он следовал главным образом указаниям личного чувства.
Поэт Василий Жуковский брал из средневекового романтизма лишь то, что соответствовало его собственным мистическим мечтам и стремлениям. Значение его творчества состояло в том, что поэзия Жуковского, являясь субъективною, одновременно служила общим интересам развития литературы. Субъективизм его был важным шагом на пути отрешения словесного творчества от псевдоклассицистического холода. Жуковский внес в литературу мир внутренней жизни, дотоле ей практически неизвестный.
Период с 1817 по 1841 год — время, когда Василий Андреевич жил при дворе. Сначала он был преподавателем русского языка. Ученицами его были княгини Елена Павловна и Александра Федоровна. А с 1825 года Василий Андреевич стал воспитателем Александра Николаевича, наследника престола. В это время часто ездил за границу Василий Андреевич Жуковский. Поэт отправлялся туда как по служебным делам, так и для лечения.
Путешествия Жуковского и новые произведения
Произведения Жуковского появляются в это время словно случайно. Например, отправившись в Швейцарию и Германию осенью 1820 года, Василий Андреевич принялся в Берлине за перевод шиллеровской «Орлеанской Девы». В 1821 году он его окончил. А под впечатлением от находящегося в Швейцарии, был создан перевод «Шильонского узника» Байрона (в 1822 году).
Василий Жуковский провел зиму 1832-33 гг. у Целый ряд переводов из Гердера, Шиллера, Уланда, отрывков «Илиады» и др. появился в это время. Василий Андреевич объездил в 1837 году Россию и часть Сибири вместе с наследником престола. А в 1838-39 гг. он отправился вместе с ним и в Западную Европу. Жуковский в Риме сблизился с Гоголем, что повлияло на развитие мистического настроения в его позднем творчестве.
Женитьба
Занятия с наследником окончились весной 1841 года. Влияние, которое оказал Жуковский на него, было благотворным. А теперь ответим на вопрос о том, как сложилась личная жизнь Василия Жуковского. В Дюссельдорфе 1841 года состоялось бракосочетание Василия Андреевича (ему в то время уже исполнилось 58 лет) с 18-летней дочерью живописца Рейтерна, его давнишнего приятеля. Жуковский провел последние 12 лет своей жизни в Германии с семьей супруги.
Василий последних лет
В первый год брачной жизни он написал сказки «Кот в сапогах», «Об Иване-царевиче и Сером Волке». Перевод «Одиссеи» (первого тома) появился в 1848 году, а второго — в 1849-м. Поэму «Странствующий Жид», к сожалению, закончить не успел Жуковский Василий Андреевич. Краткая биография его завершается в Баден-Бадене в 1852 году, 7 апреля. Именно тогда умер Василий Андреевич. Он оставил супругу, дочь и сына. Но не только их. Большое художественное наследство оставил нам Жуковский Василий Андреевич.
Творчество его входит в школьную программу по литературе. Произведениями Василия Андреевича и по сей день зачитываются многие, а интерес к его личности не угасает. Вот и вы познакомились с биографией такого великого русского поэта, как Василий Жуковский. Творчество его мы описали лишь вкратце, однако оно заслуживает подробного изучения. Продолжить знакомство с этим поэтом, безусловно, стоит.
«…Царь Берендей — портрет Николая Андреевича [Римского-Корсакова]»
Из письма А.А. Врубель Н.И. Забеле-Врубель 29 июля 1909 года*
* Барсова Л.Г. Врубель. No comments. СПб., 2012. С. 374.
Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) и Михаил Александрович Врубель (1856-1910) — два величайших русских мастера Серебряного века. Принадлежали они к разным поколениям: творчество художника Врубеля полностью вписывается в эту эпоху, начало пути композитора Римского-Корсакова приходится на значительно более раннее время — 1860-е годы, однако полного расцвета, кульминации его искусство достигло именно в конце XIX — начале XX века.
М.А. ВРУБЕЛЬ. Берендей. 1898–1899
Майолика, рельеф, роспись полихромная. 46 × 34 × 16
© Музей-заповедник «Абрамцево»
Римский-Корсаков был знаком, как и его друзья М.П. Мусоргский и В.В. Стасов, со многими известными русскими художниками, но особого интереса к их творчеству не проявлял. В Морском корпусе его соучеником был Василий Васильевич Верещагин; он ценил Илью Ефимовича Репина как симпатичного человека и собеседника (художник создал портрет Николая Андреевича в 1893 году (ГРМ)); позже Римскому-Корсакову нравились работы Виктора Михайловича Васнецова; прекрасные портреты композитора (живописный и графический) исполнил Валентин Александрович Серов. Но единственным художником, с которым у Римского-Корсакова возникла творческая близость, стал Михаил Александрович Врубель. Он оформил подряд несколько корсаковских опер в постановках Русской частной оперы С.И. Мамонтова. Надежда Ивановна Забела, жена Михаила Александровича Врубеля, исполняла едва ли не весь корсаковский репертуар для лирического сопрано: главные партии в «Снегурочке», «Садко», «Сказке о царе Салтане», «Царской невесте», «Боярыне Вере Шелоге», «Кащее Бессмертном»; пела также в «Майской ночи», «Псковитянке», в концертном исполнении — фрагменты из «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии», многие романсы. Необыкновенный голос Надежды Ивановны вдохновлял композитора на создание многих музыкальных образов.
Н.И. Забела-Врубель в роли Волховы в постановке оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. 1900
Фото: А. Пазетти. На фотографии надпись: «Из глубины моря и души на память дорогому Николаю Андреевичу Римскому-Корс
98-го 21-го апреля Надежда Забела»
Для Михаила Александровича Врубеля музыка была не развлечением, не удовольствием, а некой всепоглощающей стихией. Неслучайно главную тему своего творчества он нашел именно в опере «Демон» Антона Григорьевича Рубинштейна, услышанной в молодости в киевском театре. Привлекли его не столько музыка Рубинштейна и выдающееся, по многим свидетельствам, исполнение главной партии певцом Иоакимом Тартаковым, а тема и образ популярной оперы.
Музыкальный вкус Врубеля был утонченным и избирательным: он преклонялся перед Римским-Корсаковым (и оставался равнодушен к П.И. Чайковскому), любил М.И. Глинку, обожал Рихарда Вагнера, оперы «Тристан и Изольда», «Кольцо нибелунга». Жена-певица поражалась верности, меткости его замечаний при разучивании ею новых оперных партий, огромной музыкальной памяти: некоторые особенно любимые оперы Михаил Александрович мог пропеть с начала до конца. И последние светлые впечатления художника, уже слепого, уже в почти бессознательном состоянии, — это мелодии, которые напевала ему жена…
Если говорить о любви Врубеля к музыке Римского-Корсакова, то она была столь велика, что, например, оперу «Садко», в которой Надежда Ивановна создала прекрасный образ Морской царевны, он прослушал около девяноста раз и на вопрос жены, не надоело ли ему, отвечал, что всегда готов слушать дивную музыку моря. Из опер Римского-Корсакова он меньше любил «Царскую невесту», несмотря на то, что композитор при сочинении был вдохновлен звучанием голоса Забелы и главная партия рассчитана на ее исполнение. Еще, вероятно, потому, что действие в «Царской невесте» происходит, в отличие от других опер этого композитора, в реальном мире с его человеческими страстями. Врубеля же привлекал мир иной: по его мысли, «искусство изо всех сил старается иллюзионировать душу, будить ее от мелочей будничного величавыми образами»[1]. Это высказывание из письма художника к сестре удивительно перекликается с размышлениями Римского-Корсакова о том, что только одно «невероятное» дает настоящий оперный сюжет: «. только невероятное может быть выражено невероятным образом»[2].
Римский-Корсаков познакомился с Врубелем на рубеже веков, но начало его влияния на творчество художника надо отнести, вероятно, не к моменту личного знакомства в 1898 году, а к значительно более ранним временам — возможно, к 1884 году, когда Михаил Александрович сделал рисунки к симфонической поэме «Садко», исполнявшейся на вечере в Императорской Академии художеств. В письме к композитору в 1898 году Врубель отнес к его «доброму влиянию» свое решение «посвятить себя исключительно русскому сказочному роду»[3]. В результате появился «Пан» (1899), точнее — славянский леший, ближайший родственник персонажей «Снегурочки».
Самое главное, что услышал Врубель в музыке Римского-Корсакова, по его словам, это была «музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада»[4].
Казалось, что может быть общего между эстетикой Врубеля, «отпетого декадента», по мнению публики и даже В.В. Стасова, и эстетикой Римского-Корсакова, главы национальной музыкальной школы, то есть «традиционалиста» в представлении многих? Что общего между создателем «Садко» и создателем «Демона»?
Основа художественного мировоззрения Римского-Корсакова, по его собственному выражению, — «вселенское чувство»[5]. Внимание композитора сосредоточивалось прежде всего на великих явлениях Космоса (небо, солнце, звезды, море) и на великих явлениях человеческой жизни (рождение, любовь, смерть). Его любимыми словами, когда речь шла об искусстве, были «созерцание», «художественное миросозерцание», «высшее прозрение», когда о музыке — «звукосозерцание», «музыкальная пластика». Случайно сохранившиеся беглые записи Римского-Корсакова по эстетике открываются утверждением: искусство есть «сфера созерцательной деятельности», где объект созерцания — «жизнь человеческого духа и природы, выраженная в их взаимных отношениях»[6]. Врубель мог бы подписаться под любым из них. Об этом свидетельствуют хотя бы строки в одном из его писем В.Е. Савицкому из Венеции 1885 года: «…Сколько у нас красоты на Руси… И знаешь, что стоит во главе этой красоты, — форма, которая создана природой вовек. А без справок с кодексом международной эстетики, но бесконечно дорога потому, что она — носительница души, которая тебе одному откроется и расскажет тебе твою»[7]. Врубель без колебаний мог бы применить к своему творчеству тезис композитора: «Понятие прекрасного есть понятие бесконечной сложности»[8].
Общность художественного ритма мифологических и сказочных опер Римского-Корсакова и «русских» полотен Врубеля прослеживается отчетливо. И если прекрасные васнецовские декорации и костюмы к опере «Снегурочка» касаются более всего сказочных и крестьянских обрядовых сцен, то остальное в музыке этой оперы, особенно в финальной сцене истаивания Снегурочки, несомненно, созвучно тайне врубелевских женских образов: корсаковская Царевна Лебедь — врубелевской «Царевне-Лебеди», тридцать три богатыря в «Сказке о царе Салтане» — врубелевскому «Богатырю».
Среди московских знакомств и связей Римского- Корсакова, обильных и разнообразных на рубеже веков (кроме Частной русской оперы это и Большой театр, и любимый дирижер — директор Московской консерватории В.И. Сафонов, и композитор, педагог С.И. Танеев, и многие другие), личные отношения композитора с семьей Врубелей имели особый смысл.
Римский-Корсаков, разумеется, ценил и уважал талантливых исполнителей своей музыки. Но не любил «трактовок», «интерпретаций», «переосмыслений» — активного вмешательства исполнителей в его партитуры; у вокалистов — всяких «декламаций» поверх написанных нот, сценического переигрывания; у известных дирижеров, вроде очень популярного тогда Артура Никиша, — произвольных изменений предписанных темпов и прочего. Он противоречиво относился даже к Шаляпину — признавая масштабы его таланта, считал, что в ряде случаев появление этого певца на сцене нарушает общий ансамбль, оттягивая внимание слушателей от самой музыки.
Римский-Корсаков неоднократно повторял: если меня назовут лирическим композитором — обрадуюсь, драматическим — обижусь9. Например, он осаживал восторги друзей по поводу появления «драматического» «Моцарта и Сальери», призывая их лучше вслушаться в «лирическую» «Царскую невесту». Пение Надежды Забелы-Врубель, ее сценический облик стали для него живым воплощением именно лирической стихии искусства. Отсюда и особое отношение к этой певице. Общаясь с Забелой на репетициях и спектаклях, в театре и на концертах, приходя в ее дом в Москве или приглашая в свой дом в Петербурге, композитор всегда встречался и с ее супругом-художником, который оформлял все корсаковские спектакли в Мамонтовской антрепризе и Товариществе Частной русской оперы, начиная с «Садко» и кончая «Кащеем Бессмертным», и создал много прекрасных работ разных жанров (станковая живопись, графика, скульптура) на темы корсаковских опер.
Композитор не считал себя компетентным в вопросах изобразительного искусства и обычно воздерживался от публичных суждений о нем. По отношению к Врубелю дело обстояло иначе: Римский-Корсаков чувствовал творческую нерасторжимость союза художника и певицы, понимал, сколь многим исполнительство Надежды Ивановны Забелы обязано влиянию гениального Врубеля. Прекрасно образованный Михаил Александрович явно нравился Николаю Андреевичу, и он не мог не отвечать признательностью на восторженное поклонение своей музыке, которое Врубель всегда проявлял устно и письменно.
В доме Врубелей композитор встречал надлежащее отношение к своему творчеству, а это в его жизни — как ни странно — случалось не так часто, несмотря на всеобщее уважение, почитание и пышные «отмечания» его юбилеев. Конечно, немало людей из близкого круга Римского-Корсакова преданно любили его музыку, но старые, испытанные друзья вроде В.В. Стасова или С.Н. Кругликова, и даже некоторые более молодые друзья, вроде «летописца» композитора В.В. Ястребцева, все-таки многого в корсаковской музыке этой эпохи не понимали (а иногда и не принимали). Настоящее, метафизически глубокое понимание и соответствующее отношение, правильнее сказать, поклонение своему искусству, он встречал у либреттиста его поздних опер Владимира Бельского, возможно, еще у некоторых людей нового поколения и у четы Врубелей.
Забела, Врубель, так же как и Бельский, были не просто друзьями, они стали сотрудниками, союзниками в творчестве, подсказывавшими новые темы непосредственно (как Бельский) или косвенно (звучание голоса Забелы, декорации и костюмы Врубеля). Не воспринимая в целом новации художников круга «Мира искусства», Римский-Корсаков вполне оценил, например, врубелевского «Богатыря» (которого поначалу отказался экспонировать С.П. Дягилев), а нарисованный Врубелем поздравительный адрес от Частной русской оперы с портретом любимого композитора в виде древнего певца держал рядом со своим рабочим столом. Также в скульптуре Врубель не один раз создавал «легендарный» образ певца Баяна с портретными чертами Николая Андреевича (что подтверждается воспоминаниями Н.И. Забелы). Римский-Корсаков с благодарностью принимал исполненное художником оформление своих опер (а оно отнюдь не всем зрителям нравилось).
В годы тяжелой болезни Врубеля Римский-Корсаков способствовал приему Н.И. Забелы в труппу Мариинского театра: с этой просьбой он обращался в дирекцию Императорских театров, обсуждал подобную возможность с рядом влиятельных лиц. Удалось добиться прослушивания певицы в дирекции, и ее приняли в труппу. Однако это не стало триумфом Надежды Ивановны: она исполняла второстепенные партии, в частности, Сирина в «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В это время развивается ее концертная деятельность. На музыкальных собраниях, ставших регулярными в доме композитора, особенно часто она исполняла произведения на музыку Римского-Корсакова, его учеников — Н.Н. Черепнина, М.Ф. Гнесина, М.О. Штейнберга, А.А. Спендиарова — и других московских авторов, в частности С.В. Рахманинова, очень ценившего Н.И. Забелу. Благодаря этим выступлениям певица обрела новое, камерное амплуа. И именно она стала первой исполнительницей партии девы Февронии в «Сказании о невидимом граде Китеже…» при показе оперы в домашнем кругу, а также исполняя в концертах монолог Февронии из первого действия. Можно предположить, что вокально и сценически сложный образ этой героини Римский-Корсаков сочинял, вспоминая звучание голоса Надежды Ивановны, хотя было ясно, что на большой императорской сцене, где состоялась премьера оперы, Забела петь эту партию не сможет.
Последние религиозные образы, созданные уже тяжело больным Врубелем в лечебнице, перекликаются с таинственными, «мистическими» сценами «Китежа»: погружением града в озеро Светлояр, пением Сирина и Алконоста при хождении Февронии в невидимый град, с преображенным Китежем в финале оперы: «Все забудется, время кончится.».
- Врубель М.А. Переписка. Воспоминания о художнике / Сост. Э.П. Гомберг-Вержбинская, Ю.Н. Подкопаева, Ю.В. Новиков. М., 1976. С. 95. (Далее: Врубель М.А. Переписка. Воспоминания о художнике.)
- Римский-Корсаков Н.А. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. VI11 В. М., 1982. С. 134.
- Письмо М.А. Врубеля к Н.А. Римскому-Корсакову от 8 мая 1898 г. // Врубель М.А. Переписка. Воспоминания о художнике. С. 88.
- Там же. С. 57.
- Римский-Корсаков Н.А. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. II. С. 63-64.
- Там же. С. 62.
- Врубель М.А. Переписка. Воспоминания о художнике. С. 5.
- Там же. С. 64.
- Например, из письма к М.А. Врубелю от 5 ноября 1898 года: «…Скажу Вам, что считаю музыку искусством лирическим по существу, и если меня назовут лириком — то буду гордиться, а если назовут драматическим композитором — несколько обижусь». — Цит. по: Врубель М.А. Переписка. Воспоминания о художнике. С. 102.
Иллюстрации
Автограф партитуры Н.А. Римского-Корсакова к опере «Садко», картина II. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Москва
Н.И. Забела-Врубель в роли Марфы в постановке оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Товарищество оперных артистов Русской частной оперы, Москва. 1899
Фото: В. Чеховский. © Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Москва (далее: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина)
Афиша оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко». Русская частная опера С.И. Мамонтова, Москва. 1897
Опера Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Сцена из II действия. 1900
В роли Царевны Лебеди – Н.И. Забела-Врубель, в роли Гвидона – А.В. Секар-Рожанский, в роли Милитрисы – Е.Я. Цветкова. На переднем плане – дирижер М.М. Ипполитов-Иванов. Фотография.
© ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Афиша оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Товарищество оперных артистов Русской частной оперы, Москва. 1900
© ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
М.А. ВРУБЕЛЬ. Эскиз костюма царя Салтана к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»
Первая постановка оперы: режиссер – М.В. Лентовский, дирижер – М.М. Ипполитов-Иванов. Товарищество оперных артистов Русской частной оперы, Москва. 1900. Картон на картоне, графитный карандаш, акварель, бронзовая краска. 19,4 × 9,6
© ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
М.А. ВРУБЕЛЬ. Эскиз костюма царя Салтана к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»
Первая постановка оперы: режиссер – М.В. Лентовский, дирижер – М.М. Ипполитов-Иванов. Товарищество оперных артистов Русской частной оперы, Москва. 1900. Картон на картоне, графитный карандаш, акварель, бронзовая краска. 19 × 6
© ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
М.А. ВРУБЕЛЬ. Эскиз костюма князя Гвидона (для А.В. Секар-Рожанского) к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»
Первая постановка оперы: режиссер – М.В. Лентовский, дирижер – М.М. Ипполитов-Иванов. Товарищество оперных артистов Русской частной оперы, Москва. 1900. Картон на картоне, графитный карандаш, акварель, бронзовая краска. 19,4 × 9,6
© ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
М.А. ВРУБЕЛЬ. Терем. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Товарищество оперных артистов Русской частной оперы, Москва. 1899
Бумага, карандаш, акварель. 16,5 × 25
© Музей-заповедник «Абрамцево»
М.А. ВРУБЕЛЬ. Улица в Александровской слободе. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Акт II
Первая постановка оперы: режиссер – В.П. Шкафер, дирижер – М.М. Ипполитов-Иванов. Товарищество оперных артистов Русской частной оперы, Москва. 1899. Картон, графитный карандаш, акварель, белила. 33 × 45,1
© ГЦТМ им. А.А. Бахрушина