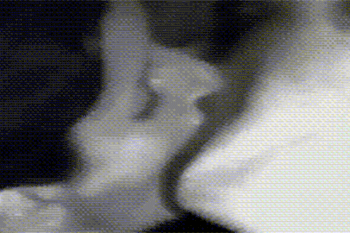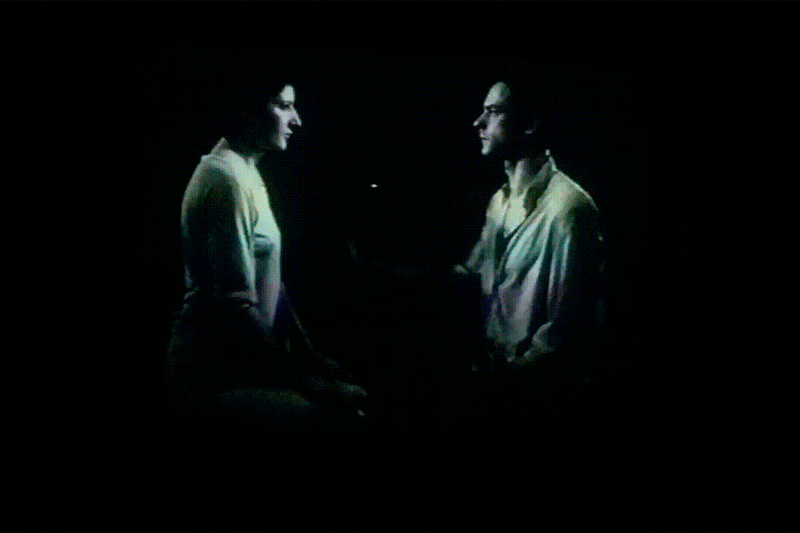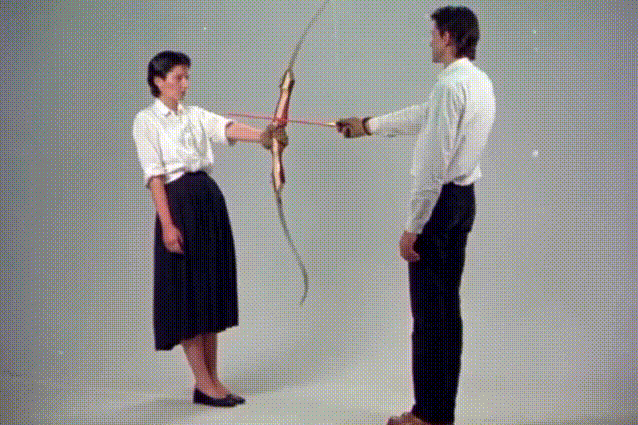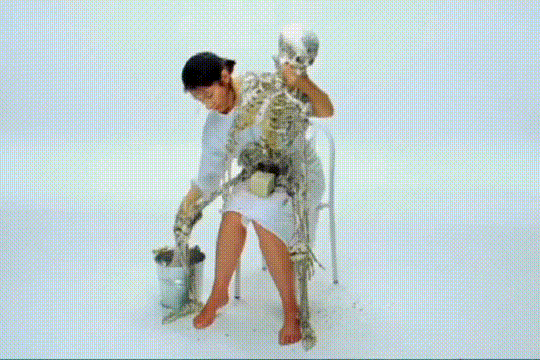…но с другой стороны, Драгунский, коренной москвич, лучше прочих видит, к чему мы катимся стремительным домкратом, когда Россия «вся помаленьку переезжает в Москву и область» (цитата из Москвич Mag), скупая там все муравейники. Кордоны внутри страны, непроницаемая социальная рознь, безмолвие, бесправие и безнадёжность.
Может, Драгунский ничего такого и не имел в виду, но вы лучше сами почитайте.
ЖЕНЯ, ЖЕНЯ И МОСКВА
Женя Колодкин получил разрешение на въезд и жительство в Москве. Второй степени.
Степень разрешения считалась снизу: первой степени – это только для тебя одного; второй степени – для двоих, то есть можешь взять жену или любого кровного родственника. Третья степень – ты и еще двое, то есть трое общим числом. Четвертой степени не было, вместо нее была карта «И», то есть «исключительный случай», если ты какой-то обалденный спортсмен или там, не знаю, математик. На карту «И» можно было вывезти до четверых человек.
Женя подавал на третью степень, потому что хотел взять с собой маму и любимую девушку, на которой предстояло жениться.
Но не вышло. Где-то споткнулся. Сам не понял, где именно, а в ответе этого не было. Объяснений не полагалась. «Вам выдано разрешение второй степени», и точка. Хотя это грандиозное везение, конечно.
***
Проверок было много. Биомедицинская, первым делом. Потом генеалогическая. В Москву брали только чистокровных. Не обязательно русских. Никакого шовинизма. Татарин, калмык, еврей, бурят, мордвин – пожалуйста. Хоть грек. Но чтобы на четыре поколения чистокровный, со справками. Понятно, зачем – еще один барьер, только и всего. Ну а дальше – тесты. Интеллект, психореактивность, общая культурность. Математика, язык, государство и право.
Особое испытание – спортивное. «Курьерское десятиборье». Сначала поднятие тяжестей. Дальше – быстро, но не нарушая правил, ехать по городу на машине. Потом на мотоцикле. Дальше велосипед. Плаванье. Карабкаться через стены, вроде скалолазания. Бокс или карате, дзюдо – на выбор. Бег. Ориентирование по навигатору и по приметам. Скоростной подъем по лестнице на пятнадцатый этаж – и, наконец, вручить адресату пластиковую коробку с яблочным пирогом.
Потому что в Москве для приезжих никакой другой работы не было. Только курьером. Но – только на первые три года. А там уж новые тесты, новые успехи, новые вершины.
Итак, вторая степень. Соискатель плюс один человек.
***
Женя все-таки решил взять с собой маму.
Трудный был выбор. Мама была против. Она говорила, что скоро умрет. У нее был стафулоз в тяжелой стадии, какая-то новая зараза. Мама говорила: «Езжайте с Женечкой. Распишитесь – и езжайте. А я тут как-нибудь».
Девушку Жени Колодкина звали тоже Женя.
Он сначала обрадовался такому маминому решению, тем более что и его Женя очень хотела с ним в Москву, но не говорила ни слова, потому что знала, какой ему предстоит трудный выбор. В общем, Женя уже совсем было собрался пойти со своей Женей в МФЦ и подать заявку на брак, но вдруг подумал: «Господи боже, что ж я делаю! Это же мама! Мать! Она меня родила, растила-кормила, после папиной смерти образование дала, а я ее бросаю! Древние греки, кажется, говорили: жён-мужей и детей может быть сколько хочешь, а матери новой не будет! Что ж это я за подлец такой? Нет!»
В общем, он сказал матери, что берет ее с собою. И что в Москве обязательно найдется лечение от стафулоза: либо больница, либо просто лекарство, которого здесь нет, а в Москве, наверное, в каждой аптеке навалом.
Брать с собой много вещей не разрешалось – по чемодану пятьдесят пять на сорок на двадцать пять и бумажник с документами.
***
Когда перешли наружную границу, там был двухдневный карантин. Им с мамой дали отдельную комнатку. На другой день зашел врач, посмотрел обоих, сказал маме: «Прилягте, гражданка, я сейчас вернусь». Но не вернулся.
Вечером мама позвала Женю присесть рядом и сказала:
— Зря ты Женечку вместо меня не взял.
— Да ладно! – засмеялся он.
— Так в Москве и не побывала, – сказала мама и заснула.
«А и правда – подумал Женя. – Это только наружный периметр. Карантинная граница. А настоящая Москва там, в конце коридора, где второй контроль».
Утром мама была уже холодная.
Врач и полицейский не велели Жене брать мамин чемодан. «Заразно!».
Женя проводил взглядом каталку, на которой лежала мама, в ногах у нее, клонясь и чуть не падая, стоял серый чемодан с ремешками крестом, вспомнил про крест, перекрестился и пошел, подхватив свой чемоданчик, в конец коридора.
Он выложил свои документы на прилавок и напористо изложил ситуацию. Типа что его мать, указанная в документе как законный спутник по разрешению второй степени, ранним утром скончалась от стафулоза, вот справка.
— Ну и? – спросил пограничник, старик в толстых очках.
— Ну и я имею право въехать со спутником. Имею право вернуться и привезти спутника. В смысле спутницу. Разрешение действует год с момента выдачи. Прошло меньше месяца.
— Знаете, что? – вдруг засмеялся пограничник, снял и протер очки. – Вы знаете, нас учили никогда не говорить гражданину: «Вы правы!». Надо всегда говорить: «Вы ошибаетесь, есть параграф такой-то пункта такого-то!». Гражданин не может быть прав перед официальным лицом. Но вот тут, – и он надел очки на свой толстый пористый нос, блестящий от жира, – но вот тут все-таки нет! Вы всё-таки правы! Такой редчайший случай, можно сказать…
Он вбил какие-то цифры в компьютер, а потом переписал их в конторскую книгу. Долго писал, пыхтя и склоняя голову.
— Ишь! – вздохнул Женя.
— Сервера горят, – ответно вздохнул старик. – Или жгут их, черт знает. Может, диверсанты? Саботёры? Как думаете?
— Без понятия, – честно сказал Женя.
— Я тоже, – сказал пограничник. У него от старости немножко тряслась голова. – Вот ваш паспорт и разрешение. Езжайте за подружкой! – он подмигнул.
***
Когда Женя вернулся в родной город, он первым делом, прямо с поезда, пошел на кладбище. Заказал в конторе, чтоб на могиле папы подтюкали мамино имя-отчество-фамилию: Колодкина-Семендеева Фаина Макаровна.
Потом сразу побежал к любимой девушке Жене, чтоб она его утешила в несчастье, это раз. И чтоб они быстро сбегали в МФЦ оставить заявление на брак, это два. И чтоб она тоже начала собирать чемоданчик ехать с ним в Москву, это три.
Когда он подошел к домику, где Женя жила с родителями посреди яблочного сада и двух курятников, он увидел, что там пристроены еще две комнаты, примерно шесть на шесть.
Женя сидела в саду на скамеечке, резала яблоки на варенье, а вокруг бегал ребеночек года в полтора. Еще немтырь, но веселый: Женя ему говорила: «Мишенька, Мишенька», а мальчик гукал в ответ и кричал вроде «Да! Да!» и ручонки тянул к тазу с резаными яблоками.
Женя полюбовался этой милотой, но сказал:
— Жень, когда успела?
— Привет! – сказала она. – Да вон сколько времени прошло, как ты меня тут оставил ради мамки своей.
— Она померла.
— Царствие небесное. Хорошая была женщина Фаина Макаровна, а ты мамочкин сынок. Тьфу. Все профукал.
— Женя! – вскричал он. – Так ведь меня всего четыре дня не было! Ты что?
— У нас тут время быстрее идет. Не знал? В сто раз примерно. Или даже еще. Вон ты какой молодой, а у меня уже морщины пошли.
— Да какие морщины! – он потянулся было к ней, но она сказала:
— Ступай откуда пришел!
Ребеночек закричал. Собака залаяла, загремела цепью.
***
Ну и ладно! Значит, одному в Москву.
А в Москве тот же самый пограничник сказал и показал, что в разрешении написано: «однократное пересечение границы». А он, значит, ее уже пересек и обратно уехал. Вот штампики. Так что пардоннэ муа.
— Нет уж это вы пардоннэ! – твердо возразил Женя. – Я пересек только наружную границу. Карантинную! А за внутреннюю не заходил. Границу Москвы в собственном смысле слова я не пересекал. Там должен быть второй, главный штампик. Вы его не поставили! Пропустите меня!
— Экие вы все умные стали, – бормотал пограничник, глядя в бумаги то сквозь очки, то поверх очков. – «В собственном смысле!», – передразнил он. – Вы опять-таки правы. С точки зрения здравого, так сказать, смысла. Но в разрешении не сказано про две границы. Написано: «однократное пересечение границы»! А какой – карантинной или административной – не записано. Знаете, что?
— Что? – сказал Женя, холодея и надеясь одновременно.
— Оставьте ваши координаты, с вами свяжутся.
— Какие еще координаты? – выдохнул Женя. – Вы сканировали мой паспорт!
— Сервера горят, – закивал головой старик-пограничник. – Что ни день горят. Саботёры, пароль д,онёр! Давайте я лучше в книжечку запишу.
Он достал конторскую книгу, растрепанную и замусоленную, поплевал на карандаш, склонил голову набок:
— Диктуйте!
***
Вернувшись домой, Женя вспомнил, что так и не увидел живую Москву, хотя бы из окна поезда. Когда подъезжал к пропускному пункту и когда отъезжал – тоже. Там были сплошные мосты и стены, стены и мосты, а домов совсем не видать.
Тем более что туман.
«А может, Москвы и вовсе нет, кроме как в телевизоре?» – подумал он и стал доставать из чемодана брюки, майки и прочее свое небогатое добришко.
Марина Абрамович — сербская художница, прославившаяся перформансами, исследующими отношения между художником и зрителем. Писательница Ольга Брейнингер провела неделю в Marina Abramovic Institute, изучая метод художницы и ведя подробный дневник о своем опыте. Публикуем ее рассказ о жизни Марины Абрамович и (курсивом) фрагменты этих дневников.
Марина Абрамович не чувствует боли?
«Во всех перформансах Марины есть элемент боли. Преодоление этой боли — часть перформанса», — говорит наш куратор Линси и исчезает. Точнее, просто уходит — но мы ее не видим, мы только слышим голос, дыхание, а потом их не становится, Линси не становится, и почти сразу наступает боль.
Я считаю секунды и стараюсь медленно дышать. Группа разбита на пары, я сижу напротив Иана, мы смотрим друг другу в глаза, нам нельзя моргать, нельзя шевелиться, нельзя отводить взгляд, нужно дышать осторожно, отвлекаться как можно меньше, а как можно больше — присутствовать. Они постоянно напоминают нам, что это самое важное — быть present.
Как Марина Абрамович во время своего самого знаменитого перформанса «The Artist Is Present», «В присутствии художника», когда она девяносто два дня подряд по восемь часов смотрела людям в глаза в Музее современного искусства Нью-Йорка — спокойная, застывшая в одной позе, почти никаких движений. В конце дня Марина вставала со стула, медленно, будто в полусне, а потом ложилась на пол, сворачиваясь, как цветочный бутон, закрывающийся к ночи, утопая в лепестках сложносочиненного длинного платья. Она казалась осунувшейся, черная коса превращалась в траурную рамку у лица; было во всем этом странное волшебство, и я перематывала снова и снова, думая: но ведь это несложно — просто сидеть и смотреть?
Мы все думали, что это легче легкого — сидеть и смотреть друг другу в глаза. Все улыбались, рассаживаясь по парам, на лицах — уверенное выражение, у меня, наверное, тоже. Минуты через три-четыре все меняется. Краем глаза я отмечаю движение: кто‑то встает со своего стула, в голосе слышны слезы. «I’m sorry, I can’t do this now. I just can’tПростите, я не могу. Просто не могу.». Я узнаю Марию — c удивлением, она ведь казалась самой вовлеченной, старательной. Когда я увидела ее на площадке потом, она улыбнулась неловко и отвернулась, как будто ей было стыдно за то, что не смогла. Но мне кажется, ей пришлось остановиться потому, что она больше всех верила в эту магию, верила как‑то безусловно, как ребенок. В какой‑то из дней все мы поверили в то, что метод работает.
Если всю жизнь играешь с болью, то, наверное, не боишься ее и чувствуешь не так сильно, как обычные люди. Так я всегда думала про Абрамович. В конце концов, это ведь она подростком, возненавидев свой нос, как‑то раз рассовала по карманам вырезанные из журнала портреты Брижитт Бардо, отправилась в спальню родителей, встала напротив большой деревянной кровати и принялась быстро-быстро кружиться на месте. План был простым, кровавым и амбициозным: довести себя до головокружения, упасть и в падении удариться о край кровати так, чтобы сломать себе нос. А в больнице показать врачам картинки с Бардо и попросить сделать такой же нос. Конечно, она не боится боли. (Сломать нос Абрамович все-таки не удалось. Вместо этого она рассекла щеку, получила пару затрещин от матери, а годы спустя написала, что рада той неудаче — ведь с носом Брижитт Бардо ее лицо «было бы катастрофой».)
Марина Абрамович и боль — их даже собирать в одно предложение неловко. Она резала себе пальцы в странной версии игры в ножички в первом публичном перформансе «Ритм 10». Едва не сгорела заживо внутри пылающей деревянной звезды в «Ритме 5» и была разочарована тем, что потеряла сознание: «Я была очень зла, потому что я поняла, что возможности тела ограничены». Словно в отместку себе в «Ритме 4» приняла на сцене таблетки от кататонии — и, наконец, добилась своей цели: даже полностью потеряв контроль над телом, сотрясавшимся от спровоцированных лекарством судорог, она оставалась в сознании все это время, а затем приняла таблетки от шизофрении, дающие противоположный эффект. В «Губах Томаса» она хлестала себя плетью, вырезала на животе пятиконечную звезду и распяла себя на кресте изо льда.
Зная все это, сложно поверить, что Абрамович всегда боялась крови.
Может быть, из‑за частых побоев матери, заканчивавшихся расквашенным носом. Может, из‑за того, что она прожила три месяца с непрекращающимся кровотечением после того, как у нее выпал первый молочный зуб. Может быть, из‑за того, что три месяца спустя родители все-таки отвели ее в больницу, а забрали через год, потому что у Марины обнаружилось заболевание крови.
А еще, описывая свои перформансы, она всегда пишет о боли. О боли и о том моменте, когда боль перестает существовать.
«Ритм 0»
В 1974 году, в неапольской галерее Студио Морра Марина Абрамович вышла к посетителям, с головы до ног одетая в черное. На столе перед ней были разложены 72 предмета — от флакона духов, помады, пера, колокольчика и шляпы-котелка до заряженного пистолета, ножниц, булавки и разделочного ножа. И записка — инструкция к перформансу.
«Ритм 0»
Инструкции
На столе находятся 72 предмета, которые вы можете использовать в отношении меня любым образом, каким захотите.
Перформанс
Я объект.
На это время я принимаю на себя полную ответственность за происходящее.
Длительность: 6 часов (с 8 вечера до 2 ночи)
1974
Студио Морра, Неаполь
Начало было мирным. Осторожным. Зрители перебирали вещи на столе, аккуратно касались Марины. Кто‑то провел по ее коже розовым бутоном, мягко, чтобы не поранить шипами. Кто‑то поднял ей руки — Марина отзывалась, как кукла: пока шел перформанс, ее тело принадлежало зрителям. Кто‑то поцеловал ее. Не прошло и двух часов, как любопытство сменилось агрессией. С Марины сорвали всю одежду. Кто‑то сделал глубокий порез на шее Марины, чтобы попробовать на вкус ее кровь. В тело втыкали шипы, над ней издевались, кололи булавками, обливали водой, наконец кто‑то приставил к ее виску пистолет, и разразилась драка: половина посетителей галереи хотела, чтобы выстрел прозвучал, половина была против.
Через несколько минут я начала плакать, и слезы заливали все лицо. Из‑за контактных линз казалось, что у меня в глазах песок, я перестала видеть Иана, все стало расплываться, и меня перебрасывало из одной оптической иллюзии в другую. Лицо Иана стало меняться: я видела маску, свет был и не был, все кружилось, еще несколько минут, и задеревенело тело, заболело сразу все, мне никогда так не хотелось повести плечами или хотя бы пошевелить пальцами. Я увидела, что у него тоже текут слезы, а руки дрожат, но потом я вспомнила, что нам нужно смотреть в одну точку на лице, не переставая, потому что когда нарушается зрительный контакт, нарушается доверие между партнерами. По лицу Иана гуляли тени и свет, мир сузился до нас двоих, я забыла обо всех остальных людях, с которыми делила голод, молчание и боль все эти дни. А потом (не знаю, когда именно я это заметила) боль исчезла. Я больше не плакала. Я смотрела на Иана не моргая, это было легко. Когда Линси вернулась с «You can stop now»«Можете закончить»., я взяла Иана за руки, мы еще сидели так несколько секунд, все еще смотря друг на друга, но теперь уже с улыбкой, и моргать было можно. Разминаясь в проходе между стульями, я заметила, что он так и не поднялся, продолжал сидеть как сидел. Все выглядели изнеможенными. Тедди лежал на полу, закрыв глаза, Джозефина — на спине, закинув ноги на стул. Я думала, что к последнему дню воркшопа буду умирать — совсем или почти, но сейчас я была счастлива и, поймав на себе лучи солнца, я стала танцевать. Никто не смотрел на меня, потому что сил оставалось только смотреть на себя. Не понимаю, что случилось со мной, но у меня было полно энергии, весь день дался легко; я хочу больше, я больше не боюсь. Линси сказала, что я выгляжу как другой человек.
Когда владельцы галереи объявили перформанс законченным, Абрамович впервые подняла на зрителей глаза — и те, кто еще несколько минут назад легко причиняли ей боль, стали один за другим покидать зал, стараясь не встречаться с ней взглядом.
Может быть, именно тогда у Марины появился этот тяжелый взгляд. Взгляд Марины Абрамович. Взгляд, способный менять других людей. Проснувшись на следующее утро, она обнаружила у себя седую прядь. «В этот момент я поняла — публика может убить», — напишет она позже.
Искусство — это процесс
К искусству перформанса Марину Абрамович привели мигрени и сожженный холст.
Мигрени преследовали ее с юности. «Я лежала в постели в агонии, изредка выбегая в ванную, чтобы выблевать и опорожнить кишечник одновременно. От этого боль только усиливалась», — так она описала их в автобиографии. Марина приучила себя часами лежать неподвижно, прислушиваясь к своему телу и находя позы, в которых боль хотя бы немного ослабевала. Это были ее первые победы над болью и страхом.
Первый день воркшопа, а я уже схожу с ума. Во время знакомства мне хотелось взять рюкзак, тихонечко всем помахать и уйти, не прерывая ничьих разговоров. Здесь все, что мне противоположно, противно: непонимание времени, необходимость жить, постоянно быть вместе с кем‑то, невозможность спрятаться в своей комнате (комната есть, прятаться нельзя), ледяной пруд завтра утром и каждое утро после этого, ледяные ноги под одеялом прямо сейчас.
В четырнадцать лет Марина попросила отца купить ей масляные краски — она захотела научиться рисовать. (И, кстати, начинала свою художественную карьеру именно с картин: училась академической живописи в Академии художеств, на заказ писала портреты родственников и натюрморты, подписывая все свои полотна синими буквами: «Марина».)
Первый урок ей дал друг отца, художник Фило Филипович. Он бросил холст на пол, налил на него клея, насыпал песка, положил две краски, черную и золотую. А затем поджег холст, сказал Марине, что это закат, и ушел. Первый урок рисования оказался и первым уроком перформанса: Марина увидела, что важен не результат, а процесс, что художник важнее артефакта, что искусство существует не во времени, а в моменте. Именно эти идеи и лягут в основу метода Абрамович — но намного позже, десятилетия спустя.
Весь третий день мы считали рис и чечевицу. Когда Паола с Линси позвали нас в домик для встреч, столы были накрыты белыми скатертями, на каждой — горка риса, смешанного с чечевицей. Нужно было разделить их и пересчитать зерна. Первые два часа мне почему‑то было весело и интересно, проснулся азарт. Потом я увидела, как медленно растут белая и черная горстки — рис слева, чечевица справа — как почти не убывает пестрая гора посередине, стало ломить пальцы и шею, из‑за плохого освещения заболели глаза, и все постепенно теряло четкость. Конечно, они не могут оставить нас так на весь день. Рано или поздно Линси придет и скажет: «You can stop now». Но Линси не приходила. Я снова поймала себя на ощущении, будто все мои нерешенные дела, вопросы, проблемы и мысли, которые я годами подавляла, вспыхивают и выстраиваются в сознании барьером между мной и заданием, между мной и вниманием, между мной и концентрацией. Дедлайны, которые приближаются, пока я здесь, в Греции, сижу за столом в полутемной комнате и считаю рис с чечевицей. Незавершенный перевод. Статьи. Роман. Монография, черт возьми, — а я ведь решила, что даже думать не буду о ней раньше 2022-го. Я словно пыталась совместить в голове два мира: тот, большой, внешний, в который придется вернуться через два дня, — и за метод Абрамович этот мир мне скидку не даст, и этот мир-игру здесь, прямо сейчас. Мир, основанный на условности, которую нужно принять и делать то, что предполагается правилами ради того, что имеет здесь ценность — ведь за этим (ценностью? игрой?) я и приехала сюда. Я ведь могу в любой момент встать из‑за стола, послав к черту рис, чечевицу и ненавистный пруд по утрам. Но действительно ли эта реальность меньше той, другой? «Нет, не меньше», — отвечал кто‑то в моей голове за меня, и в какой‑то момент мне удалось выпихнуть дедлайны, карантин и десять страниц в день за пределы своих мыслей, и было в этом что‑то правильное.
УлайиМарина
Ранний этап перформансов Абрамович — от показанного в Эдинбурге «Ритма 10» до скандального и страшного «Ритма 0» — увенчался «Губами Томаса», который Абрамович показала дважды в 1975 году. Второй раз ее ассистентом выступил немецкий художник Франк Уве Лейсипен, или, как все его звали, Улай.
Марина всегда знала, что Улай уйдет — в этом она признается в своей автобиографии. Но они были влюблены и одержимы друг другом, они делили день рождения, заканчивали друг за друга фразы, считали боль дверью в новое сознание и хотели вместе делать искусство. С самых первых дней отношений и тайных встреч Марина и Улай постоянно фотографировали друг друга на «Полароид», записывали свои телефонные разговоры и документировали каждый поступок. Они были уверены, что из этих отношений родится великое искусство, что они создают свою хронику для вечности.
Вскоре Марина тайком от матери и от первого мужа (с ним она разведется спустя восемь месяцев) уехала в Амстердам с одним-единственным чемоданом. В нем — только фотографии ее работ. Никакой одежды, никаких личных вещей — Марина боялась, что мать догадается о планах побега. В каком‑то смысле эта деталь окажется символической: c этого момента Марина и Улай перестанут существовать как отдельные личности. Вместо них появится УлайиМарина, или «клей» — так они называли друг друга.
Я знаю, зачем я здесь? Зачем я здесь?
Первая совместная работа Улая и Марины «Отношения в пространстве» была вдохновлена игрушкой «колыбель Ньютона». Обнаженные, они расходились по разным сторонам ангара, где проходил перформанс, а потом бежали навстречу другу другу, врезались друг в друга, теряли равновесие, падали, возвращались и снова бежали друг на друга, и звуки ударов от новых и новых встреч двух тел отсчитывали ритм, превращаясь в музыку. Позже они создали еще несколько версий этого перформанса. В «Препятствии и пространстве» Марина и Улай так же бежали друг навстречу другу, но не могли встретиться ни взглядом, ни телами, потому что их разделяла стена. В «Расширении в пространстве» становились друг к другу спиной в центре зала подземной парковки и разбегались, каждый раз врезаясь в деревянные колонны.
В перформансе «Вдох/выдох» они заткнули ноздри сигаретными фильтрами, прикрепили к шее микрофоны и, примкнув к губам друга друга, по очереди делали один выдох за другим, до тех пор пока не закончился кислород. Через семнадцать минут этот странный поцелуй-дыхание прервался: Марина и Улай упали на пол без сознания.
Чтобы стать свободными ото всех и всего (включая арендную плату за квартиру), Марина с Улаем купили подержанный фургон, выкрасили белой матовой краской, загрузили туда матрас, печатную машинку, шкаф для документов и ящик для одежды и написали в честь новой кочевой жизни совместный манифест.
«Живое искусство»
Отсутствие постоянного места жительства. Движение энергии.
Постоянное перемещение. Отсутствие репетиций.
Прямой контакт. Никакого фиксированного исхода.
Локальное общение. Отсутствие повторений.
Свободный выбор. Расширенная уязвимость.
Преодоление границ. Подверженность случаю.
Принятие риска. Первичные реакции.
В этом фургоне они три года колесили по Европе, создавая перформансы, вместе преодолевая границы, боль и повседневную жизнь. Они были счастливы, свободны. Они завели собаку. Они были так бедны, что временами им было нечего есть, а Марина приходила на заправку с пустой бутылкой в руках — больше бензина они купить не могли. Они кричали друг на друга до потери голоса в перформансе «ААА-ААА», занимались любовью, чтобы согреться, превращались в музыкальные инструменты, извлекая друг из друга звук с помощью пощечин во время перформанса «Свет/тьма».
Иногда приглашения от галерей приходили одно за другим, иногда их неделями не было. Иногда гонорар выплачивали, иногда нет. Готовясь показывать в Болонье «Импондерабилию», Марина и Улай каждый день приходили в галерею за деньгами и каждый день уходили с пустыми руками. В день показа у них закончилось терпение. Голый Улай ворвался в комнату администрации, заставил секретаря выплатить им гонорар наличными и лишь после этого приступил к перформансу.
В «Импондерабилии» Марина и Улай стали дверью в музей: обнаженные, они стояли в дверном проеме, заставив каждого посетителя музея протискиваться внутрь сквозь эту живую раму, лицом к лицу с обнаженной женщиной или мужчиной. Через шесть часов Марина и Улай завершили перформанс, забрали пакет с деньгами, который Улай спрятал в бачке общественного туалета, и отправились дальше.
Лучшая иллюстрация их отношений в то время — перформанс «Энергия покоя». Марина и Улай стоят лицом друг к другу, Марина держит лук, а Улай — натянутую тетиву. Стрела нацелена Марине прямо в сердце. Под рубашками спрятаны микрофоны, публика слышит, как бьются их сердца.
Нам нельзя: разговаривать, есть, пользоваться часами и любыми девайсами, читать, пользоваться шампунем, дезодорантом и косметикой, флиртовать, заниматься сексом, уходить в свою комнату днем.
Мы должны: вести дневник (вот я и веду), приходить, когда слышим звук свистка, между упражнениями находиться на улице в пределах видимости друг друга вместе, как группа, вставать, как только услышим стук в дверь, через две минуты стоять с полотенцем на площадке, еще через минуту раздеваться догола и нырять в ледяной пруд. Я ненавижу ледяной пруд и отворачиваюсь в другую сторону, когда прохожу мимо. Я назвала его Ненавистный пруд.
Навстречу боли
Идеальное равновесие — но не вечность. Спустя три года Марина и Улай оставили кочевой образ жизни и вместе с друзьями сняли лофт в Амстердаме. Они продолжили создавать перформансы, о них все чаще писали критики. Точнее, все чаще писали о Марине, а Улай оставался в тени — иногда его имя даже не упоминалось.
Если раньше боль делала их единым целым, то теперь она стала причиной разрыва. В 1980 году Марина и Улай показали в Сиднее «Золото, найденное художниками» — художественное переосмысление шести месяцев жизни в пустыне с австралийскими аборигенными племенами питьянтьятьяра и пинтупи. Главный урок пустыни и тех, кто научился там не только выживать, но и просто жить, Марина сформулировала так: «Не двигаться, не есть, не говорить». Поэтому Марина и Улай должны были шестнадцать дней держать пост и проводить по восемь часов каждый день, сидя друг напротив друга, смотря друг другу в глаза.
Для Улая и Марины это был первый случай за годы совместной работы, когда кто‑то из них не смог справиться с болью. Марине удавалось преодолеть порог боли и войти в то особое состояние сознания, которое помогало ей осуществлять сложные длительные перформансы. Улай же дважды уходил, ожидая, что Марина последует за ним. В конце концов, Марина смогла убедить его продержаться шестнадцать дней.
Вернувшись из Австралии, Марина и Улай продолжили работать вместе. Они много путешествовали, снимали кино, учились духовным практикам и создали свою самую провальную работу «Абсолютный ноль». Сходились и расходились, били посуду, встречались с другими и все больше отдалялись друг от друга. В конце концов, единственным, что держало их вместе, оказалась идея перформанса «Влюбленные»: мужчина и женщина, которые идут навстречу друг другу по Великой Китайской стене. Когда Марина и Улай впервые задумали эту работу, они решили, что, встретившись на полпути, поженятся. Но подготовка к перформансу — поиск спонсоров, переговоры с культурными организациями, попытка получить от Китая разрешение на перформанс — затянулась почти на девять лет. И когда Марина и Улай действительно вышли навстречу друг другу, они шли навстречу расставанию, условившись, что это будет их последняя встреча.
Все в этом перформансе оказалось не так, как Марина и Улай когда‑то мечтали. Им казалось, что стена будет непрерывной дорогой, которую они вместе пройдут от начала до конца. Они собирались каждую ночь ставить палатку на стене и провести в полном одиночестве девяносто дней и ночей, пока не встретятся посередине.
Во время перформанса и Марину, и Улая сопровождали переводчики и команда солдат, которая одновременно и охраняла их, и следила за ними. Просто идти по стене было невозможно: оказалось, что местами она была разрушена, некоторые секции были погребены в песке, другие находились в закрытых военных зонах. Марине и ее сопровождающим то и дело приходилось карабкаться вверх по отвесным склонам, а в горах иногда поднимался такой сильный ветер, что всей группе приходилось пережидать непогоду лежа, чтобы их не сдуло со стены. Маршрут Улая был проще, потому что он шел через пустыню. Ближе к середине похода Марина получила состоявшее из одной фразы сообщение от Улая: «Идти по стене — самая легкая вещь на свете.» Марина была в ярости.
О палатках, конечно, и речи не шло: они ночевали в грязных гостиницах или случайных деревенских домах, где в двух раздельных комнатах вповалку спали мужчины и женщины всех возрастов. Каждый вечер Марине приходилось сходить с маршрута и тратить два часа, чтобы добраться до ближайшей деревни. А утром два часа идти обратно, чтобы вскарабкаться на стену.
Даже сама встреча оказалось не такой, как планировалось. Улай прибыл на три дня раньше Марины, и ждал ее не на стене, а в живописном местечке поодаль: он решил, что так фотографии их встречи будут эффектнее. Обнявшись в последний раз, они расстались. На посвященных «Влюбленным» выставках в Амстердаме, Стокгольме и Копенгагене организаторам приходилось проводить две отдельные пресс-конференции и два приема в честь открытия: Улай и Марина не разговаривали и не хотели друг друга видеть.
Абрамович понадобилось еще четыре года, чтобы окончательно проститься с Улаем. Она сделала это во время перформанса «Биография», который показывала в Европе в 1992 году. «Биография» повторяла некоторые ранние работы Марины. Все перформансы с участием Улая показывались на двух разделенных экранах. УлайиМарина больше не существовал — только Улай и Марина, каждый на своем экране.
Подходы и техники: как перебирать и считать рис и чечевицу
- Сount as you separateСчитать, разделяя. — в основе лежит принцип чередования и повторения. Переключение между двумя разными типами движений (разделение зерен — пересчитывание — разделение — пересчитывание — разделение — пересчитывание).
- Count and then separateРазделять, а затем пересчитывать. — в основе принцип создания и разрушения. Сначала ты пересчитываешь количество зерен риса + чечевицы (то есть создаешь что‑то единое), а потом разрушаешь созданное, принимаясь разделять пересчитанное на две разные горки.
И то и другое — снова про перформанс и все, что мы здесь делаем: повторение, отсутствие начала, отсутствие конца, отсутствие цели, концентрация в моменте, отключение от реальности, переживание себя в процессе переживания процесса. Мы ни к чему не идем. Но разве обязательно идти (создавать внешнее движение), чтобы делать? И обязательно ли делать?
Дышать и не дышать
Двенадцать лет, разделяющие «Влюбленных» и «В присутствии художника», были для Абрамович временем постоянных путешествий, открытий и экспериментов. В Амстердаме она купила здание, в котором располагался наркопритон, и превратила его в свой дом. Продолжала создавать перформансы и исследовала себя в духовных поездках по Юго-Восточной Азии. Вышла замуж за итальянского художника Паоло Каневари и пережила депрессию, когда они развелись после четырех лет брака. Работала в театре, создала оперу, фотографировала. Переехала в Нью-Йорк. Создала серию «преходящих объектов» из кварца, обсидиана, аметиста и других минералов, привезенных из Китая, — эти объекты не создавали смыслы сами по себе, но становились частью перформанса, когда к ним прикасались. Проводила персональные выставки по всему свету. Переживала провалы и не боялась пробовать новое. По просьбе британского куратора Невилла Уэйкфилда сняла фильм «Балканский эротический эпос».
На Венецианском биеннале в 1997 году Абрамович показала страшный, скандальный и без преувеличения великий перформанс «Балканское барокко», за который ей присудили премию «Золотой лев». В нем Абрамович переживала вместе со зрителями события войны в Югославии. На экранах чередовались фоновые видео: интервью с родителями Марины; запись, где она в роли ученого, в очках и белом халате, рассказывала страшную балканскую легенду про крысоволка. На третьем видео она снимала очки и халат ученого и, оставшись в одной черной комбинации, с красным платком в руках танцевала неистовый эротический балканский танец. Эрос, Танатос, и снова Эрос сменяли друг друга, а Марина то пела народные песни, то рыдала, то рассказывала балканские истории, стоя на груде костей, покрытых кровью, слизью и остатками мяса, в которых уже стали заводиться личинки. В душном подвальном помещении, где Абрамович показывала свою работу, стоял ужасный смрад. Публика едва выдерживала запах, но что‑то заставляло их оставаться и завороженно наблюдать за тем, как Марина отмывает кости — страшную память о войне в Югославии, о любой войне.
Среди самых известных работ Абрамович есть и совершенно иной по духу перформанс «Дом с видом на океан», который она создала пять лет спустя, уже переехав в Нью-Йорк. Она спроектировала в галерее Шона Келли инсталляцию: три большие платформы со стенами, закрепленными на высоте полутора метров над полом. На одной стояла кровать, на другой — стул и стол, на третьей — туалет и душ. Каждую платформу с полом соединяла лестница, но ступени были заменены ножами, закрепленных лезвиями вверх. Четвертой стены ни у одной из платформ не было, и Марина провела двенадцать дней подряд на глазах у публики.
То, что издалека представлялось самым сложным, дается легче всего. Отсутствие связи с внешним миром даже приятно, хотя мысленно я часто пишу сообщения в семейный чат. Но вернуться к айфону и большому миру как будто даже не хочется.
Молчание — не просто легко, это счастье. Смотреть за другими, улыбаться или улыбаться в ответ и ничего не говорить. Оказывается, понимать других можно без слов, и так даже лучше. Выплескивать друг на друга непрошеные эмоции и слова — почти что форма эмоционального насилия, так кажется сейчас.
Все мы, тринадцать участников, незнакомы. Все мы постоянно наблюдаем и постоянно находимся под наблюдением. От одного к другому между нами протягиваются невидимые цепочки.
Многие зрители подолгу задерживались в галерее, наблюдая за Мариной. Среди них была Сюзен Зонтаг, которая приходила почти каждый день, — так началась их дружба с Мариной.
Все двенадцать лет Абрамович также преподавала перформанс и проводила тренинги, которые «учили выдержке, концентрации, восприимчивости, самоконтролю, силе воли и тестировали ментальные и физические ограничения» ее студентов. Обычно она на несколько дней вывозила студентов за пределы города, держала вместе с ними пост и придумывала специальные физические упражнения.
Я думала, что, возможно, все дело в каком‑нибудь внезапном инсайте, мистическом откровении, просветлении или чем‑то таком. Ведь если несколько дней не есть, не говорить, не понимать, как идет время, выполнять все эти упражнения — а они оказались гораздо тяжелее, чем я думала, это настоящий, тяжелый, выматывающий физический труд — то наверняка рано или поздно настанет момент измененного состояния сознания (по сути, то же, к чему людей приводят пост, одиночество, аскеза или состояние, когда пишешь ночами напролет и в голове однажды наступает экстатическое прояснение). Но если честно, я буду очень разочарована, если так произойдет. Это как будто cheating, слишком легко. Кто я такая, чтобы ожидать, но я ожидаю от Абрамович гораздо большего.
В этих упражнениях слышны отзвуки и ее собственных перформансов («Золото, найденное художниками», «Ночной переход», «Дом с видом на океан»), и впечатлений от жизни с аборигенами в Австралии, и множества других творческих и духовных практик, которые Абрамович проходила: випассана в Индии, один миллион сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать повторов одной и той же мантры в монастыре Тушита в Гималайях. И, конечно, суровой материнской дисциплины и воспитания родителями-партизанами.
Главной целью своих тренингов Марина считала подготовку тела и разума к переходу в то особенное состояние, которого требуют искусство выносливости и перформанс. Эта работа постепенно вела Марину к перформансу «В присутствии художника» и к созданию метода Абрамович.
Присутствие
В списке двадцать пять лучших перформансов, опубликованным Complex Network в 2013 году, журналистка Дейл Айзингер отвела Марине Абрамович девятое место за «Ритм 0» и «В присутствии художника» и отметила, что эти два перформанса — своего рода диалог, отражающий траекторию развития главной «навязчивой идеи» (допустим, это приемлемый синоним «творческих поисков») Абрамович: взаимоотношений между художником и публикой. Если в «Ритме 0» Абрамович исполняла роль объекта, отданного во власть публики, то «В присутствии художника» — потрясающий в своей мощности и убедительности statement о безграничных возможностях искусства и художника как его медиума.
Айзингер пишет, что перформанс «В присутствии художника» в каком‑то смысле превратил Абрамович в поп-звезду — идеальное описание того, что произошло с Абрамович за те 92 дня в музее MoMA.
Сегодня удивительно пересматривать кадры из фильма «В присутствии художника», где Марина рассказывает, как переживала, что новая работа может показаться публике слишком пресной в сравнении с прошлыми.
Говорят, что это случается с каждым. кто приезжает на тренинг, — рано или поздно случается срыв, переломный момент, после которого идешь вверх, и боль отпускает. Я не могла спать всю ночь, смотрела в окно, пытаясь понять, темно там, или уже светает, и я снова буду стоять перед Ненавистным прудом. Я так устала бояться, что, когда созвали на утреннюю встречу, я разделась и зашла в воду первой. Кожей было больно, миллионы иголок. Страх ушел. Зачем я заставляла себя не дышать? Завернувшись в полотенца, мы пошли на утес делать утренние упражнения. Мне хорошо дышалось, черт возьми.
«В присутствии художника» — возможно, первый перформанс, который смог заговорить со зрителями на универсальном и понятном каждому светском языке вместо языка профессионального искусства. Перформанс, превратившейся в миф о перформансе, не в последнюю очередь благодаря сцене примирительной встречи Марины с Улаем после долгих лет взаимного молчания. Может быть, именно отзвуки этой встречи с ее пронзительной, несмотря на предварительную домашнюю репетицию, честностью — удивление Марины, осторожная улыбка, слезы и исчезнувший, пусть на доли секунды, тот самый взгляд Марины Абрамович — заставили весь мир поверить, что люди, выходившие из MoMA в слезах, в потрясении, признававшиеся в том, что мимолетная встреча и взгляд Абрамович заставили их измениться, не преувеличивали, а говорили правду.
Перформанс — это не о тебе, это о том, кем ты можешь стать.
Сложность искусства перформанса часто недооценивается; в него не верят и его не понимают, потому что перформанс состоит в особых отношениях со зрителем и со временем. Перформанс возможен только тогда, когда у него есть свидетель, когда за художником наблюдают, отсюда и центральная для метода Абрамович метафора взгляда. Взгляд зрителя — условие присутствия, того самого presence, художника и его работы, взгляд проявляет и облачает в материальную форму историю, которую художник может рассказать через свое тело, если за ним наблюдают. Это делает зрителя полноправным соучастником и сотворцом перформанса, а перформанс — в буквальном смысле непередаваемым опытом.
Перформанс невозможно пересказать или запечатлеть в историческом времени, он не существует в прошлом и настоящем — только здесь и сейчас, когда время художника и время зрителя внезапно становятся единым целым.
Метод Абрамович
«Marina Abramovic is the greatest commodity of the XXI century»,Марина Абрамович — главный коммерческий продукт XXI века. — говорит Паола.
«В присутствии художника» изменил жизнь Абрамович. Каждый день она получала сотни писем, ее узнавали на улицах, о ней писали в колонках светских новостей и сплетен, ее обсуждали, ее обожали, ее критиковали за каждый новый шаг и дружбу со знаменитостями. «Все считают, что художник должен страдать. А я достаточно пострадала за свою жизнь,» — написала она о том времени. Вместе с этим пришли и новые амбициозные возможности. Например, Институт Марины Абрамович.
Почти все в группе, кажется, знают, что нам предстоит: перебрасываются названиями упражнений, говорят, что много читали о Марине и о методе Абрамович в прессе. Кто‑то приезжает на тренинг уже второй раз. А я даже не помню, как отправляла свою заявку. Не помню этого куска из прошлого. А в настоящем я, похоже, начинаю понимать, что следующие четыре дня будут приблизительно невыносимы. Когда мы представлялись по кругу и говорили о своих ожиданиях от воркшопа, я сказала: «Я ужасе. Нет, серьезно, я не понимаю, почему вы все не боитесь, как будто нам предстоит easy tripЛегкое путешествие.». Нам с Алексией выдали одну комнату и один фонарик на двоих, так что теперь мы соседки по комнате и близнецы, которым по вечерам придется ходить вместе вечером (кажется, темнеет здесь рано). Хорошо, что хотя бы молча.
Абрамович собрала команду ярких молодых художников (и первом делом, конечно же, заставила их всех перебирать рис и чечевицу). В 2012 году они запустили на Kickstarter сбор средств на открытие Института Марины Абрамович в Хадсоне. В качестве видео для рекламной кампании были использованы фрагменты записей тренинга по методу Абрамович, которые Марина провела для Леди Гаги.
Все лоты, придуманные Мариной, были нематериальными. Сделав пожертвование в размере 1000 долларов, можно было в течение часа смотреть Марине в глаза по скайпу. 5000 долларов в фонд будущего Института позволяли прийти в гости к Марине домой, чтобы вместе посмотреть кино. Благодарностью за 10 000 долларов были отсутствие награды и полная анонимность патрона. Кампания собрала 600 000 долларов, и Марина потратила год на то, чтобы выполнить свое обещание и убедиться, что каждый патрон получил свое вознаграждение.
Но первоначальный план создания Института в Хадсоне оказался невыполнимым. И тогда Абрамович решила сделать Институт нематериальным — как когда‑то лоты в кампании на Kickstarter. Новая концепция кочевого института создавалась под девизом «Не приходите к нам — мы придем к вам». Одним из главных пунктов творческой программы ИМА стало распространение метода Абрамович, и на выставке «512 часов» в галерее Серпентайн в Лондоне Абрамович впервые показала, что это такое.
В последний вечер, когда нам снова можно было разговаривать, мы все задали кураторам один и тот же вопрос. Время. Сколько часов мы считали рис? Сколько часов бродили по павильону наощупь с повязкой на глазах, в шумоподавляющих наушниками? Сколько часов шли в гору и в никуда, чтобы потом развернуться и столько же часов идти обратно?
Придя на выставку, каждый посетитель должен был оставить в камере хранения часы, телефоны, фотоаппараты и любые другие девайсы. Затем все надевали шумоподавляющие наушники и могли заходить в `разные комнаты галереи, чтобы пройти упражнения: slow motion walk, внимательное разглядывание стены, подсчитывание зерен риса и чечевицы. То есть зритель становился соучастником перформанса, как и хотела сама Марина. На сороковой день выставки Марина написала:
«Я верю, что граница между реальной жизнью и жизнью в Серпентайн стерта. Даже когда я выхожу из галереи, я не чувствую разницы. В своем уме я по-прежнему там. И я решила не сопротивляться. Нет разделения между мной, зрителями и работой. Все едино».
«512 часов» стали для Абрамович окончательным доказательством того, что перформанс обладает трансформирующей силой. Ей удалось найти единственный возможный способ передавать другим людям свой опыт — позволяя им самостоятельно его пережить.
Вера в себя рождается не из того, что мы о себе думаем, а из того, что мы о себе знаем. Я уезжаю, я как будто ни в чем не изменилась или пока не чувствую, но я много узнала о себе. О возможностях своего тела — я могу гораздо больше, чем думала. Теперь нужно искать слова.
Абрамович хотела, чтобы в «512 часов» роли наблюдателя и наблюдающего постоянно менялись. Чтобы публика стала перформирующим телом вместо Марины, а она смогла максимально убрать себя из этой работы. В методе Абрамович главным должен был опыт тех, кто приходит как зритель, а становится перформером.
Я думала, что они будут больше рассказывать о себе, о Марине. И они рассказывают, если спросить, — безумные истории, сумасшедшие, настоящие. «Вечером после первого дня перформанса мне пришлось забирать ее из больницы, потому что она исполосовала себе руки». — «Да, а после второго дня я пришла в бар и поняла, что хочу только трех вещей: есть, пить и трахаться. Вот так я и пережила те два месяца». — «И это окей». Но вообще, мы больше говорили о нас. О том, что с нами происходило. И я подумала, что есть в этом какая‑то скромность. А может, это потому, что перформанс так и устроен: главное — не эго-истории, а проживание опыта. Не личность художника, а соприсутствие зрителя и художника. Забыть о себе. Исключить себя.
Безграничная
В последнее утро Линси, Паула и Неджма раздали нам бумаги и карандаши и попросили придумать идеи для упражнений, в основе которых лежал бы принцип повторения. Я написала:
— одеваться/раздеваться,
— собирать и разбирать что‑нибудь (мебель, лего),
— танцевать (повторять одну и ту же комбинацию движений),
— разрезать лист бумаги на 1000 квадратиков,
— и что‑то еще, уже забыла.
А потом произошло вот что: после перерыва инструктора вернулись, и оказалось, что сегодня каждый из нас будет работать над одним из упражнений, которые только что придумал.
Мне достался танец, и я выбрала беседку неподалеку от Ненавистного пруда. Сначала придумала симпатичную длинную комбинацию — амплитудную, сложную, с дропом в финале. После того как я повторила ее десять раз, стало казаться, что я сейчас умру. Поэтому я упростила движения и взяла совсем медленный темп. Так было намного легче, движения стали автоматическими, я танцевала для удовольствия. Пару раз ко мне заглянула Линси, приходила Неджма. Вечером они сказали, что перформансы, которые мы придумали сами, длились два с половиной часа. Но я уже не замечала этого времени. После «Взгляда» со мной что‑то произошло. Я была легкой, энергичной, я была совсем другой — полной противоположностью того, как я представляла себя в последний день воркшопа.
И во время этого танца я внезапно все поняла. Как это работает и зачем. Почему я здесь оказалась. Как включать и выключать это состояние. Я. Что я ищу.
В книге «Пройти сквозь стены» Абрамович пишет, что существуют три Марины: «Одна воинствующая. Другая духовная. И третья бестолковая». А затем пытается иронично описать бестолковую Марину как самую что ни на есть обычную, неуверенную в себе, несчастливую в любви и невнятную женщину.
Как будто она может меня обмануть. Как будто я не знаю, что она существует, такая Марина.
Которая спит на одной стороне постели, потому что в детстве мама ругала ее за мятые простыни.
Обожает русскую литературу и прочитала всю переписку Цветаевой, Рильке и Пастернака.
Пробовала работать почтальоном, но быстро была уволена, потому что решила доставлять только те письма, где адрес написан красиво и от руки, а некрасивые письма и счета выбрасывала.
Боится, что можно заболеть раком, если скрывать эмоции.
Считает себя толстой и некрасивой.
Могла бы начать заниматься перформансом еще будучи студенткой в Белграде, но ее идеи отвергали одну за другой.
Первой уволилась из академии Нови Сад, узнав, что ее собираются уволить из‑за публикации обнаженных фотографий с перформанса «Ритм 4».
Начинает паниковать, если самолет попадает в зону турбулентности.
В школе страдала, потому что одноклассники называли ее Жирафой из‑за худобы и высокого роста и смеялись над ее очками, громоздкой ортопедической обувью и немодной одеждой.
Принимает важные решения, подбрасывая монетку.
Не переносит крик и впадает в оцепенение, когда кто‑то повышает голос.
Боится смерти.
Марина, которая каждый раз все больше и больше становится собой, преодолевая страх.
Марина, которая безгранична.
Я вернулась из Греции два месяца назад, но граница между реальной жизнью и той жизнью в Селиане по-прежнему стерта. Я по-прежнему веду дневник и по-прежнему хочу молчать. Даже теперь, когда я здесь, в Москве, я не чувствую разницы. В своем уме я по-прежнему там. И я решила не сопротивляться.
Подробности по теме
Марина Абрамович: «У меня есть совет: никогда не влюбляйтесь в художников»
Марина Абрамович: «У меня есть совет: никогда не влюбляйтесь в художников»
30 лет назад, 26 декабря 1991 года, в 19 часов 35 минут, в такой же, как в этом году, холодный зимний вечер в лучах прожекторов, высвечивающих редкие снежинки, с купола первого корпуса Кремля, резиденции президентов СССР и РСФСР, был спущен красный флаг Советского Союза. Распад СССР случился до обидного просто, буднично и незаметно, будто повторяя конец Российской империи, описанный Василием Розановым в «Апокалипсисе нашего времени»: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая «Великого переселения народов».
Никогда такого не было, и вот опять. Даже газету «Правда» нельзя было закрыть так скоро, как закрылся Советский Союз – фальшивый, картонный и никому не страшный в тот стылый вечер. Наступало время великих симуляций: рынка, демократии, либерализма, власти. Союз распался на 14 независимых государств, в разной степени успешных и состоявшихся, и одну воображаемую державу, которая перестала быть империей, но так и не стала нацией. Россия унаследовала от СССР не только юридическое правопреемство, ядерное оружие и место в Совете Безопасности ООН, но и дух империи, её пространственный размах, геополитические амбиции и психологические комплексы. В постколониальном мире, на исходе столетия, видевшего закат крупнейших империй Нового времени – Османской и Австро-Венгерской в начале века, Третьего рейха и Японской империи в его середине и Британской, Французской и Нидерландской во второй его половине, – осталась огромная евразийская территория, застывшая в вечной мерзлоте и в собственном прошлом, словно гигантское ископаемое животное.
Короткая имперская ремиссия, ознаменовавшаяся уходом России из Центральной и Восточной Европы и зон геополитического противостояния по всему миру и парадом региональных суверенитетов в самой России (знаменитое ельцинское «Берите столько суверенитета, сколько сможете»), продолжалась не более пяти лет (1989–1994) и оборвалась первой войной в Чечне. В середине 1990-х появились первые признаки советской ностальгии: в 1995-м были сняты «Старые песни о главном» по мотивам «Кубанских казаков». СССР возвращался в виде мифологии и идеологии, в виде «большого стиля» в культуре и царских замашек в Кремле. По итогам десятилетнего ельцинского транзита России так и не удалось создать нацию – ни этническую, ни тем более гражданскую: страна оставалась в глубокой коме и в полной неопределенности по части своей идентичности и исторической памяти, в осознании своего места в мире.
Из этой пустоты родился неоимперский крестовый поход Владимира Путина. «Выдающийся политик XIX века», по меткому выражению из интернета, он построил свой политический проект на возвращении имперского дискурса как основы для российской идентичности. Лишенный видения будущего, Путин опрокинул Россию в прошлое, предложив стране и миру иллюзии былого величия, сделавшись «большим ученым» из лагерной песни, записным историком, выдающим раз в полгода статьи по вопросам исторической памяти. Вехами имперского ренессанса стали ламентации о «крупнейшей геополитической катастрофе» распада СССР, Мюнхенская речь, война с Грузией, аннексия Крыма, прокси-оккупация Донбасса и громогласные, на весь мир, приготовления к войне с Украиной в конце 2021 года.
Параллельно разворачивалось пропагандистское наступление, итогом которого стало создание полноценной государственной идеологии и квазирелигиозного культа Победы, от имени которой санкционируются репрессии внутри страны – например, ликвидация «Мемориала» (объявлен российскими властями «иностранным агентом», не согласен с этим статусом. – РС), агрессивная риторика в отношении Восточной Европы и геополитические амбиции на мировой арене. Российская империя воссоздана в духе и образе, и в своих мечтах российский суверен видит себя то ли в белом кителе, стоящим над картой Европы в Ялте 1945-го, то ли в щеголеватом мундире на Венском конгрессе 1815-го, в окружении европейских правителей и танцующих пар.
Однако по прошествии 20 лет путинского правления (и шире, постсоветского тридцатилетия) итоги воссоздания империи довольно жалки, если не сказать комичны. Вместо реконструкции постсоветского пространства Россия присоединила к себе с юга токсичный пояс непризнанных территорий, живущих за счет российского бюджета и военной помощи: Южная Осетия, Абхазия, Донецкая и Луганская области, Крым, Приднестровье, и теперь ещё Беларусь, взявшую на вооружение политику государственного терроризма. Этот пародийный квази-СССР не приносит метрополии стратегических преимуществ, но только растущую дыру в бюджете, проблемы в отношениях с соседями и санкции от Запада. Хорошего решения ни для одной из указанных территорий не существует, это тлеющие конфликты, которые России предстоит тащить на себе в одиночку, со всё возрастающими издержками.
Призрак Российской империи остается всего лишь фантомной болью, ностальгическим всхлипом, гротеском
Ещё более печальный итог российской политики – окончательное отчуждение ближайших соседей, наиболее интегрированных частей бывшей империи, бывших обладателей ядерного оружия и участников Беловежского соглашения. Прежде всего агрессия России надолго, если не навсегда, отторгла от неё Украину: в декабре 2021 года 72% украинцев считают Россию врагом или скорее врагом. В результате восьмилетней войны, высокомерных заявлений Владимира Путина и уничижительных – Дмитрия Медведева Россия в глазах украинцев превратилась в того самого Другого, в противостоянии с которым формируется национальная идентичность. Ситуация в Беларуси движется в том же направлении: для мыслящей части белорусского общества Россия из нейтрального соседа превращается в пособника кровавого режима Лукашенко, то есть опять-таки в Другого для будущей белорусской гражданской нации. И наконец, нарастают противоречия с постназарбаевским Казахстаном, от возмутительных территориальных претензий к соседу, выдвинутых депутатами Госдумы в 2020 году, до вымывания русского языка в Казахстане (скандальные «языковые рейды»): напуганный агрессивным неоимпериализмом России, Казахстан выбирает многовекторную политику, ориентируясь, помимо Москвы, на Пекин, Анкару и Брюссель. В результате в 2021 году Россия гораздо дальше от восстановления постсоветского пространства, чем была в начале путинского правления, – «фактор Крыма» отталкивает бывших союзников и соседей, и центробежные тенденции кажутся неостановимыми.
Лучше всего это подтверждают последние события на белорусском и украинском фронтах. Даже загнанный в угол, Лукашенко манипулирует Россией, вытягивает из нее новые деньги и вовлекает в свои опасные игры с Западом: «хвост виляет собакой», и несмотря на заверения об углубляющейся интеграции, звучащие уже четверть века, Россия не в состоянии поглотить столь проблемный актив. Ещё менее это возможно с Украиной: чем громче лязг гусениц на границе, чем агрессивнее риторика Кремля и чем наглее заявления политических шутов, тем очевиднее сугубо символическая, словесная природа этих угроз и тем менее вероятно настоящее вторжение. Великие державы себя так не ведут – то пугая весь мир, то сдавая назад. Призрак Российской империи остается всего лишь фантомной болью, ностальгическим всхлипом, гротеском – как гротескны угрозы Рамзана Кадырова и Владимира Жириновского Украине, – истерикой брошенного мужа под дверью бывшей жены.
…В антиутопии Владимира Сорокина «Теллурия», описывающей мир в середине XXI века на пространстве от Мадрида до Алтая, есть рассказ о бабушке с двумя внуками, которые едут в сибирскую глушь, чтобы поклониться там изваяниям «трех роковых правителей России, Трёх Великих Лысых, сокрушивших страну-дракона». Они сходят с поезда на полустанке, пробираются через тайгу и болота заветными тропами и выходят к пещере, где стоят три каменных истукана: «Первый из них, лукавый такой, с бородкой, второй, в очках и с пятном на лысине, и третий, с маленьким подбородком» – три великих рыцаря, в три удара разрушивших страшную страну…
Мы проживаем сегодня третий акт трагедии имперского распада, длящейся уже более ста лет. Первый был в 1917-м, за которым последовала сталинская реставрация. Второй акт случился в 1991-м, а сейчас идёт третий, заключительный, комический акт распада: не случайно Маркс, цитируя Гегеля, замечал, что история повторяется как фарс. Грезя о великом прошлом и тщась восстановить имперский периметр, заявляя о «красных линиях» в Восточной Европе и об особых правах на Украину, Путин лишь ускоряет неизбежный распад архаичной и анахроничной империи, на обломках которой еще только предстоит родиться России.
Сергей Медведев – историк, ведущий цикла программ Радио Свобода «Археология»
Высказанные в рубрике «Право автора» мнения могут не отражать точку зрения редакции
Доброе утро!
Дочь первого американского астронавта Алана Шепарда тоже слетала в космос – если, конечно, суборбитальный полет на ракете New Shepard, которые запускает компания Джеффа Безоса Blue Origin, считается космическим полетом. На Земле новости такие:
- В Екатеринбурге около 30 человек вышли на акцию в защиту «Мемориала».
- В Москве полиция сорвала акцию солидарности с политзаключенными.
- В Беларуси арестовали мать анархиста, уехавшего из страны в 2019 году; опубликовано видео, где она стоит на коленях и признает свою вину.
- ВОЗ подтверждает, что «омикрон» распространяется быстрее, чем «дельта», однако вызывает более мягкое течение болезни.
Россия. Новейшая история
- На телеканале «Россия 1» показали фильм «Россия. Новейшая история», в котором Путин говорит, что в 1990-е «подрабатывал извозом» (видимо, на «Запорожце»). Первый раз бессменный российский президент придумал «извоз» в 2018 году, но тогда он говорил, что подумывал, не податься ли ему в таксисты после проигрыша Анатолия Собчака на губернаторских выборах. Теперь он решил, что все-таки подался. На этом фоне Путин поделился еще и «воспоминаниями» о том, как в 1990-е годы сотрудники американских спецслужб ходили на российские предприятия «как на работу».
- Александр Сокуров, попытавшийся обсудить с Путиным российскую национальную политику в ходе виртуальной встречи членов Совета по правам человека с президентом, теперь призывает «не раздувать истерию» в связи с реакцией чеченского руководства на его слова. Ранее Сокуров сказал, что опасается уголовного преследования, но надеется на милость Путина. Вот большой разговор с режиссером.
- В Набережных Челнах подростки потушили Вечный огонь снежками – прокуратура начала проверку.
- В Москве полиция сорвала благотворительный аукцион в поддержку политзаключенных (ссылались, конечно, на пандемию).
- Десятки российских математиков написали открытое письмо исполкому Международного математического союза, в котором попросили отложить Международный конгресс математиков в Петербурге до освобождения аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. Форум запланирован на июнь следующего года.
- В Екатеринбурге около 30 человек вышли на акцию в поддержку «Мемориала», организованную региональным отделением общества.
- Здесь рассказывается о самой экзотической организации – «иностранном агенте», Иркутском союзе библиофилов, а здесь – история учителя из Курской области, который попытался прожить месяц на одну зарплату, но не смог (но получил обвинение в экстремизме).
Вокруг света
- В Беларуси арестована мать анархиста Романа Халилова, который уехал из страны еще в 2019 году, опасаясь уголовного преследования. Сначала у нее дома устроили обыск, а потом арестовали ее на 10 суток за “неповиновение милиции”. В сети появилось видео, на котором женщина стоит на коленях и говорит, что признает свою вину (это монтаж).
- Евросоюз выделит дополнительно 30 миллионов евро на помощь белорусскому гражданскому обществу, в том числе независимым медиа, деятелям культуры, которые были вынуждены уехать, эмигрировавшим предпринимателям и молодежи.
- Главы государств «большой семерки» по итогам встречи в Ливерпуле в очередной раз призвали Россию к деэскалации на украинской границе. Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что следовало бы возобновить переговоры в “нормандском формате”. Вот монологи украинских военных, находящихся на передовой в Донбассе: большинство считает, что Россия все же не решится на вторжение.
- О том, как бывший министр культуры России, а ныне помощник Путина Владимир Мединский зарабатывает на реставрации в Крыму, рассказано здесь.
- Жертвами торнадо в нескольких штатах США стали около ста человек. Больше всего жертв – в штате Кентукки, где объявлено чрезвычайное положение (вот видео).
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 29 929. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 17 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 289 483 человек (+1132 за сутки). В реальности жертв гораздо больше.
В Екатеринбурге, Архангельске, Новосибирске прошли акции против введения QR-кодов для прохода в общественные места. В Саратове коммунисты готовят референдум по этому вопросу. На этом фоне Госдума и правительство решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.
В докладе ВОЗ говорится, что штамм «омикрон» действительно более заразен, чем «дельта», однако вызывает более мягкое течение болезни. Здесь о свойствах нового штамма рассказывает биолог Георгий Базыкин.
Шесть ссылок
- Писатели. К 200-летнему юбилею Некрасова – рассказ обо всех его литературных гранях, не только поэтической. Или эссе Игоря Гулина к 90-летию Юрия Мамлеева.
- Художники. Фрагмент из мемуаров члена группы «Радек» Петра Быстрова “Как я разбил очки Осмоловскому”. Или любопытные рассуждения искусствоведа Юлии Тихомировой о том, как воспринимает искусство первое путинское поколение, нынешние 20-летние.
- Режиссеры. Отрывок из дневников Кшиштофа Кесьлёвского 1989-1990 годов (сборник текстов Кесьлёвского вышел в изд-ве Corpus). Или беседа с Эдуардом Шелгановым – режиссером, в начале 90-х экспериментировавшим с эстетикой немого кино и порнографии, экранизировавшим Платонова, а ныне – работником котельной.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
На следующей неделе состоится первый суд по иску о ликвидации общества «Мемориал» за несоблюдение закона об «иностранных агентах». С призывом отозвать иск обратились к Генеральной прокуратуре РФ первый президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, лауреаты Нобелевской премии мира. Многие комментаторы благодарны Горбачеву за этот жест.
Натали Радько
Это хорошо. Нобелевские лауреаты Горбачёв и Муратов поддержали «Мемориал»
Плохо то, что не нобелевские лауреаты «авторитеты» в стране, а потомки палачей в законе и стукачи.
Александр Скобов
Это люди, причем подвижники, а не бумаги с печатью
Старенькому Горбачеву, конечно, сердечное спасибо. Все-таки он человек, что бы там ни говорили некоторые олдовые-в-законе. И понятно, что при его статусе, бэкграунде и прочих вещах, заменяющих понятие «классовая принадлежность», текст должен был быть лоялистский и легалистский по форме. Критиковать эту форму глупо и неуместно. Просто люди иной классовой принадлежности должны понимать, что на практике означает призыв к прокуратуре урегулировать свои претензии к «Мемориалу» во внесудебном порядке. Это означает, что прокуратура будет по-тихому принуждать Московский Правозащитный Центр «Мемориал» к отказу от реальной правозащитной деятельности. В частности – к отказу от своего списка политзаключенных. И мой настоятельный совет этим людям, не связанным условностями придворного этикета – не забывать, что мы имеет дело с преступной, бандитской, фашистской властью, последовательно восстанавливающей тоталитаризм. И никакого «урегулирования претензий» с ней быть не может – ни судебного, ни внесудебного. Ибо разногласия по земельному вопросу.
«Остальных» на самом деле не так уж мало. Открытое письмо в защиту «Мемориала» подписали сотни деятелей культуры как в России, так и за ее пределами, в том числе Стивен Фрай, Том Стоппард, Джон Кутзее и другие. Среди известных российских имен — Юрий Норштейн, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Андрей Макаревич. Сбор подписей продолжается в комментариях под постами поэта Татьяны Щербины и главного редактора «Кольты» Марии Степановой. Подписи под открытым письмом музыкантов собирает Михаил Нодельман.
Кирилл Шулика
Вообще меня очень радует та общественная кампания в защиту «Мемориала», которую я вижу. Она офигенно важная и результат она сама по себе. «Мемориал» же никуда и после решения суда не денется, чтобы вы понимали, ибо это люди, причем подвижники, а не бумаги с печатью.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несколько дней назад заявил, что с «Мемориалом» «давно есть проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства». Многие комментаторы уверены, что «проблемы» есть не у «Мемориала», а у российских властей.
Кирилл Лятс
«Мемориал» давал и правду, и утешение, и покаяние
Нас сегодня невозможно представить без Мемориала, потому что Мемориал — это сервер нашей совести.
Это больше, чем институт, хотя, конечно, Мемориал взял на себе в конце восьмидесятых системообразующую функцию. Он стал лакмусовой бумажкой для порядочных людей и порталом в десталинизируемое общество для всех.
Страна не смогла пойти по пути денквдизации, потому что, в отличие от фашистской Германии, почти в каждой семье могли быть и жертвы, и палачи — репрессировали не по нацпризнаку и даже не по политическим мотивам, а для поддержания общего уровня страха.
Мемориал давал и правду, и утешение, и покаяние тем, кто его искал.
Покушение на Мемориал — это куда большее надругательство над чувствами людей, чем сомнения в существовании 28 панфиловцев. Это реальное возбуждение вражды и ненависти по историческому и политическому признаку ко всем потомкам и к еще ныне живущим репрессированным (например, моя бабушка жива, а ее семья была раскулачена, а отец замучен до смерти в лагере Соликамска, разве ей не плюет в лицо прокуратура, требуя закрыть Мемориал?!)
Шаг за шагом уничтожаются элементы свободы, которой мы добились во второй половине 80-х:
— повальное приклеивание ярлыка иноагента всем честным журналистам
— преследования за госизмену
— посадки за митинги, пикеты и посты
— запрет на просветительскую деятельность
— запрет на исторические исследования, если они хоть как то сравнивают деятельность властей СССР и Третьего Рейха…
Уничтожение Мемориала, думается, это еще один шаг в бездну, сравнивать с которой запрещено.
Морок окутал нашу страну почище пандемии.
Очень хочется, чтобы мы все очнулись.
Александр Морозов
Мемориал — это линза, которая сфокусировала свет миллионов отдельных душ, у каждой из которых была своя «световая нитка», проходящая через историю семьи в ХХ веке. Это был «свет молитвы о ненасилии». Государственное насилие ХХ века — шокирующее, не вмещаемое сознанием — было главной темой всей российской культуры во второй половине столетия. Мемориал был институцией, которая символизировала коллективную волю тех, кто стремился вытащить общество из-под этой травмы. Два поколения — наши родители и мы — в 1985-1991 гг. — верили, что удастся положить конец политическому произволу и насилию, порождаемому идейной монополией государства. Из этой надежды рождалось и новое российское общество, и государство, и, как казалось тогда, гуманистичная рамка нашего человеческого сосуществования, которая сохранится на долгие года вперед. Уничтожение Мемориала — это не просто закрытие «общественной организации». Это уничтожение той линзы, которая собирала свет, дающий возможность существовать и основаниям права, морали и политической философии, которые вообще создают возможность существования общества. Беспамятство, отказ от рефлексии, тьма и рассеяние — вот что порождается сегодня теми, кто исполняя «беззаконный закон», уничтожает «Мемориал».
Алексей Миноровский
Уничтожение «Мемориала» – наступление тьмы на все то светлое и чистое, что может быть в человеке
Мемориал — современная проекция средневекового монашеского ордена, только светского, мирского. Это своего рода «домострой» для современного человека в области коллективной исторической памяти, выстраиваемой вокруг гуманистических ценностей. Уничтожение «Мемориала» — наступление тьмы в ее онтологическом смысле на все то светлое и чистое, что может быть в человеке. Вот что бы я сказал, если бы спросили меня.
На Change.org опубликована петиция «Руки прочь от «Мемориала»!» – на момент написания этой заметки под ней было около 75 000 подписей. Цель создателей петиции – собрать 100 000 подписей к 23 ноября, когда по делу «Мемориала» пройдут предварительные слушания в суде. Защищать организацию в суде будут Генри Резник и Илья Новиков.
Сергей Пархоменко
Друзья, петиция в защиту Мемориала набирает подписи час за часом, но пока там ещё далеко даже до 100 000. Хотя и эта цифра совсем не отражает того громадного количества сторонников Мемориала, людей, которые ему благодарны и которые не представляют себе жизни в России без этой важнейшей гражданской институции.
Я понимаю, что многие из нас давно разочаровались в действенности петиций как инструмента прямого политического и гражданского действия.
Но в данном случае петиция в защиту Мемориала — это акт моральной поддержки, это способ выразить солидарность с людьми, которые подвергаются жестокому давлению власти за то, что отдали много лет своей жизни работе над делом исторической памяти в России.
Поддержите петицию. Поставьте ваше имя в список тех, для кого затея разрушить Мемориал — преступна и злонамеренна.
18 ноября в Москве прошла пресс-конференция, на которой обсуждались иски прокуратуры и значение «Мемориала» для российского гражданского общества. Запись пресс-конференции доступна в YouTube. Ключевые моменты выступлений участников пересказывает «РосКомСвобода».
Илья Барабанов
Не мог не сходить на пресс-конференцию в «Мемориал» по поводу его возможной скорой ликвидации, историческое все же событие. И вот после многих правильных слов встает австрийский журналист и спрашивает: «Что нам говорит происходящее о ситуации в России? Куда страна катится?»
Прием понятный. У европейского зрителя нет времени и желания вникать во все нюансы, что там в этой далекой и снежной России вновь вытворяют, так что нужен синхрон секунд на 30 с общим описанием ситуации.
А я сразу вспомнил, как почти двадцать лет назад стажером еще сидел в редакции «Новой газеты», а в соседнем «аквариуме» интервью какому-то голландскому телеканалу давала Анна Политковская. И вот я через стекло слушаю, как она полтора часа подробно рассказывает про пытки, убийства, внесудебные казни, похищения, зинданы, батальоны смерти.
Голландский журналист все это терпеливо выслушивает, а под конец разговора задает вопрос: «Анна Степановна, все что вы рассказали очень важно и интересно, но не могли бы вы в двух словах описать, что же сейчас происходит в Чечне?»
Ей богу, я тогда подумал, что она сейчас пришибет эту съемочную группу чем-то тяжелым.
Если «Мемориал» будет ликвидирован, общество может потерять доступ к созданной обществом базе данных о репрессиях, отмечает Дмитрий Шабельников:
О Международном Мемориале уже сказали много хороших слов многие хорошие люди. Меня тоже в разные моменты связывали с ним самые разные проекты, обсуждения, идеи и просто знакомства с людьми, которых «Мемориал» к себе притягивает. «Мемориал» — это, среди многого другого, и потрясающий архив с рукописными воспоминаниями и письмами, и «Возвращение имен», и частично «Последний адрес», и конкурс детских сочинений, лекции и обсуждения, книги и даже настольные игры.
Но сказать сейчас я хочу об одном: о базе данных. В условиях, когда государство, на словах осуждая советские репрессии и даже открывая памятники их жертвам, продолжает во многом скрывать архивную информацию, «Мемориал» взял на себя координацию этого огромного труда — вытаскивания всей доступной информации, ее обработки и сведения в одну базу, доступную в два клика любому желающему. Началась эта работа еще в начале 1990-х: архивы тогда «приоткрылись», но зато все нужно было делать на бумаге. Сегодня это очень важный и теперь уже удобный инструмент, не только для родственников, но и для любого исследователя или просто интересующегося историей России ХХ века. Когда мне, например, попадается какой-нибудь персонаж 1910-х, скажем, годов, о котором совсем ничего не известно, я обязательно прогоняю его по базе «Мемориала» — и если там не найдется он сам, то почти непременно найдутся какие-нибудь родственники (особенности отечественной истории, чего уж).
Мемориальская база – это настоящее сокровище и важное культурное достояние
В других странах такими вещами занимается государство или общественные институты, финансируемые государством. Некоторое время назад были разговоры о плане создания новой базы данных с участием уважаемого мной Музея истории ГУЛАГа (который как раз финансируется государством). Это я могу только приветствовать, но, представляя себе отношение к открытости архивной информации со стороны некоторых государственных структур, я, честно говоря, не очень верю в успех этого мероприятия (совершенно не сомневаясь, опять же, в искренних намерениях ГМИГ).
Я очень надеюсь, что «Мемориал» не ликвидируют — вон даже фадеевский СПЧ «обеспокоен ситуацией» и называет предлагаемую ликвидацию «несоразмерной совокупности нарушения и несправедливой» (как будто все остальные действия властей в последнее время соразмерны и справедливы). Но все мы понимаем, что это запросто может произойти.
База сейчас продублирована и несколько расширена еще одной хорошей организацией, Открытый список. Тем не менее надеюсь, что мемориальская база сейчас многократно скопирована, потому что это настоящее сокровище и важное культурное достояние, при всех ее недостатках, вызванных не только обстоятельствами создания, но и все той же проблемой — ограничения доступа к архивам.
Андрей Десницкий
Мемориал, объявленный в России иностранным агентом — это не просто правозащитная риторика, это уникальные базы данных и профессиональная работа с ними. Любой историк, который так или иначе касается подобных тем, обойтись без них не может, и Мемориал открыт и доступен для сотрудничества.
Так сколько погибло миллионов? А докажите!
По-видимому, в случае объявления их экстремистами (а прокуратура требует уже и этого) доступ к этим базам на территории РФ будет закрыт, их распространение будет считаться подсудным правонарушением (КоАП РФ статья 20.29), а любое другое сообщество, которое в иных условиях взялось бы за продолжение такой работы, будет бежать от нее, как от огня. История репрессий станет запретной темой на территории нашей страны.
Полагаю, что «национализация» этой информации и ее засекречивание — основная цель нынешнего наступления на Мемориал.
Зачем это нужно государству, вполне понятно. Репрессии невозможно оправдать, но их можно заболтать. «Сколько-сколько миллионов погибло? Нет, ну были, конечно, отдельные перегибы на местах, но в целом весь наш народ как тогда, так и сегодня… Так сколько погибло миллионов? А докажите!»
И уже не докажешь.
Я не смотрел новый фильм про «Ивана Денисовича», но судя по рецензиям, он сделан по той же модели: вот Иван Денисович идет парадом по Красной площади защищать Москву, ему улыбается Вождь Народов, вот он подбивает пять танков под мудрым руководством Вождя, ну, потом, конечно, не без перегибов на местах, но даже в холодном карцере молитва чудотворная его спасает от гибели неминучей и всякая такая развесистая клюква. Солженицынский рассказ о простом советском мужике превращается в расписную матрешку, где трагедия – часть узора. Рассказ об обыденности зла, о простом человеке вывернут наизнанку с этими парадами, подвигами и чудесами. С моралью: мы выстояли, мы победили, ура!
За сохранение уникальной базы «Мемориала» выступают и многие «охранители». Егор Холмогоров предложил не ликвидировать общество «Мемориал», а переформатировать его, переименовав в общество «Память», и другие правые консерваторы его поддержали.
Наталия Осипова
Переименовать «Мемориал» в «Память» — это хороший троллинг у Егора Холмогорова. Но самое важное, всерьез — это сохранить архивы и данные о репрессированных. Из госархивов добыть эти данные очень непросто. Нужна открытая база в общем доступе, это несомненно. Расприватизация темы репрессий — это очень правильно.
Правый Григоров
Реорганизовать «Мемориал», исключив из него враждебную деятельность против России
Конечно политическая часть «Мемориала» жёстко выступала против России, поддерживали даже террористов и радикальных исламистов, не говоря уже о заукраинцах.
Вместе с тем «Мемориал» – это реликт эпохи «Перестройки», и большой объём памяти восстановлен.
Нам не хотелось бы, чтобы пропало наследие и архивы о репрессированных, как историк-архивист я это прекрасно понимаю, а архивы должны открываться.
Потому поддерживаю инициативу Егора по реорганизации «Мемориала» с исключением политической и русофобской деятельности, направленных против государства российского.
Буквально сегодня говорил об этом с воронежским профессором истории Аркадием Минаковым.
Мы готовы выступить в качестве представителей русского гражданского общества, сохранить архивы, историческую память, реорганизовать «Мемориал», исключив из него враждебную деятельность против России.
Отдельная дискуссия развернулась после выступления Григория Явлинского, в котором бывший лидер «Яблока» связал преследование «Мемориала» с «Умным голосованием».
За этим выводом стоит длинная логическая цепочка: за законы об «иноагентах» голосовали в том числе депутаты от КПРФ, а «Умное голосование», в свою очередь, предлагало голосовать за них на последних парламентских выборах – тем самым подписывая приговор оппозиционным организациям.
Дмитрий Колезев
Григорий Алексеевич Явлинский не дает о себе забыть. Вот выпустил очередную статью об уничтожении «Мемориала» и вроде как выступил в защиту, но при этом не преминул заявить, что атака на «Мемориал» стала следствием… «Умного голосования», которое-де привело в Госдуму коммунистов и тем сделало возможным такой шаг.
В общем, коварный Алексей Навальный сидит и из тюрьмы уничтожает остатки гражданского общества в России, негодяй этакий. А Явлинский нас от него защищает.
Ну, я гиперболизирую, конечно. Но вообще, видимо, это не одного Явлинского мысль. Лев Шлосберг недавно в твиттере писал, что происходящее вокруг «Мемориала» стало следствием выборов в Госдуму — победы «Единой Росси» и усиления КПРФ. Правда, слова «Умное голосование» Шлосберг все-таки не произнес. Но его мысль творчески развел Григорий Явлинский.
Свою мысль развивает в телеграме и сам Лев Шлосберг:
Депутаты фракции КПРФ голосовали за эти законы, начиная с 2012 года. Более того – депутаты от фракции КПРФ были инициаторами внесения проектов этих законов. Это и есть реальная позиция политической партии КПРФ. Для КПРФ поддержка этого закона – сознательный политический выбор.
Признанные «иностранными агентами» «Мемориал», Ассоциацию «Голос», «Команда 29», средства массовой информации, отдельных граждан сейчас уничтожают политически, морально и физически по нормам федерального закона, полностью поддержанного КПРФ.
Политическая поддержка КПРФ для сотрудников правозащитных организаций, журналистов, политиков, деятелей культуры и науки – всех, но в особенности тех, кто признан или может быть признан бессудным и волюнтаристским путём «иностранным агентом» – это политическое самоубийство.
Взывать к праву, подписывать петиции с требованием отмены варварского закона об «иностранных агентах» и при этом голосовать за КПРФ и призывать к этому других людей – это политическая шизофрения или «стокгольмский синдром».
С этими умозаключениями спорит поддержавший КПРФ на выборах сотрудник «Мемориала» Александр Черкасов:
Некоторые люди, вроде бы сочувствуя «Мемориалу», указывают, что в наездах на нас виновата КПРФ и те, кто агитировал за неправильных кандидатов (дальше идёт много общих слов). Имеются в виду, очевидно (а в комментах это и не скрывают) Алексей Навальный и его «Умное голосование» (ну и я сам, похоже, виноват, как унтер-офицерская вдова, поскольку агитировал за Михаил Лобанов, за что и был отдельно проклят).
Эти рассуждения — не только гешефт и подмена сущностей. Тут ещё нарушены причинно — следственные связи.
1. Нам достоверно известно, что решительный «наезд» на «Мемориал» замышлялся и планировался ещё в середине лета, задолго до сентябрьских «выборов» (и их итогов, столь неутешительных для, в общем, симпатичных мне людей).
Попытка увиноватить Навального разбивается о даты
2. Бумаги, положенные в основу иска Мосгорпрокуратуры о закрытии Правозащитного центра» Мемориал», датированы декабрем 2020 года — они остались от прошлого прокурорского» наезда», который нам тогда удалось отбить без потерь (да, нас «прессовали» постоянно, — но мы на этом не пиарились).
Так что попытка увиноватить Навального и пр. тут разбивается о даты: это «разводка». Допускаю, что кто-то в это искренне верит, но увы.
Спасибо всем за слова солидарности и поддержки. Только не надо использовать наши трудности.
Многие блогеры высказываются еще резче.
Анастасия Брюханова
Я не понимаю, что должно было произойти с политиками, которые долгие десятилетия называли себя оппозицией, чтобы они внезапно стали оправдывать и даже легитимизировать репрессии. «А что вы хотели? Вы же сами проголосовали, и теперь Путин и все остальные имеют полное право на репрессии» — по сути именно это и пытаются продвигать Лев Шлосберг, Григорий Явлинский и другие представители партии «Яблоко».
Хотя и сторонники Навального, и те, кто голосовал по их рекомендациям, и кандидаты, прошедшие благодаря им, и сам Путин прекрасно понимают, что это не так. Все знают, что избраны случайные люди, «табуретки» без имени и поддержки, поддержанные вопреки, а не благодаря.
Но на сцену вышли проигравшие всё «опытные политики», которые решили обвинить народ, по сути жертву, в том, что их репрессируют. Такую подмену понятий и манипуляцию не смогли бы придумать кремлёвские политтехнологи, такую глупость могут выдавать только озлобленные люди, обнаружившие себя с рекордно низкой поддержкой граждан собственной страны. И которые больше не в состоянии критически оценивать не только себя, но и реальность.
Хочется лишь верить, что когда они обвиняют жертву в том, что она сама виновата в репрессиях, они за закрытыми дверьми не радуются, мол, так этой жертве и надо.