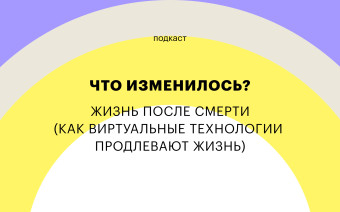Зеленый становится «новым черным» и для сферы ритуальных услуг. РБК Тренды выясняют, чем традиционные похороны вредят окружающей среде и какие альтернативные способы погребения существуют в мире
Люди — единственные существа на планете, у которых есть выбор в решении вопросов не только жизни, но и смерти. Задуматься о том, как поступить со своим телом в конце мирского пути, можно — и нужно — заранее.
Интерес к ответственному взаимодействию с окружающей средой заставил общество изменить как свои ежедневные привычки, так и отношение к траурным церемониям. Совет по «зеленым» захоронениям — Green Burial Council (GBC) — американская организация, разрабатывающая экологические стандарты для кладбищ, похоронных бюро и производителей погребальной продукции, в 2015 году провел опрос среди своих партнеров. Оказалось, большинство людей, выбирающих «зеленые» похороны, делают это потому, что хотят сократить негативное воздействие на природу или вернуться к старым традициям. Концепция экологичного или естественного захоронения не нова — в ее основе забытые практики, которыми пользовалось человечество в доиндустриальную эпоху. Основная идея — не препятствовать природному процессу разложения тела.
Траурные свалки
Классические похороны, распространенные в России, США и Европе, осложняют осуществление идеи «прах к праху». Покойников отправляют в последний путь в многослойных гробах, порой изготовленных из редких пород деревьев. Внутреннее убранство «последнего приюта» как правило выполнено из синтетических материалов на основе полимеров, а внешняя часть покрыта лаком и отделана металлической фурнитурой. Добавим к этому траурные ленты, подушки, одеяла и одежду умершего — даже в естественной среде подобные вещи могут разлагаться не один десяток лет.
Иногда людей хоронят в герметично запаянных цинковых гробах — и если в России такой почести удостаиваются в основном военнослужащие, то в США эта практика распространена и среди гражданского населения. Еще одно возможное препятствие — бетонные своды, призванные «удержать» стены могил. Само тело могло бы стать наиболее экологичной частью всей процессии, однако его накачивают формалином и другими «бодрящими» веществами (сулемой, этиловым спиртом, глицерином, хлористым цинком и так далее) — они помогают почившему «прилично» выглядеть на церемонии прощания, но тормозят естественное исчезновение тела в земле.
По данным GBC, посредством традиционных похорон в одних только Штатах ежегодно в землю отправляется колоссальное количество ценных первичных ресурсов: 1,6 млн т бетона, 64,5 тыс. т стали, 17 тыс. т меди и бронзы, более 6 тыс. км досок, сделанных в том числе из исчезающих тропических лесов, а также около 16,2 млн л бальзамирующей жидкости — из них 3,1 млн л составляют формальдегид, метанол и бензол. Помимо того, что эти токсичные соединения отравляют почву и воды, они опасны для работников похоронной отрасли. Бальзамировщик — не такая уж и спокойная профессия, понервничать о собственном здоровье точно придется: согласно исследованию Гарвардского университета, контакт с формальдегидом увеличивает риск развития бокового амиотрофического склероза (болезни Хокинга) в три раза, а лейкемии — в восемь раз. Также у персонала часто возникают респираторные заболевания, неврологические расстройства, вирусные и бактериальные инфекции.
Черный след крематориев
Кремация, вопреки расхожему мнению, не считается экологичной альтернативой обычным похоронам. GBC сообщает — энергии, которая ежегодно тратится на сжигание трупов в США, хватило бы на 1 300 полетов к Луне и обратно. А по данным британского Центра естественной смерти — The Natural Death Centre (NDC) — расход энергии в виде газа и электричества на одну кремацию эквивалентен 800-километровой поездке на авто. Однако атмосферу «удобряют» не только выбросы от сжигания ископаемого топлива, на котором работают печи, но и выбросы от самого процесса кремации. При сжигании тел с гробами (и личными предметами), выделяется немало вредных веществ: диоксины, двуокись азота, диоксид серы, твердые частицы и пыль размером менее 10 и 2,5 мкм (PM10, PM2,5), пары ртути, образующиеся из-за плавления амальгамных пломб, и углекислый газ. Что-то из этого задерживают фильтры, но какая-то часть все равно проникает наружу. NDC заявляет о 400 кг выбросов СО2 на каждую кремацию, по другим оценкам эмиссии составляют 244 кг, а эксперты GBC подсчитали — в США от деятельности крематориев ежегодно выделяется порядка 790 тыс. т диоксида углерода, что сравнимо с годовыми выбросами 170 тыс. легковых автомобилей.
Прах в основном состоит из фосфатов кальция, солей натрия и калия. Кажется, эти вещества могут послужить отличным удобрением, однако в концентрированном виде человеческие останки вызывают своего рода «ожог» почвы, заставляя растения покидать этот участок земли. Дело в том, что уровень pH праха чрезвычайно высок, а количество натрия в 200–2000 раз превышает норму для флоры. Еще одна проблема — развеивание кремированных останков в хрупких экосистемах, например, на альпийских лугах или горных вершинах. Из-за того, что спрос на кремацию ежегодно растет, становится все больше желающих упокоить останки своих любимых в красивых, памятных местах. Однако не все подходят к этому мероприятию и выбору локации осознанно. Сопутствующая проблема — разбрасывание пластиковых цветов и лент вместе с прахом, что негативно сказывается на дикой природе.
Сравняться с землей
«Зеленые» похороны помогают вернуть тело планете более естественным, быстрым и менее ресурсозатратным образом. При таком погребении действуют три основных правила:
- Отказ от бальзамирующих жидкостей.
- Отказ и от внешнего убранства (памятников, надгробий, склепов).
- Использование биоразлагаемых гробов или саванов.
Еще одна особенность экологичных захоронений — неглубокие могилы. В традиционном варианте гроб укладывают на 1,5–2 м в землю — в таком случае мягкие ткани будут разлагаться в анаэробном режиме с выделением метана, вместо того, чтобы распадаться только на углерод и воду. «Зеленые» захоронения предлагают упокоить тело на глубине около 1 м в более «богатом» на микроорганизмы и питательные вещества слое почвы — этого достаточно, чтобы усопшего не беспокоили дикие животные, зато процесс разложения будет протекать быстрее.
Сегодня «зеленые» захоронения принимают множество форм, но их общая суть — в простоте, снижении воздействия на окружающую среду, отказе от промышленных материалов и лишних манипуляций с телом. Вместо токсичных бальзамирующих растворов используются сухой лед и эфирные масла. Надгробиями служат камни, растения, деревья, а для поиска точного места упокоения можно пользоваться GPS. От гроба либо отказываются вовсе в пользу савана, либо используют необработанное дерево местных пород, плетеную лозу или переработанный картон.
Исходя из предпочтений семьи, «зеленые» похороны могут включать в себя:
- небольшое собрание с близкими на природе;
- использование местных цветов или полный отказ от них в пользу пожертвований, например, в фонд по борьбе с болезнью, от которой умер человек;
- совместное использование автомобилей;
- еда и напитки локальных производителей в перерабатываемой упаковке;
- приглашение на похороны в цифровом формате;
- благодарственные подарки гостям в виде саженцев или растений.
К слову, для некоторых религий подобные «проводы» вовсе не считаются особенными. Например, в иудаизме гробы традиционно делают из натурального дерева и не используют бальзамирование. Исламские обряды тоже не предполагают бальзамирования, а тело хоронят в льняной или хлопчатобумажной пелене.
Что естественно, то прекрасно
Есть три основных типа «зеленых» кладбищ: гибридные, естественные и заповедные. В первом случае захоронения производятся внутри традиционного кладбища по экологическим стандартам, во втором — на отдельной территории, специализирующейся исключительно на «зеленых» похоронах. Как правило это открытые луга, покрытые травой и полевыми цветами, или лесные массивы, где могилы становятся частью естественного ландшафта. Заповедные же земли охраняются природозащитными организациями — здесь следят не только за соблюдением правил «зеленого» погребения, но и за здоровьем окружающей среды.
По данным GBC, в США и Канаде насчитывается более 300 «зеленых» кладбищ. Однако экологический сертификат от GBC есть не у всех: на декабрь 2020-го его получили 42 гибридных, 24 естественных и семь кладбищ-заповедников. Передовиком в этой области считается и Великобритания — там насчитывается более 270 естественных кладбищ. Также подобные методы обращения с телом в конце его жизненного пути практикуются в Нидерландах, Австралии, а недавно экокладбище открылось в Бельгии — участки на нем не продаются, а сдаются в аренду на 25 лет.
Интерес к экопохоронам с каждым годом растет. В Штатах опрос 2019 года показал, что более половины респондентов заинтересовались изучением таких вариантов захоронения. Однако пока эта практика не стала общепринятой даже в тех странах, где она доступна, а согласно результатам небольшого исследования в Канзасе, многие люди, считающие себя защитниками природы, по-прежнему не знают о способах «зеленого» упокоения. В России, к сожалению, организовать полноценные экопохороны сложно. Специальных мест для «зеленых» захоронений нет, а некоторые ритуальные службы и вовсе отказываются хоронить и перевозить тело без гроба.
Во имя мертвых, на благо живых
Зарубежные компании предлагают множество экологичных похоронных атрибутов. Британский проект Cradle to Grave изготавливает гробы из ивы, плетеные вручную. Голландский стартап Loop предлагает усыпальницы, сделанные из грибов и мха. Мицелий смешивают с древесной стружкой и выращивают в форме гроба — он разлагается за 30–45 дней и помогает телу «раствориться» за 2–3 года. Американская компания Ecopod производит гробы и урны из переработанной бумаги в необычных дизайнах. Но вместо всего этого можно использовать грибной костюм. Фирма Coeico создала одеяние, пронизанное клетками мицелия. Грибы обладают способностью очищать тело и почву от токсинов, делая землю чище, чем она была. Также мицелиальные сети помогают питательным веществам быстрее и правильнее распределяться в окружающей среде.
Если выбор все-таки пал на кремацию — то и тут есть интересные варианты. Проект Let Your Love Grow придумал органическую смесь, которая снижает pH праха и «разбавляет» натрий. Если смешать человеческие останки с этой смесью, почве не будет нанесен вред. На месте захоронения праха можно создать живой памятник — посадить дерево или куст, таким образом компенсировав выбросы углерода на кремацию. Еще один вариант — запечатать прах в нейтральный для окружающей среды бетон и отправить его на морское дно. Компания Eternal Reefs создает искусственные рифы — они имитируют природный субстрат, дополняют морскую среду, восстанавливают нарушенные районы, помогают водным обитателям жить и развиваться. Сегодня в Мировом океане насчитывается более 750 тыс. подобных рифовых шаров.
Экстравагантный способ «утилизации» тела — превращение его в компост. В нескольких американских штатах такая практика уже легализована, а сейчас вопрос ее законности обсуждают власти Калифорнии. Компания Recompose разработала специальную технологию: тело закрывают в металлической камере, предварительно обильно удобрив его люцерной, соломой и щепками. В камере поддерживается определенная влажность, температура и уровень кислорода, чтобы микроорганизмы «работали» эффективнее. Разрушается все — даже кости и зубы. Через 30 дней на выходе образуется примерно 0,76 кубометров почвы, насыщенной питательными веществами. После пары недель сушки и отвердевания ее можно использовать для обогащения лесов, садов и заповедных земель.
Современные технологии предлагают еще два новаторских подхода. Первый — щелочной гидролиз или ресомация — буквально растворяет труп в герметичной камере под воздействием давления, температуры и гидроксида калия. Мягкие ткани растворяются полностью, а твердые части деминерализуются, сушатся, перемалываются и передаются родственникам в виде белого порошка. И хоть никаких выбросов в атмосефру, в отличие от кремации, в этом случае нет, в плане экологичности метод все равно спорный — часть расплавленных останков смывается в канализацию. Но, например, в Австралии компания Aquamation пошла по пути слива таких «отходов» на лесные плантации. Вторая новинка — разработанная в Швеции технология под названием «промессия». Тело, охлаждаясь жидким азотом, становится хрупким. На вибрационном стенде останки разрушаются до порошкообразного состояния. Дополнительно из полученного праха испаряют влагу, убирают металл, дезинфицируют при необходимости — и упаковывают в контейнер из кукурузного крахмала. Все частицы и урна разлагаются за полгода-год, а на месте захоронения можно посадить мемориальное дерево. В России первый «проматорий» должен был появиться в Новосибирске, но реализовать проект пока не удалось.
Ай да Путин! Уже месяц держит мир в оцепенении. А мы гадаем, что будет дальше. Вот они с Байденом переговорили. И, казалось, все завершится дипломатическим общением. Но Россия вызвала шторм не для того, чтобы удовлетвориться обещанием вновь получить саммит.
Речь даже не о конфликте России и Запада по поводу Украины. Сам конфликт — следствие системного кризиса в отношениях России и Запада. Кризис вызван несовместимостью их представлений о мире и своей безопасности. Поэтому завершение «битвы за Украину» не обещает успокоение. Для этого нужно, чтобы одна из сторон противостояния отказалась от своей сущности.
Путину удалось засадить Байдена за стол переговоров, прибегнув к эскалации «напряжения». Повод для эскалации выглядит блефом. Никто не собирается принимать Украину в НАТО — пока. Верить в то, что Украина угрожает России, то же самое, что верить в нашествие пришельцев. НАТО потеряло драйв. Если только российская игра «кто моргнет первым» не заставит НАТО подкачать мускулы.
Возникает вопрос: если повод для шума обманка, то чего же хочет Москва? Нет сомнения, что Путин не готов переварить, что Украина может оказаться внутри вражеского блока. Но Украина для Кремля повод для осуществления более амбициозной повестки.
Зацементировав единовластие, Кремль пристраивает к нему новую геополитическую опору. Без этого властная конструкция хромает. Значит нужно сбросить европейскую систему безопасности и обеспечить России свой режим самозащиты. Это пересмотр итогов холодной войны.
Превращение России в «Крепость» требует, чтобы соседние государства окружили Россию «санитарным кордоном». Для Москвы это означает их демилитаризацию — «как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс». Короче, нужно сдать НАТО в утиль. Шаг в этом направлении будет означать и влияние России на политические процессы внутри ее «санитарного кордона». Но закрывая свое общество от западного влияния, Кремль сохраняет пост-советское новшество: механизм использования западной экономической подпитки.
Разве это не остроумно: сделать Запад не только экономическим ресурсом России, но и гарантом жизнеспособности российской вертикали. «Северный поток-2» и сферы влияния в одном стакане!
Разве не производит впечатление искусство заставить США платить Москве уступками за ненападение на Украину?!
Но есть ловушка, в которую может угодить Кремль. Стремление перестроить мир силой грозит лишить Россию западной подпитки, а российскую элиту западного «дома». Готов ли Кремль пойти на этот риск?
Тест на способность Запада к уступкам и на готовность России держать ружье наготове продолжается. Видимо, Кремль исходит из того, что Запад утратил способность к драке. В Кремле слышат западные голоса, призывающие к «пониманию» Путина. Представитель администрации Байдена признался, что Вашингтон «хочет дать Путину многое из того, что тот хочет». Понятна попытка Москвы «дожать». Но ведь можно противника «дожать» до стремления дать соответствующий ответ.
Байден ищет компромиссную формулу. Байден балансирует, стремясь не провоцировать Кремль. Его задача добиться единства союзников по вопросу сдерживания России; а союзники не спешат портить отношения с Москвой.
12 декабря «Семерка» обещала «огромные последствия» в случае российской «агрессии против Украины». Госсекретарь Блинкен уточнил: Запад готов «идти на шаги, от которых воздерживался в прошлом». Но 13 декабря оказалось, что Совет ЕС так и не договорился, включать ли в пакет антироссийских санкций одну из самых тяжелых— остановку «Северного потока-2». Более того, поддержка западными державами «полного осуществления минских соглашений», которые Москва и Киев трактуют по-разному, говорит о том, что у Запада нет компромисса, который бы всех устроил.
А Москва, задрав планку требований, уже не может отступить без потери лица. Западные лидеры мучительно ищут ответ на вызов, который может определить их дальнейшую судьбу. И пока найти его не могут.
На наших глазах происходит тестирование эффективности двух форм принуждения — угрозой войны и угрозой санкциями. Военная мощь государства, для которого такая мощь является его несущей опорой, вступает в конфликт с экономической мощью самой развитой цивилизации.
Кремль опережает Запад, заставляя его реагировать с опозданием. Западная реакция, будучи итогом согласований, обычно выглядит ватной. Но сегодня, создав крещендо, Кремль вынуждает Запад бежать быстрее.
Речь не просто о геополитической игре «кто кого?». Речь идет о завершении Путинского Проекта по воссозданию системы единовластия, которая ставит свои условия Западу и использует Запад для выживания. Разве может Путин бросить конструкцию недостроенной? Тем более, когда Запад погряз в собственном кризисе. Правда, кремлевская атака может помочь либеральным демократиям возвратить дыхание. Но когда и какой ценой?
Каким бы ни был компромисс России и Запада, он не решает вопроса нашей несовместимости. Нужно готовиться к новым встряскам. Москве придется поднимать планку еще выше — снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться.
Найдет ли Запад ответ на вызов противника, для которого шантаж угрозой силы становится формой жизни? Пока неизвестно. Мы еще должны узнать, прав ли Путин, веря в упадок Запада. Но история цивилизаций говорит о том, что в конечном итоге побеждает та, которая думает о будущем, а не уходит в прошлое.
А пока не только украинцы, но мы все стали заложниками «русской рулетки». И все мы можем стать ее жертвами.
P.S. Как говорят опросы «Левада-Центра*», только 16% опрошенных полагают, что война с Украиной поднимет авторитет Владимира Путина среди россиян.
*
«Левада-Центр» —
НКО, признанное иностранным агентом.
Александр Левковский
Самолёт Москва — Лондон приземлился в Хитроу в одиннадцать утра. Значит, до рейса на Нью-Йорк мне оставалось просидеть в аэропорту почти десять часов. Хорошо бы пробраться в Лондон на это время, но как? Британской визы у меня нет, а без визы меня, конечно, не пустят.
Можно попробовать вариант, который мне подсказала ирландская монахиня, моя соседка в самолёте. Она возвращалась в Дублин после посещения многочисленных российских монастырей и, узнав о моём стремлении увидеть Лондон, сказала:
— Вы напрасно беспокоитесь насчёт визы. Англичане вас пустят без осложнений. Попросите полицейского офицера на выходе из аэропорта, и он даст вам визу на один день.
Сёстры во Христе видят мир через розовые очки, сказал я себе, но почему бы не попробовать?
К моему удивлению, монашка оказалась права! Офицер, на самом деле, мгновенно поставил нужный штамп в мой паспорт, откозырял и выпустил меня на волю.
Я сел в подземку (очень, кстати, комфортабельную — не в пример нью-йоркскому метро), и через полчаса оказался в центре британской столицы, где я не был до этого никогда.
Был солнечный тёплый майский день — редкость для дождливой и пасмурной Англии. Я забрался на верхний открытый этаж туристического автобуса и приготовил фотоаппарат.
Говорливый гид засыпал нас названиями достопримечательностей, проплывающих слева и справа: Сент-Джеймский дворец… Пикадилли… Тауэр… Большой Бен… Вестминстерское аббатство… Букингемский дворец…
Автобус свернул на величественную набережную, и наш гид воскликнул:
— Ladies and gentlemen, наша следующая остановка — мост Ватерлоо!
Мост Ватерлоо?!
Я впервые услышал это название несколько десятилетий тому назад, когда мне было семнадцать. Неужели я его сейчас увижу?! Ведь так много в моей жизни изменилось и сломалось из-за того, что когда-то услышал я эти два слова!
Я сошёл на мостовую и двинулся к центру моста.
…Вот здесь Вивьен Ли бросилась под машину… Вера Алексеевна, помню, сказала: «Зачем надо было ей кидаться под колёса? Ведь такая смерть мучительна. Лучше было б ей броситься в воду. Моего отца бросили, связанного, с моста в реку — и он погиб, я надеюсь, почти мгновенно…»
То не был мост через лондонскую Темзу, добавила Вера Алексеевна; то был мост через Волгу у Царицына…
* * *
…Эти два слова — мост Ватерлоо — ворвались в мою юную беспечную жизнь совершенно неожиданно, хотя тропинка к ним была стандартной, протоптанной миллионами людей до меня.
Я влюбился.
Избранница моего сердца, выражаясь высокопарным стилем плохих романов девятнадцатого века, была симпатичной девочкой, на квартире которой, на улице Большая Житомирская в Киеве, мы встречали Новый и, конечно, счастливый, 1951 год.
Много лет спустя я прочитал в каторжном «Одном дне Ивана Денисовича» такие за душу берущие строки: «Начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нём Шухов право на два письма…» Вот так Шухов, полуголодный, полузамёрзший пленник ГУЛАГа, встречал 1951 год, десятый год его заключения! Но мы, молодые, сытые и влюблённые, ничего не знали тогда ни о Шухове, ни о ГУЛАГе…
Когда дело дошло до тостов, я, желая блеснуть остроумием, предложил тост за каждого из нас, начиная с меня. Все одобрительно захохотали, но тут встала серьёзная отличница Неля, комсорг женской 139-й школы, и строго сказала: «А может быть, надо сначала выпить за здоровье товарища Сталина?..»
И все мы замолчали, стыдясь, что нам не пришла в голову такая простая, такая естественная мысль, — да, конечно, надо сначала выпить за здоровье и долгие годы жизни (желательно, бесконечные годы жизни!) нашего любимого, нашего самого дорогого Иосифа Виссарионовича, благодаря которому мы можем вот так счастливо и беззаботно праздновать Новый год!..
Впрочем, это была единственная заминка в нашем прекрасном новогоднем празднике. Мы включили проигрыватель и поставили полузапрещённые-полуразрешённые пластинки с записями Вертинского и Клавдии Шульженко:
В запылённой связке старых писем
Мне случайно встретилось одно,
Где строка, похожая на бисер,
Расплылась в лиловое пятно..
Что же мы тогда не поделили,
Разорвав любви живую нить?!
И зачем листкам под слоем пыли
Счастье наше отдали хранить?
Я танцевал под этот бархатно-хрипловатый шульженковский голос с Ниной, хозяйкой дома, обнимая её худенькую спину, ощущая под моей дрожащей рукой её спинные косточки и косясь на её тонкую шею, — и чувствовал, что меня захлёстывает волна счастья!
Вот так и началась моя любовь. В ней было всё, что и положено быть в юношеской любви, когда тебе семнадцать, и ей семнадцать, когда ты у неё первый, и она у тебя первая, когда каждое прикосновение — это открытие, и когда ты видишь её и она видит тебя не такими, какие мы есть на самом деле, а — лучше… умнее… красивее!..
… Я стал бывать у Нины почти ежедневно. Придя из школы и наскоро пообедав, я бежал к трамваю — и через минут двадцать нажимал на дверной звонок их квартиры.
Мне обычно отворяла их домработница Оксана, пожилая смешливая украинка, упорно отказывавшаяся говорить по-русски и называвшая меня на хохлацкий лад — Сашко. Отношение ко мне у неё установилось слегка ироническое; она в глаза и за глаза называла меня «наш ухажёр» и кричала Нине от дверей так: «Нинусь, йды сюды, тут твий ухажёр прыйшов!»
И Нина, хохоча, выбегала из гостиной.
Да-да, у них была шикарная гостиная — и не только гостиная; у них были две спальные комнаты, кабинет, просторная кухня и небольшая безоконная комнатка для Оксаны.
По тем временам это была квартира невиданной роскоши!
Мы же с мамой-портнихой и моими двумя сёстрами обитали в двухкомнатной коммуналке, на втором этаже покосившегося от старости дома, с обшарпанной, вечно холодной кухней, где стоял стойкий чад от трёх керосинок и двух керогазов.
И хотя я не хотел себе в этом признаться, но прекрасная квартира Нины, чудный запах, царивший в ней, безукоризненная чистота, высокие лепные потолки, белые занавеси на окнах — весь этот богатый устроенный быт притягивал меня, точно магнит.
Это была квартира Нининого отца — крупного профессора, члена-корреспондента академии наук Украины, доктора экономических наук, заведующего кафедрами двух институтов.
— Папа зарабатывает кучу денег, — говорила мне Нина, смеясь, — он и сам не знает, сколько. И ещё он пишет кандидатские диссертации для всяких бездарей, лентяев-сыночков секретарей обкомов, которые сами ничего написать не могут. И они ему платят за это огромные деньги!
Я мельком видел её папу. Я не очень помню его внешность. Мне помнится, что он ни разу не заговорил со мной, только отвечал коротко на моё приветствие. Он вообще в семье был очень молчаливым. Звали его то ли Борис Семёнович, то ли Семён Борисович — не помню, хоть убей!
Зато я прекрасно помню Веру Алексеевну — Нинину маму.
Ведь если бы не Вера Алексеевна, то моя жизнь потекла бы совсем по другому руслу, и не был бы я тем, кем стал!..
… Когда Вера Алексеевна впервые открыла мне дверь, мне показалось, что передо мной стоит какая-то известная киноактриса. Она мне сразу же напомнила наших кинокумиров тех лет — Любовь Орлову и Марину Ладынину, с примесью Людмилы Целиковской.
Словом, она была очень-очень красива, а мне к моим семнадцати годам в кругу моих родных и знакомых ещё не довелось видеть по-настоящему красивых женщин.
— Здравствуй, Саша, — тихо сказала она и плавно повела рукой, показывая, куда мне пройти. — Раздевайся… Нины нет, и до её прихода тебе придётся коротать время со мной.
Она улыбнулась.
Я пробормотал что-то невнятное и прошёл вслед за ней в гостиную.
… Те два с половиной часа, что мы провели с ней и с пришедшей вскоре Ниной, были для меня откровением в полном смысле этого слова. До разговора с Верой Алексеевной я никогда не встречал человека столь начитанного, столь много знающего, столь живо и глубоко судящего о литературе и искусстве, -то есть, о том, что было для меня главным в моей молодой жизни!
Я научился читать, когда мне было четыре года, и с тех пор не было у меня иного любимого занятия, кроме как взять в руки книгу — и читать! Я читал буквально всё, что попадало мне под руку — часами, днями, ночами, где угодно и при любых обстоятельствах…
Моя малограмотная мама, видя это странное литературное помешательство, часто беспокоилась о моём умственном здоровье.
Я перечитал всю русскую классику и всех иностранных авторов, которые удостоились чести быть переведёнными на русский язык.
И вот я сижу перед красивой женщиной, мамой моей подруги, — и она открывает передо мной мир литературы и искусства, о которых я не имею никакого представления. Она говорит о Гумилёве и Северянине, о Зинаиде Гиппиус и Мережковском, о Бунине и Набокове… О журнале «Смена вех», о театре Мейерхольда и Таирова, о полотнах Кандинского, о странном поэте Хлебникове…
— Вера Алексеевна, откуда вы всё это знаете?
Она улыбается, открывая ряд ровных белых зубов.
— Если мы с тобой подружимся, Саша, ты узнаешь ещё больше… Но ты молодец! Я никогда не думала, что среди нынешней молодёжи есть такие серьёзные знатоки литературы, как ты.
— Мамочка, — пожаловалась Нина, — Саша не может говорить ни о чём другом -только о книгах. Но ведь жизнь — это не только литература и искусство, правда?
— Верно, — согласилась Вера Алексеевна, — но литература и существует для того, чтобы мы лучше поняли жизнь…
… И мы с Верой Алексеевной на самом деле подружились.
Теперь меня тянуло в их дом не только потому, что мы с Ниной открывали, шаг за шагом, сладкий мир любви (где, кстати, дело уже дошло до поцелуев!), но и потому, что я хотел слушать её маму, эту удивительную женщину, знающую всё обо всём и обращающуюся ко мне на поразительно чистом, интеллигентном — литературном! — русском языке.
Дома у меня царила невероятная языковая смесь идиш, русского и украинского, на которых переговаривались наши соседи, знакомые и многочисленные родственники. Здесь не поняли бы и десятой доли того, о чём говорила Вера Алексеевна.
Вскоре я уже был своим человеком в их доме. Настолько своим, что меня по воскресеньям брали в поход на Сенной базар, где я выступал в роли грузчика, помогая Оксане тащить три тяжёлые кошёлки с продуктами.
Вера Алексеевна тоже была участницей этих экспедиций, но она была как бы руководительницей, давая указания Оксане, что покупать, но никогда не вмешиваясь в сам процесс торговли.
— Вэра Олэксиивна, — говорила мне Оксана, — жинка дуже интеллихентна, вона николы не втручаеться [«то есть, не вмешивается»], як я торгуюсь на тому клятому Синному базари!
Но в одно из воскресений Вера Алексеевна сказала мне, что Оксана уехала на две недели на село, куда-то на Житомирщину, и мы пойдём на рынок вдвоём.
— Мы, Саша, купим только одну кошёлку -только самое необходимое. Так что твоя работа сегодня будет очень лёгкой.
Она улыбнулась и легко прикоснулась к моему плечу кончиками пальцев.
Закупив быстро и безо всякой утомительной торговли кошёлку продуктов, мы вышли из шумного базара на Большую Житомирскую и присели на скамейку отдохнуть. Вера Алексеевна вынула из сумочки пачку «Беломора» и закурила.
Прямо перед нами, на другой стороне улицы, у входа в кинотеатр, возвышалась огромная реклама нового фильма.
— Знаешь что, Саша, — вдруг сказала Вера Алексеевна, глядя на рекламу, — а что, если мы с тобой посмотрим сейчас этот фильм? — Она взглянула на часы. — Через двадцать минут начало…
Фильм назывался — «Мост Ватерлоо».
* * *
… Те из читателей, кто жил в то время, помнят, конечно, эту популярную киноленту. Там, в финальной сцене фильма, главная героиня (которую играла знаменитая Вивьен Ли), пережив страшную трагедию, бросается посреди моста Ватерлоо под колёса автомобиля.
Когда мы вышли из кинотеатра и вновь присели на скамейку, Вера Алексеевна сказала задумчиво:
— Зачем надо было ей кидаться под колёса? Ведь такая смерть мучительна. Лучше было б ей броситься в воду. Моего отца бросили, связанного, с моста в реку — и он погиб, я надеюсь, почти мгновенно…
Я взглянул на неё в замешательстве.
— В какую реку? В Темзу?
Вера Алексеевна невесело усмехнулась.
— Нет, — сказала она. — В Волгу, у Царицына.
— Кто бросил? — пробормотал я.
— Красноармейцы.
— Кто-о?!
Она повернулась ко мне и посмотрела мне прямо в глаза.
— Бойцы Красной армии, — спокойно пояснила она.
— Почему?
— Им так приказали.
— Кто приказал?
Вера Алексеевна приблизила своё лицо к моему и, продолжая пытливо вглядываться в мои глаза, тихо произнесла:
— Сталин…
…В ту ночь я не мог заснуть. Я не был в состоянии забыть на мгновение тот страшный, перевернувший всё моё сознание, разговор, который последовал за произнесённым Верой Алексеевной именем великого вождя советского народа!
— Сашенька, — говорила Вера Алексеевна, — запомни: он не великий, и он не вождь!
— А кто он?! Кто?
— Он — убийца миллионов!..
… Теперь, читатель, отвлекитесь на минуту и вспомните, что на дворе стоял 1951 год. До смерти Сталина ещё оставалось два года. Страна была опутана сетью концлагерей, и за каждое слово, произнесённое Верой Алексеевной, трибунал отвесил бы ей, по зловещей 58-й статье, полноценные двадцать пять лет каторги…
— Почему вы говорите мне это, Вера Алексеевна?
— Потому, Саша, что мне некому это сказать. И ещё потому, что я не могу больше держать в сердце это страшное знание. Нине это просто неинтересно, а Борис Семёнович не верит, что это правда.
— Я тоже не верю! — сказал я вызывающе. — Я читал о Сталине в повести «Хлеб». Он был великий вождь!
— Саша, пойми, Алексей Толстой — это талантливый лжец! Сталина, которого он изобразил в насквозь лживом «Хлебе», не было на самом деле. Был бандит и преступник, который в гражданскую войну распоряжался топить людей в баржах, а когда барж не хватало — связывать их попарно и бросать в Волгу.
— И вы говорите, что он приказал убить вашего отца?.. Кем был ваш отец? Белогвардейцем?
— Он был хирургом, как и я.
— Но он был белым, верно?
— Нет. Он был сугубо гражданским. Он лечил всех — и белых, и красных. Он следовал клятве Гиппократа — оказывать врачебную помощь всякому, кто в ней нуждается.
— Так за что же его утопили?!
— Он вылечил от смертельной раны деникинского генерала.
Я перевёл дыхание. Я чувствовал, как моё сердце бьётся о грудную клетку. Мне не хватало воздуха.
— Саша, — тихо сказала Вера Алексеевна, — ни одна живая душа не должна знать об этом разговоре. Поклянись!
— Клянусь! — сказал я.
Она смяла окурок и вынула из сумочки пачку «Беломора». Щёлкнула зажигалкой и глубоко затянулась новой папиросой.
— Саша, — сказала она, протягивая мне пачку, — посмотри, что здесь изображено.
Она медленно провела кончиком пальца по жирной красной линии, пересекающей картинку, нарисованную на пачке.
— Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина, — пробормотал я.
Впервые за всю свою короткую жизнь я почувствовал какое-то странное необъяснимое неудобство, произнося такое привычное, такое славное имя — Сталин…
— Это не канал, — говорила Вера Алексеевна. — Это кладбище тысяч ни в чём не повинных людей. Рабов, подобных рабам на строительстве пирамиды Хеопса… И таких кладбищ рассыпано тысячи по нашей стране… Вот ты, Саша, страстный любитель литературы, верно? А знаешь ли ты, сколько известных советских писателей — лжецов, лгунов, брехунов! — прославили это преступное строительство, зная или подозревая, что это не славная стройка социализма, а огромное многотысячное кладбище?
Я молчал, подавленный.
Она начала перечислять бесстрастным голосом, глядя мимо меня куда-то вдаль:
— Максим Горький… Алексей Толстой… Валентин Катаев… Вера Инбер… Михаил Зощенко… Всеволод Иванов… Бруно Ясенский… Виктор Шкловский…
* * *
… Через неделю мы опять сидели с ней на той же скамейке, и она тихо говорила, беспрерывно затягиваясь папиросой:
— Мы с тобой, Саша, живём в тюрьме. Мы читаем то, что нам разрешают читать, мы смотрим те фильмы, что нам позволяют смотреть, мы поём те песни, что нам вталкивают в наши глотки… Где-то далеко, на недоступных континентах, находятся собор Парижской Богоматери… нью-йоркский Бруклинский мост… флорентийская галерея Уффици… мадридский музей Прадо… но мы так и не увидим их, потому что мы, рабы, должны знать своё место…
Она повернулась ко мне и положила ладонь на мою руку.
— Я, наверное, поступаю глупо, обрушивая на тебя такую тяжесть, но я не могу иначе, Саша… Мне в семье сейчас очень тяжело. Мы с Борисом Семёновичем становимся всё более далёкими друг от друга. Мы, по сути, чужие люди. Он меня совсем не понимает. Он весь поглощён только своей работой.
Её ладонь тихонько сжала мою руку, и я вдруг почувствовал странное ощущение телесной близости к этой женщине, телесного влечения к ней, матери моей подруги. Это было странное и изумительное чувство, сродни тому ощущению, что я испытывал, обнимая Нину, но гораздо более сильное… намного более явственное…
* * *
Два месяца спустя я перестал ходить к Нине и Вере Алексеевне.
Мне надо было побыть одному. Мне надо было разобраться в грузе того ужасного знания о моей стране — знания о концлагерях, о невинных жертвах, о позорных судебных процессах, — которое Вера Алексеевна обрушила на меня за эти два месяца, — за шесть наших судьбоносных встреч….
И мне надо было разобраться в моих раздвоенных чувствах…
… Через пять дней Нина встретила меня на выходе из школы.
Мы побрели по улице Артёма в сторону её дома, тихо переговариваясь.
— Я вижу, моя мама очаровала тебя, — говорила Нина с лёгкой обидой в голосе. — Она всех очаровывает. Правда, она красивая?
— Очень! — вырвалось у меня.
— Ишь ты — даже «очень»!.. А я красивая?
— Ты тоже, — пробормотал я неуверенно.
— Я пошла в папу, — сказала Нина. — Поэтому я получилась брюнеткой. А мама — блондинка. Белокурым легче быть красивыми. Посмотри на наших знаменитых киноактрис — они все блондинки…
Я слушал её лёгкую пустую болтовню, и мне становилось невыносимо скучно. Мне было с ней неинтересно! Мне не хотелось быть с ней.
Мне хотелось быть с Верой Алексеевной.
Я вспоминал нашу последнюю встречу. Вера Алексеевна что-то говорила мне, глядя мимо меня вдаль, а я слушал её вполуха и смотрел на длинный белокурый завиток волос на её стройной шее. Больше всего на свете я хотел сейчас дотронуться до этого белокурого завитка, приподнять его вверх и поцеловать нежную белую шею под ним.
* * *
Теперь я был убеждён, что Вера Алексеевна говорила правду. Теперь я видел вокруг себя только ложь — ложь в газетах, ложь в книгах, ложь в песнях, ложь в фильмах…
Я должен был сделать что-то, чтобы отвергнуть эту ложь.
Но то, что я сделал, было верхом глупости, и последствия этой глупости были ужасными.
На уроке биологии я раскрыл учебник на той странице, где был изображён Трофим Денисович Лысенко, корифей советской науки. Корифей имел внешность, разительно напоминающую Адольфа Гитлера, но только без усиков. Я пририсовал Трофиму Денисовичу усики фюрера и подправил ему причёску. Теперь Лысенко стал неотличимо похож на вождя фашистов.
Сзади ко мне подкрался учитель биологии, выхватил из моих рук учебник — и на следующий день решением педагогического совета я был исключён из школы!
Плачущая Нина кричала мне:
— Доигрался?! Теперь ты останешься без аттестата зрелости! И всё из-за мамы, я уверена! Из-за мамы, которая очаровала тебя, как она очаровывает всех!
Я молчал.
Нина вытерла слёзы.
— А теперь я расскажу тебе новость, — произнесла она будничным тоном. — У меня скоро будет брат или сестра.
— Кто?!
— Брат или сестра, — повторила она. — Мама беременна, на пятом месяце…
* * *
Моя привычная жизнь кончилась. Целыми днями я лежал на диване лицом к стене и думал только о Вере Алексеевне.
Я знал, что ей тридцать восемь лет. Я знал, что она замужем. Я знал, что в этом возрасте женщины беременеют. Я знал всё это, но не представлял, что это может случиться с Верой Алексеевной!
Значит, четыре месяца тому назад, как раз тогда, когда она говорила мне «Саша, если мы с тобой подружимся…», она, обнажённая, лежала в постели с мужем, и они совершали это… Моя Вера Алексеевна делала всё то сладко-нечистое, о чём я читал у Ги де Мопассана и Эмиля Золя! Она стонала! Она этим наслаждалась! А он целовал белокурый завиток волос на её шее. Мой завиток волос!
А может быть, он взял её силой, и она отчаянно и тщетно отбивалась! А потом плакала в ванной и выкуривала одну папиросу за другой…
Я мог представить себе любую женщину, совершающую это, даже мою маму, — но не Веру Алексеевну!
Я не хотел больше жить.
Но жить надо было. И надо было делать что-то с учёбой.
Наши добрые соседи посоветовали обезумевшей от горя маме отослать меня в Казань, где жили их влиятельные и состоятельные родственники. Там, говорили они, я смогу закончить десять классов вечерней школы и поступить в институт.
Мне было всё равно. В Казань — так в Казань. Лишь бы подальше от Веры Алексеевны, которая меня предала. По какой извращённой логике я считал её предательницей, я не мог и даже не пытался себе объяснить.
На вокзале я равнодушно выслушал последние наставления плачущей мамы, поцеловал её и забрался на верхнюю полку.
Я лёг на живот лицом к окну.
Поезд миновал киевские окраины и медленно двинулся по мосту через Днепр. И когда я увидел последние, уплывающие от меня, холмы киевского правобережья, я уткнулся лицом в подушку и безудержно заплакал…
* * *
Я вновь встретил Веру Алексеевну спустя двадцать шесть лет, в Америке.
В Принстонском университете шёл творческий вечер Евгения Евтушенко. Я опоздал к началу, тихо вошёл в зал и пристроился в заднем ряду.
Евтушенко читал нараспев:
Идут белые снеги, как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя.
Чьи-то души, бесследно растворяясь вдали,
Словно белые снеги, идут в небо с земли.
Впереди меня, одна в ряду, сидела женщина с белокурым завитком волос на стройной шее…
… Мы сидели в маленьком кафе на площади Пальмера.
— Все эти годы, Саша, — говорила Вера Алексеевна, — я мучилась одной мыслью: имела ли я право обрушить на тебя, семнадцатилетнего, такое страшное знание о нашей стране. Когда ты уехал, Нина кричала мне: «Ты преступница! Ты морально развратила чистого мальчика! И ты отняла его у меня!»
— А я, Вера Алексеевна, мучился все эти годы другой мыслью: разве это справедливо, чтобы вы и я родились с разницей в двадцать один год? Почему Бог допускает такую несправедливость? Ведь я любил вас…
— Я знаю. И я любила тебя, Саша, — сказала она сквозь слёзы.
Я расплатился; мы вышли из кафе и направились к автостоянке.
— Я живу с сыном Сашей, — говорила Вера Алексеевна. — Несмотря на молодость, он уже видный учёный, профессор русского языка и литературы здесь, в Принстоне. Я родила его через пять месяцев после твоего отъезда в Казань.
— А где Нина?
— В Киеве. Семья, муж, двое детей…
— А Борис Семёнович?
— Умер три года тому назад. Мы были в разводе.
Мы подошли к её машине.
— Какие чудные стихи прочитал Евтушенко! — произнесла она.
Идут белые снеги… И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду.
Я не верую в чудо, я не снег, не звезда,
И я больше не буду никогда, никогда…
Мы обнялись, и я впервые поцеловал её. Мы вытерли слёзы, текущие по нашим щекам.
Уже отворив дверцу машины, Вера Алексеевна обернулась ко мне.
— Знаешь, Саша, — сказала она, — вчера по телевизору показывали документальный фильм о Вивьен Ли. Помнишь ту картину с её участием, которую мы с тобой видели в Киеве, когда тебе было семнадцать?
— Помню, — сказал я. — «Мост Ватерлоо»…
___
*) Новая авторская редакция.
Опубликовано в Проза — Помечено Александр Левковский
| Источник Переслал: Лев Левин Внимание! Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Авторские материалы предлагаются читателям без изменений и добавлений и без правки ошибок. |
Приглашаем на наш Телеграм-канал.
Т-44М. Источник: agtf.ru
Из Сибири в Европу
После школы выбор пал на Омское танко-техническое училище по причине близкого расположения и фактического отсутствия другой альтернативы для выходца из сибирской глубинки. В 1967 году училище удалось закончить с отличием, но не круглым отличником – средний балл превышал 4,5. Это позволяло выбирать военный округ для службы и первоначально я раздумывал о Дальневосточном и Забайкальском. Сейчас и в страшном сне не представится возможность добровольного выбора столь отдалённых гарнизонов, да ещё и в таких экстремальных климатических условиях. Но мне, двадцатиоднолетнему лейтенанту, тогда это показалось вполне достойным вариантом, не лишённым романтики. На удивление, всё решилось без меня, и местом службы оказался Прибалтийский военный округ. Не иначе, как ротный поспособствовал – не зря мы с ним в настольный теннис играли.
Заместитель командира танковой роты по технической части или сокращённо ЗКТЧ, «зампотех» – именно в такой должности меня ждали в Таллине. Немного о специфике профессии. В Советском Союзе танкистов готовили сразу в восьми танковых училищах, и только два из них были техническими – в Омске и Киеве. Командные располагались в Харькове, Ташкенте (точнее в Чирчике), Челябинске, Ульяновске, Казани и Благовещенске. К слову, на постсоветском пространстве учебные заведения, готовившие танкистов, остались лишь в Омске, Казани и узбекском Чирчике. Специфика обучения будущего зампотеха понятна – минимум оперативно-тактической подготовки и максимум изучения материальной части с особенностями эксплуатации и ремонта. В войсках выпускники-технари не поднимались выше заместителей командиров подразделений. Но, по моему глубокому убеждению, любой зампотех, в случае чего, успешно исполнит роль командира. В мирное время зампотех отвечал за «техническое состояние, правильную эксплуатацию, своевременное техобслуживание и качественный ремонт, а также правильное хранение и содержание техники». Кроме того, за техническую подготовку механиков-водителей подразделений.
Источник: auction.ru
Прибалтийский военный округ, в который меня направили в 1968 году, никогда не был чем-то выдающимся в военном отношении. Основные силы сосредотачивались в Калининградской области – Латвия, Литва и Эстония ограничивались более скромным контингентом. Типичный второразрядный округ, на территории которого в подавляющем большинстве дислоцировались соединения и части сокращённого состава. Это означало, что они были укомплектованы вооружением и техникой по штату военного времени (за исключением, как правило, грузовых автомобилей), а офицерским составом – процентов на 70. Сержантским и рядовым – от силы на 10-15 %. Все остальные трудились недалеко от пунктов дислокации «на гражданке», но в армии их ждали конкретный танк, орудие и т.п. Велась соответствующая мобилизационная документация, обычно под грифом «Совершенно секретно». Я очень не любил эту мобилизационную работу!
Войска Прибалтийского военного округа в основном предназначались для действий во втором эшелоне, поскольку нужно было время для их доукомплектования до штата военного времени и боевого слаживания. Существовала эта система по причине нехватки средств на содержание полных штатов.
Клоога
В предписании, которое мне вручили ещё в Омске, было указано – г. Таллин. Я порадовался – в столице повезло служить! Оставив после свадьбы свою молодую жену (ей нужно было уладить дела в институте), я прибыл в Таллин один, с чемоданом, в который с трудом уместилась моя военная форма, и с плащ-накидкой, свёрнутой на манер скатки и висящей на ремешке через плечо.
На столичном вокзале обратился к первому встречному милиционеру, и он на сильно ломаном русском языке долго объяснял мне, где находится штаб дивизии. Объяснил хорошо, поскольку я всё-таки добрался до места. Путь лежал по улочкам Старого города – исторической части Таллина. Шёл с ощущением, что попал на съёмки какого-то исторического фильма. Надо думать, какое смятение души я испытал, обычный сибирский деревенский парень, при виде такого великолепия. В мире, в котором я родился и жил до сих пор, ничего подобного не было.
Штаб дивизии располагался на одной из старинных узких улиц, в старинном же здании. Местный кадровик, надо сказать, меня разочаровал. Оказалось, что рота, зампотехом которой я должен был стать, находится не в Таллине, а в маленьком посёлке в 40 км от него. Там дислоцировался так называемый Матросовский мотострелковый полк, названный в честь воевавшего в нём Героя Александра Матросова, грудью закрывшего пулемёт вражеского дота.
Ехать до места службы нужно было на пригородной электричке по живописной, непривычной для моих глаз местности: сосны, валуны, ухоженные хутора среди таких же ухоженных полей. В электричке я испытал горечь первой утраты: залюбовавшись местными красотами, я совершенно забыл про плащ-накидку, которая осталась лежать на полке над окном вагона. Вышел из электрички, а плащ-накидка уехала. Если вы знаете, насколько дождлива прибалтийская погода, поймёте горечь потери.
Посёлок назывался Клоога. Сейчас он известен, прежде всего, за счёт мемориала немецкому концентрационному лагерю, где в 1944 году расстреляли до 2 тыс. заключённых. В конце 60-х на месте трагедии стоял обелиск, оградка, всё аккуратно и ухожено, впрочем, как и всё в Прибалтике. Население посёлка не превышало тысячи человек, эстонцев было очень немного, в основном жили расквартированные военнослужащие Советской Армии.
Прибыв в полк, я, как положено, представился командиру полка по фамилии – надо же случиться такому совпадению – Федоров. Полковник, фронтовик, по-отцовски доброжелательно дал мне первые напутствия в офицерской службе. За давностью лет забыл я их содержание.
Заступил я на должность зампотеха отдельной танковой роты хранения, дивизионного подчинения. Весь штат этой роты состоял из командира роты, капитана Крюкова, командира взвода ст. лейтенанта Шевчука и шести солдат. Шевчук с солдатами через сутки ходил в караул, поэтому первые его слова были при нашей встрече такие: «Ну вот, теперь я в два раза реже буду заступать начальником караула!». Вот так и началась моя служба: 5-6 раз в месяц – караульная служба, а в остальное время – работа на технике наравне с солдатами.
Танковая рота хранения
Танковая рота только на бумаге называлась ротой – на самом деле в ней числилось 30 танков Т-44М, находящихся на длительном хранении. О существовании такой марки танков я до прибытия сюда не знал. У меня не было в то время опыта эксплуатации разных видов и марок техники. В училище практиковались на Т-55, который тогда был одним из лучших. Были в то время и Т-62, но кардинально друг от друга эти марки касательно моей технарской профессии не отличались. Т-44М – это переходная модель от Т-34 к Т-54, с ходовой частью и трансмиссией от Т-54, а башней и пушкой – почти точь-в-точь от Т-34. Танки были заклеены специальной влагонепроницаемой тканью и загружены большим количеством силикагеля, для поглощения влаги внутри корпуса. Заклейка являлась полностью герметичной. Срок хранения этих танков составлял 5 лет, после чего их полагалось расконсервировать, сменить масло, произвести замену определённого количества дюритов и патрубков. Помимо этого, требовалось выбрать один контрольный танк и пройти на нём регламентные 5 километров, дабы проверить работоспособность боевой машины. Сказано – сделано. Танк заправили, завели и отправили на контрольный пробег. Но навыков вождения у служивших в роте хранения механиков-водителей недоставало. В итоге солдат-срочник налетел на придорожный валун передним правым ленивцем и встал как вкопанный. Технический разбор на месте дал удивительный результат – ходовая танка осталась целая, а вот зубья вала бортовой передачи трансмиссии раскрошились. Собрали консилиум дивизионных технарей и постановили, что причина в усталости металла – всё-таки танк выпущен был более двадцати лет назад. К слову, в моей практике зампотеха я подобных казусов более не встречал. Этот случай лишний раз напомнил, в какой боевой готовности находится законсервированная техника. В то же время для боевых действий на второстепенных направлениях, каким являлась Прибалтика, Т-44М вполне годились.
Дом офицеров
Немного о бытовых условиях молодого лейтенанта. Мне, как семейному человеку, предоставили жильё – квартиру в двухквартирном финском домике, в которой имелось две комнатки и маленькая кухня. Отопление – печное. Вода – на улице, в колонке. «Удобства» – тоже на дворе. Эти домики, стены у которых представляли два дощатых слоя, между которыми когда-то был засыпан шлак для утепления, а снаружи были обшиты плитками из стружечно-цементной смеси, обветшали и почти не держали тепла. Благо зимы в Эстонии, хоть и снежные, были не в пример теплее сибирских. И когда топилась печь, в домике было тепло. В крохотной кухоньке размещалась печь-плита и газовая плита с баллонным привозным газом. Мы воспринимали такие условия как само собой разумеющиеся. Дали нам, молодожёнам, из воинской части в пользование железную кровать и две табуретки. И первая наша семейная покупка случилась в виде тахты за 60 рублей. Для понимания её важности и ценности стоит, думаю, указать, что мой месячный оклад составлял 135 рублей.
Современное состояние Дома офицеров. Клоога, Эстония. Источник: wikimedia.org
Одной из главных (если не самой главной) достопримечательностей посёлка являлся Дом офицеров, представлявший собой красивое белое здание с великолепным парадным крыльцом, украшенным колоннами. Типичный памятник сталинского ампира. В Доме офицеров была сосредоточена вся культурная жизнь посёлка: работали кружки, демонстрировались фильмы. Имелась бильярдная с двумя столами. Довольно часто к нам приезжали на творческие встречи популярные столичные артисты. Например, Станислав Любшин, Михаил Ульянов, Людмила Чурсина, Михаил Пуговкин и другие. Это по-настоящему скрашивало жизнь, в общем-то, захолустного эстонского местечка.
В современной Эстонии Дом офицеров, очевидно, рассматривается как памятник советской «оккупации» – огорожен полуразвалившимся забором, окна побиты, фасад кое-где испачкан граффити. Совсем не похоже на знаменитую прибалтийскую рачительность и аккуратность. Впрочем, так варварски эстонцы обращаются не только с советским наследием – в окрестностях Клооги постепенно разрушается рыцарская мыза (господский особняк) конца XVIII века.
Вернёмся в 1968 год, в Дом офицеров, где по большим праздникам устраивались праздничные застолья для семей офицеров и прапорщиков гарнизона. Организовывались для женщин ситцевые, осенние балы, где они могли поучаствовать в конкурсах на лучший наряд, сшитый собственноручно. За столом сидели в соответствии с принадлежностью к конкретной части, а танцы под оркестр – в общем зале.
И вот, в первый же такой вечер, 7 ноября 1968 года, подходит ко мне лейтенант Шемятков, командир взвода из 3 отдельного танкового батальона (3 отб), и спрашивает: «Когда ты к нам прибудешь на службу?» Я не понял вопроса, а он продолжил, дескать, на меня уже прибыл приказ о назначении на должность зампотеха танковой роты этого батальона. Я, разумеется, не принял его слова всерьёз, однако сразу после праздника мне в строевой части вручили предписание о переходе в этот самый 3 отб. Батальон этот был особенным по нескольким причинам: 1) он был развернутый до полного штата, что редкость для Прибалтики; 2) подчинялся напрямую командованию ПрибВО; 3) средние 36-тонные танки имели возможность путём дополнительной оснастки плавать своим ходом по морю на расстояние не менее 100 км при волнении не более 3 баллов. Таких уникальных частей в Советском Союзе было всего четыре – на Дальнем Востоке в Славянке, на Северном Флоте под Мурманском, в эстонской Клооге и на Черном море.
Итак, спустя три месяца после прибытия к месту службы, я, пройдя триста метров и не выходя за КПП, перешёл в другую часть, по-своему уникальную. Но это уже немного другая история.
Продолжение следует…