Читаем с интересом — Рассказ Моя первая зоология читать онлайн полностью, Чарушин Е. И.
В ЛЕСУ
БАРСУК
Пришла весна, стаял снег. Из своей сухой норы вылез барсук. Сонный еще. Сопатый, мохнатый, подслеповатый. Он всю зиму спал, как медведь. Шерсть у него на боках свалялась. Потягивается барсук, расправляется.
Пошел барсук на охоту — лягушек ловить. Под корнями во мху жуков искать. Поест, попьет, почавкает — да тем же ходом обратно к себе на квартиру, в сухую свою нору.
КАБАН-СЕКАЧ
Это дикая свинья — кабан.
Он бродит по лесам, похрюкивает. Дубовые желуди подбирает. Своим длинным рылом в земле роется. Своими кривыми клыками корни рвет, наверх выворачивает — ищет, чего бы съесть.
Недаром кабана секачом зовут. Он клыками и дерево подсечет, как топором, он клыками и волка убьет — будто саблей зарубит. Даже сам медведь и тот его побаивается.
БЕЛКА
Надоело белочке скакать по веткам да шишки грызть — шелушить. Захотелось ей грибков поесть. Скок — прыг, скок — прыг с ветки на ветку, с прутика на прутик — да с дерева на землю.
Белочка-белочка, ты рыжики ешь, подосиновики, сыроежку и груздь, и белый гриб, сморчок, боровик и масляник. Только смотри не ешь красивый красный гриб в белых пятнышках: это ядовитый гриб мухомор — отравишься.
ЖУРАВЛЬ
Проснулся журавль на болоте, на моховой кочке, клювом пригладил перья и закурлыкал во весь голос: курлы,курлы!
Полетел на горох — горошку поклевать. Поел, на речку слетал, напился, в чистую воду посмотрелся — до чего хорош! Ноги длинные, шея тонкая, сам весь серый. Расправил журка крылья и ногами стал притопывать, подплясывать, приседать, вертется, и в воду глядеться.
РЫСЬ
В тёмном лесу, у лесной тропинки, залёг зверь. Это рысь — кошка ростом с большую собаку. Хвост у неё короткий, уши с кисточками, шкура в пятнышках. Лежит рысь на толстом суку и ждёт. Не ходи под этим деревом — попадёшь в её когти. Она с дерева так и бросится на добычу!..
МЕДВЕДЬ
Сидит медведь-сладкоежка, ест малину.
Чавкает, урчит, причмокивает. Не по одной ягодке срывает, а весь куст целиком обсасывает — одни голые веточки остаются.
Ну и жадный же ты, мишка! Ну и прожорливый!
Смотри, объешься — живот заболит.
ЛИСА
Лисичка зимой мышкует — мышей ловит. Она встала на пенёк, чтобы подальше было видно, и слушает и смотрит: где под снегом мышь пискнет, где снег чуть-чуть шевельнётся.
Услышит, заметит — кинется.
Готово: попалась мышь в зубы рыжей пушистой охотнице!
ЗАЯЦ
Шуба у зайки тёплая-тёплая, белая-белая. Шуба зайку от мороза спасает и от охотника скрывает. Снег белый, да и зайка белый. Где такого заметишь! А пока разглядываешь да всматриваешься, зайка задаст стрекача, только его и видели.
Сидит зайка — ветки обдирает, горькую кору гложет. Тёплого лета ждёт. Ведь летом раздолье — всякой еды вдоволь… Ешь — не хочу! Хочешь — траву тимофеевку, любой цветочек с медом откуси.
Не лазай только, зайка, в наш огород, не грызи капусту, не порть нашу морковку.
СОВА
У совы перья мягкие, крылья неслышные, не свистят, не шумят; когти у совы кривые, острые, никто из таких когтей не вырвется — ни мышь, ни белка, ни сонная птица. По ночам сова охотится, а днём спит.
Две синички по лесу летали, по веткам шныряли и вдруг увидали сову. Запищали, закричали: «Эй, собирайтесь, птицы, сюда! Вот он, вот он, ночной разбойник, вот он сидит, пучеглазый!»
ТЕТЕРЕВ
Очень красивый этот лесной петух. Хвост косицами, сам весь чёрный, а брови красные-красные, ноги короткие, все в пёрышках, будто в валенках, чтоб зимой не мёрзли.
Сидит он зимой на берёзе, клюёт берёзовые серёжки, соберётся спать — и бултых вниз головой прямо в снег! В снегу повернется раз — другой, у него там получится комнатка снеговая, он в ней и спит всю ночь. А весной соберутся тетерева на лесных полянках и токуют. Подскакивают, дерутся и песни поют. Кто на весь лес чуффыкает: чуффык! чуффык! А кто голубем воркует: гур-гурру! гур-гурру!
ЕЖ
Ходили ребята по лесу, нашли под кустом ежа. Он там со страху шариком свернулся. Попробуй-ка возьми его руками — везде иголки торчат. Закатали ежа в шапку и домой принесли. Положили на пол, поставили молочка в поддонничке.
А еж лежит шариком и не шевелится.
Вот он час лежал и еще целый час.
Потом высунулся из колючек черный ежиный носик и задвигался.
Чем это вкусным пахнет?
Развернулся еж, увидел молоко и стал его есть. Поел и снова шариком свернулся.
А потом ребята другим чем-то занялись, зазевались — ежик и удрал к себе обратно в лес.
ВОЛК
Берегитесь, овцы в хлевах, берегитесь, свиньи в свинарниках, берегитесь, телята, жеребята, лошади, коровы!
Волк — разбойник на охоту вышел.
Вы, собаки, громче лайте — волка пугайте!
А ты, колхозный сторож, заряди-ка своё ружьё пулей!
ДЯТЕЛ
Кто это барабанит в лесу так громко? Что это за барабанщик такой? Да вот он — пестрый и шапка красная. Прилетел на сосну, когтями в кору вцепился, хвостом снизу подперся; прыг-скок по стволу вверх. Нашел местечко, где под корой червяк, снова застучал клювом — тр-ррр, тр-ррр, тр-ррр… Съел червяка, улетел подальше, опять кору подолбил — тр-ррр, улетел совсем далеко, еле его и слышно — тр-ррр… Будто в барабан барабанщик барабанит. Да только я теперь знаю, что это не барабанщик, а птица дятел.
ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ И ХОЛОДНЫХ СТРАН
ЛЕВ
Берегитесь, зебры — полосатые лошади! Берегитесь, быстрые антилопы! Берегитесь, круторогие дикие буйволы!
Лев на охоту вышел!
Будто гром прогремел и прокатился по кустам и зарослям. Это львиный рев, львиное рыкание. И все звери притаились.
Лев всех сильней, всех страшней. Грива у него густая, когти у него острые, зубы у него крепкие.
Кого он этой ночью поймает?
ПИНГВИНЫ
Это совсем удивительные птицы — на других не похожи, они летают в воде, а не по воздуху. Нырнут и так сильно машут крыльями-коротышками, так быстро летят под водой, что рыбу догоняют. А ходят пингвины тоже особенно, по-своему: столбиками. Издали кажется, что это человек идёт в чёрном пиджаке и в белом жилете.
Однажды заплыл корабль в неведомые холодные края. Хотели моряки к берегу пристать — и вдруг видят: на льду выстроилось целое войско. Подплыли ближе. А войско вдруг разом, как по команде, бултых головой в воду! Тут только поняли моряки, что это не люди были, а птицы.
КИТ
Кит — самый большой зверь на свете. Он в море живёт, плавает в воде, как рыба.
Заплывет кит в холодные моря, где один лед да снег, плавает он и на юг, где круглый год жара, гоняется за рыбьими стаями. Куда рыба, туда и он.
Захватит кит в рот целую стаю рыб вместе с водой, воду выпустит, а рыба во рту останется — в китовом усе застрянет. Только не думай, что это и вправду усы. Это во рту у кита такие пластины, вроде решетки, а называются эти решетки китовым усом.
СЛОН
Ветка в лесу не хрустнула, лист не шевельнулся — из густых зарослей джунглей неслышно вышел огромный дикий слон.
Стоит слон, будто серая гора высится: ноги, как брёвна, уши, как два паруса, длинные клыки кривые и крепкие. Вытянул слон хобот, вырвал из земли куст, сунул его целиком в рот и стал жевать.
Никого не боится такой силач, никто ему не страшен.
ЗМЕЯ УДАВ
Стоит на поляне старое-престарое дерево. Корни у дерева из земли вылезли, толстые ветки изогнулись, переплелись.
Одна ветка даже вокруг ствола несколько раз обернулась, как змея. А это и вправду не ветка, а настоящая змея — сильный и страшный удав.
Не пройти под деревом осторожному оленю, не пробежать мелкому зверьку, не сесть на дерево птице — разом обовьется кольцами змея вокруг добычи и проглотит ее.
ПОПУГАЙ КАКАДУ
Сидит попка в лесу на дереве и своим хохлом играет: то его развернет, то сложит, то развернет, то сложит. И кричит разными голосами, всех передразнивает. То захрюкает, как дикая свинья в кустах, то зарычит, как зверь в логове, то свистнет, как дрозд. Уж такой он, попка, персмешник!
Попка и по-человечески может научиться говорить: и по-русски, и по-французски, и по разному другому. Только он не понимает, что болтает.
А я знал такого попугая, который даже песни петь умел.
БЕГЕМОТ
Бегемот еле ходит на своих ногах-обрубках. Жир на нем так и трясется. Притащится этот толстый обжора на поле — все поле сожрет, а что не сожрал — сомнет. И уйдет потом в реку спать; дремлет и нежится на воде, как на самой мягкой перине. Выспится, отдохнет — и давай веселиться. Тут, в воде, он совсем не неуклюжий, а очень проворный зверь. Плавает, ныряет, водоросли со дна достает, а то разинет свою пасть — а она у него огромная, как раскрытй чемодан, — и заорет, будто десять лошадей разом заржали.
ОРАНГУТАНГ
Это большая рыжая обезьяна орангутанг. По-малайски орангутанг — лесной человек. Малайцы про орангутанга рассказывают сказку. Будто был он раньше человеком и жил, как все люди, в деревне. Потом не захотел работать и ушел в лес на деревьях жить. Весь рыжей шерстью оброс и сделался обезьяной.
МАРТЫШКИ
Это весёлые, смешные зверьки, будто маленькие хвостатые человечки. Мордочки сморщенные, как у старушек. Чёрные ручки тоже совсем человеческие. А ноги — совсем, как руки, с длинными пальцами. Ими мартышки и чешутся, и хватают, что им надо, и дерутся. Целый деньмартышки путешествуют по деревьям. Кричат, дерутся, с ветки на ветку скачут. Беда, если такая веселая орава нагрянет на огород! Все вырвут, разбросают — не столько объедят, сколько попортят.
КРОКОДИЛ
Лежит крокодил в тёплой воде на самом солнцепёке, греется. Зубастую пасть закрыл, гребенчатым хвостом не шевельнёт. Будто просто гнилая коряга валяется в воде, а не живой зверь.
Лежит крокодил в воде у самого берега, ждёт добычу. Придёт зебра или антилопа к реке воды напиться — он ударит зверя своим сильным хвостом, сшибёт с ног, ухватит зубастой пастью и утащит в воду, на дно.
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
На Севере снег да лед, и лето бывает короткое-короткое. Сена там не накосишь, ни корову, ни лошадь зимой не прокормишь. Только северный олень умеет там жить. Он копытами снег разгребает, достает лишайник — ягель.
Чье молоко пьет на Севере человек? Оленье.
На чем ездит? На олене.
Чье мясо ест? Оленя.
Не прожить без оленя в тех местах человеку.
МОРЖ
Морж толстый, тяжелый. Будто громадный кожаный мешок с жиром.
Два здоровенных белых клыка торчат у него из щетинистых усов. Вместо ног у моржа ласты. Ими он, как веслами, воду загребает.
Нырнет глубоко под воду и пасется на дне морском, как корова на лугу. Водоросли жует, ракушки ищет, а когда наестся вдоволь, выплывает кверху, обопрется на край льдины или на берег своими клыками, подтянется и вылезет весь из воды. Ляжет на камни и отжыхает.
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
Белый медведь — это зверь-бродяга. Шуба у этого бродяги теплая, ее мороз не прохватывет. Густая шерсть в воде не мокнет. Нипочем ему ни мороз, ни вьюга, ни ветер, ни ледяная вода.
Ходит, бродит белый медведь по льдам, по снегам; поймает добычу — рыбу или моржонка, наестся и сразу заваливается спать, прямо тут же на льду.
А когда выспится, опять побредет. Высматривает, вынюхивает, кого бы поймать, чем бы снова брюхо себе набить. Ныряет он ловко, бегает быстро, плавает легко. Такой долго голодным не останется, добудет себе еду.
НОСОРОГ
Трещат сучья в лесу, качаются и трясутся деревья. Это напрямик сквозь тропическую чащу ломится громадный зверь — носорог. Нипочем ему колючки и шипы, твердые сучья и пни. Шкура у него толстая и крепкая, как броня: копье от нее отскочит, стрела сломается. Пробьет такую шкуру только пуля из винтовки.
У носорога большой рог на носу, а глаза маленькие, слепенькие. Он плохо ими видит. Ничего толком не разберет, а сразу бросается бодаться.
Вспыльчивый зверь и подозрительный.
ВЕРБЛЮД
Ходил верблюд по степи. Таскал на горбах тяжёлые вьюки. Очень устал, даже похудел; наконец привели его домой на отдых. Вот он лежит в хлеву, ноги под себя подогнул. Сено, солому жуёт. Ты только смотри его не дразни, а то он рассердится и в тебя плюнет.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава 80
Неожиданный вестник
Снова грустный осенний вечер на крылечке. Веселится одна Динка. Она уже не сидит около маминых колен, а, подхватив прыгалки, скачет по всем дорожкам, весело распевая:
Из Казани-Наказани
Пароход идет!
Ленька едет, Ленька едет,
Здравствуй, Новый год!
– Господи, при чем тут Новый год? – смеется Марина.
– А я знаю, – говорит Мышка. – Это она поет, что все у нее будет по-новому, и потом просто для рифмы.
– Вот чепуха какая! Поди-ка догадайся! – усмехается Марина.
– А я все у нее знаю. Я даже по ее лицу могу сказать, когда она говорит правду, а когда врет, – уверяет Мышка.
Марина вспоминает светлое откровение Динки и грустно качает головой:
– Узнаешь, когда она сама скажет.
– А она всегда скажет… Динка ведь очень болтливая, мама, – говорит Алина.
– И болтливая, и скрытная, – поправляет мать.
– Ну! – машет рукой Алина. – Я бы ей ничего не доверила!
– А я бы доверила, – серьезно говорит Марина.
– А ты знаешь, мамочка, что она один раз сказала! – вдруг оживляется Мышка. – Она сказала, что ее вранье одно вкладывается в другое, как деревянные яички, и только самый шарик внутри взаправдашний!
– Ну вот, поди-ка доберись до этого шарика! – смеется Марина и, вспомнив Динкиного друга Леньку, начинает рассказывать о его тяжелом детстве, о злом хозяине.
Девочки слушают молча, но еще печальней и тоскливей становится на крыльце от этого грустного рассказа… Марина хочет пробудить в Алине и Мышке любовь и сочувствие к Леньке: ведь мальчик завтра придет в их семью… Она не сомневается в Мышке, но как отнесется к нему Алина?
– Пусть каждая из вас поставит себя на место Лени. Вот он придет в нашу семью, и все мы, кроме Динки, еще чужие ему. И так важно хорошо и ласково встретить человека… Показать, что его ждали…
Марина ищет нужных слов, но Мышка подсказывает их ей из глубины своего доброго сердечка:
– Мы сразу будем любить его, мама. Мы скажем ему, что теперь он – наш брат.
– Конечно, мы не обидим его, но согласится ли папа? Ведь ты хочешь, чтобы он был тебе как сын? – строго спрашивает Алина.
Лицо матери вспыхивает румянцем. Холодный взгляд голубых глаз останавливается на старшей дочери вопросительно и гневно:
– Ты должна знать раз и навсегда, что папа во всем полагается на меня! И каждый отец будет гордиться таким сыном, как Леня…
– Конечно! Я же ничего не сказала, мама. Почему ты сердишься? – пугается Алина.
Мать спохватывается и, горько улыбаясь, говорит:
– Я ничего не требую от тебя, я только боюсь, чтобы Леня не почувствовал себя чужим в нашей семье.
– Пускай наравне, мамочка: как мы, так и он, – подсказывает Мышка.
– Вот именно: как вы, так и он. Это не гость, не случайный человек… Тут нужно сердце и чутье, Алина! – волнуется мать и, слыша приближающийся топот по дорожке, быстро меняет разговор. – Я хочу тихонько-тихонько спеть одну песню… Знаете какую?
Алина, еще не остывшая от волнующего разговора, молча поднимает на мать обиженные глаза… Но Марина знает, чем успокоить старшую дочку.
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут… —
с улыбкой запевает она.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут… —
торжественно подхватывают обе девочки.
Но мы поднимем гордо и смело… —
волоча за собой прыгалки и примащиваясь около матери, вступает в хор Динка.
Дети хорошо знают, что песня эта запрещенная, голоса их звучат тихо и торжественно. Они стараются петь так твердо и храбро, как поют настоящие революционеры, они знают, что с этой песней в девятьсот пятом году шли по улицам толпы народа… За эту песню казаки били людей нагайками, топтали лошадьми…
В бой роковой мы вступили с врагами… —
выпятив худенькую грудь, поет Алина. Она так честно и гордо выводит эти слова, что даже кончики ее торчащих ушей из-за туго стянутых кос покраснели от волнения и глаза стали огромными.
Мышка тоже преобразилась, и звонкий голос ее уверенно ныряет то вверх, то вниз, выскакивая из общего хора, но с жаром повторяя знакомые слова…
Динке просто нравится, что песня эта запрещенная, что их всех вместе с мамой могут арестовать и даже побить нагайками, но ей это нипочем: она чувствует себя очень смелой и в случае чего сама побьет всякого полицейского с нагайкой.
В бой роковой мы вступили с врагами… —
с особенным удовольствием поет она, размахивая крепко сжатым кулаком.
Марина знает, что на дачах сейчас пустынно, даже ночные сторожа уже не стучат по ночам в колотушки, но, когда маленький хор разрастается, она предупреждающе поднимает вверх палец и понижает голос… Динка и Алина послушно следуют за ней, но Мышка сама не владеет своим голосом.
На бой кровавый, святой и правый… —
серебристо выкрикивает она, и вдруг… калитка громко хлопает.
Марш, марш вперед, рабочий народ… —
испуганно заканчивает в наступившей тишине Мышка.
– Здесь живет госпожа Арсеньева? – громко спрашивает мужской голос.
Марина медленно поднимается, поправляя растрепавшиеся косы… Уши у Алины делаются малиновыми, но она тоже встает и вместе с матерью сходит с крыльца.
– Вы кто? Зачем? – опережая их, громко кричит Динка и, широко раскинув руки, останавливается посредине дорожки. – Не пущу!
– Это Кулеша, – говорит Марина, и с лица ее медленно сбегает краска. – Он привозил нам весной письма от папы…
– Кулеша… Кулеша… – удивленно и испуганно повторяет Алина. Мышка молча пытается понять, что привез им гость.
Глава 81
Трудная девочка
Приезжий человек – небольшого роста, но у него широкие, мощные плечи, крепко посаженная круглая голова, усыпанное желтыми веснушками лицо и веселые, широко открытые голубые глаза…
– А ну-ка, сверни с дороги! – сильно нажимая на букву «о», запросто говорит он Динке, и большие ручищи его мягко вскидывают девочку на воздух. – Давай сюда свою маму!
Динка вырывается, дрыгает ногами и, очутившись снова на дорожке, весело хохочет.
– Кулеша… – встревоженно говорит Марина и бросает быстрый взгляд на детей. – Вы что-нибудь привезли мне?
Сердце ее бьется неровными толчками, губы крепко сжимаются. Гость снимает фуражку и, пожимая ее холодную руку, весело улыбается:
– Не бойтесь, не бойтесь! Я – добрый вестник! Я привез вам оглушительную новость! Мне поручено вызволить вас из дачной неволи… Сейчас передам вам деньги, билеты, и начнем укладываться!
– Как – укладываться? Какие билеты? – удивленно вскинув брови, спрашивает Марина.
– Билеты на поезд. Завтра, ровно в шесть, вы должны выехать. Не позже и не раньше… Вот письмо. Что не дописано, то дополню устно, – спокойно говорит приезжий, шествуя рядом с Мариной к дому и на ходу вынимая из бумажника сложенный вдвое конверт. – Вот, читайте и располагайте мной как упаковщиком, грузчиком, носильщиком – одним словом, как вам будет угодно!
– Вы что-то шутите, Кулеша… – недоуменно пожимая плечами и раскрывая письмо, говорит Марина.
– А, старина, здорово! – окликает гость выглянувшего из-за террасы Никича.
Старик обрадованно семенит ему навстречу:
– Здравствуй, землячок! С чем приехал?
Гость подмигивает ему одним глазом:
– Экстренное поручение! Сейчас все станет ясным!..
Он входит на террасу и, оглядываясь, качает головой:
– Ну, вы действительно всех дачников пересидели! Ни одной души вокруг… Товарищи уже волновались, что вас тут похитят, убьют, обокрадут…
– Ничего! У меня кое-какое ружьишко при себе… – улыбается Никич.
Марина уходит с письмом в свою комнату. Алина проскальзывает за ней.
– Мамочка, от кого это? Когда мы едем? Почему так быстро? – нетерпеливо допытывается она.
– Письмо от товарищей, но я сама ничего не могу еще понять, – распечатывая письмо, говорит Марина.
– Мамочка, читай громко. Может, тут что-нибудь о папе…
Мать, перескакивая через строчки, шепотом читает вслух выхваченные фразы:
– «Отъезд на Украину… одобряем… Фамилия Арсеньевых слишком хорошо известна полиции. Посылаем деньги и всяческие пожелания… Поспешность отъезда объяснит Кулеша… он же поможет выехать с вещами… Бери всех четверых детей… Не опаздывай…»
Марина опускает на колени письмо:
– Выехать завтра же… Но это невозможно… И почему так срочно?.. Билеты… деньги…
Алина напряженно смотрит в лицо матери.
– Кулеша! Идите скорей сюда! – раскрывая дверь, кричит Марина. В руке ее смятое письмо, в глазах – голубые взволнованные огоньки. – Кулеша! Что это за билеты? Почему мы должны выехать так срочно, завтра?
– А-а! – говорит Кулеша, просовываясь своим тучным телом в узкую дверь. – Это сюрприз! – Губы его расплываются в широкую улыбку, глаза лукаво блестят, толстый палец указывает на девочку.
– Говорите при ней! – волнуется Марина.
Но Кулеша поворачивается лицом к террасе, где стоят Мышка и Динка, осторожно прикрывает за собой дверь, потом снова открывает дверь и манит пальцем Никича. Динка и Мышка остаются одни.
– Кулеша привез какую-то тайну… – шепчет Динка.
– Мы, кажется, завтра уезжаем… – неуверенно предполагает Мышка.
– Завтра? Ну что ты!.. Ведь Ленька еще не приехал… – бормочет встревоженная Динка.
За дверью раздаются радостные восклицания, взволнованный смех.
– Кулеша, вы ужасный человек! Почему вы не сказали сразу? – весело кричит Марина, и в распахнутую настежь дверь выбегает Кулеша.
Пригнув вниз голову и прикрывая ее своими огромными ручищами, он с хохотом прячется за табуретку. Марина, расшалившись, настигает его своим зонтиком, дети, моментально включаясь в игру, загоняют Кулешу под стол. На столе со звоном падают чашки, Никич хватает самовар… На террасе стоит визг и хохот.
– Ловите его, ловите! Мама, вот он, вот он! – кричат дети.
Марина останавливается, хлопает в ладоши.
– Складываться! Складываться! – кричит она, бросая в угол зонтик.
Кулеша на четвереньках вылезает из-под стола.
– Что, попало? – потирая руки, хихикает Никич. – У нас, брат, хорошее подавай сразу!
Алина с раскрасневшимся лицом, запыхавшаяся от беготни, бросается к сестрам:
– Мы едем! Едем! Мы будем всю ночь складываться! Мы едем!
– Нет… нет… – пятясь от нее, говорит Динка и ищет глазами мать. – Ленька не найдет меня… Я потеряюсь… – растерянно бормочет она и вдруг с отчаянным криком бросается на пол. – Не складывайтесь! Не складывайтесь! Я никуда не поеду! Я останусь здесь, на утесе… Я буду ждать Леньку…
Марина поспешно наклоняется к девочке и крепко обнимает ее, пытаясь поднять с пола. Но Динка, плача, отталкивает ее руки…
Кулеша, растерянный и удивленный, стоит посреди террасы с пустым чемоданом и молча хлопает глазами.
– Лени нет… Он уехал в Казань. Но он должен приехать… Дина! Диночка! Мы пойдем утром на пристань. Я все узнаю.
– Это Леня Бублик? Так он может приехать потом с Никичем… Вы поедете раньше, а он позже, – придя в себя, громко говорит Кулеша.
Но Динка вскакивает, растрепанная, красная, злая…
– Пошли вон! – кричит она, топая ногами. – Пошли вон! Мы поедем вместе!
– Ого!.. – пятясь от нее, бормочет озадаченный Кулеша. – Вот так перец…
Марина поспешно уводит девочку в комнату. Алина и Мышка, тихо советуясь о чем-то в сторонке, несмело подходят к Кулеше.
– Вы не сердитесь… Вы знаете, Динка не злая… Это она из-за Леньки, – краснея, бормочет Мышка.
– Нам очень стыдно… Вы гость… Простите, пожалуйста… Она у нас трудная девочка… – с пылающими щеками добавляет Алина.
Глава 82
Последние хлопоты
В эту ночь беспокойно спит Динка… Она слышит быстрые, легкие шаги матери и тихий разговор на террасе, слышит, как скрипят дверцы шкафа, выдвигаются ящики комода… Слышит, как Никич увязывает корзину и, кряхтя, выносит ее на террасу… Опершись локтем на подушку, Динка смотрит в темноту сухими, выплаканными глазами… Из тоненькой щелки маминой двери просачивается свет… Почему так спешит мама? Почему она не может подождать хоть один день? Ведь пароход «Надежда» уже вышел из Казани. Горькая обида сжимает сердце девочки. Никому, никому нет дела до нее и до Леньки…
«Мама, я потеряюсь… Он не найдет меня…» – плакала вчера Динка.
Но мама не согласилась подождать Ленькиного парохода.
Голова девочки падает на подушку, глаза бессильно закрываются… Какой-то большой город снится ей. В нем не видно домов – одни большие деревья. На деревьях прямые, как свечи, белые цветы… «Это каштаны», – догадывается во сне Динка… А цветы вдруг раскрываются, и из них падают блестящие коричневые каштаны… совсем такие, как рассказывала мама… «Значит, мы уже на Украине…» – смутно соображает девочка и, беспокойно оглядываясь, ищет Леньку…
«Лень! Лень!» – кричит она во сне и с усилием открывает глаза. За окном серенькое утро. Динка приникает горячим лбом к стеклу. По дорожке проходит нагруженный вещами Кулеша, рядом с ним семенит Никич с двумя узлами… Марина догоняет их у калитки и что-то быстро говорит Никичу. Динку охватывает безысходное отчаяние… Значит, это правда, они уезжают… Вещи уже унесли… Она осторожно открывает дверь маминой комнаты… Там так голо и пусто… На окнах нет занавесок, кровать сложена и приставлена к стене, у письменного стола выдвинуты пустые ящики. На подоконнике тускло горит лампа…
Динка выходит на террасу… Марина сидит у стола и что-то пишет… Девочка останавливается за ее стулом.
– Я никуда не поеду, мама. Я буду ждать Леньку, – тихо и упрямо говорит она, не поднимая глаз.
Марина быстро оборачивается и, обняв ее одной рукой, привлекает к себе.
– Леня еще может приехать… Сейчас очень рано, ложись спать. Утром мы пойдем с тобой на пристань и узнаем, когда придет пароход. На всякий случай я пишу письмо Лениному капитану…
Марина читает Динке письмо, но Динка не слушает его. В ее растревоженном сердце вдруг зарождается надежда.
– Может быть, пароход уже пришел? Я сейчас сбегаю на пристань, мама! – шепотом говорит она. – Сейчас уже совсем светло!
– Нет-нет! Потерпи еще немножко! Мы пойдем вместе! – ласково говорит мать.
Динка отходит от ее стула и усаживается на ступеньки:
– Я подожду утра здесь.
Марина с глубокой жалостью смотрит на ее сиротливую фигурку. Динка подбирает босые ноги под длинную ночную рубашку и, опустив голову в колени, молчит.
Мать садится с ней рядом, кутает ее плечи в свой платок, осторожно поднимает кудрявую голову и заглядывает девочке в глаза. Темные, пустые, наплаканные глаза не отвечают на ее ласку, и матери делается страшно.
– Диночка, мама понимает твое беспокойство. И если Леня не приедет, мама примет все меры…
Марина не находит слов, ее смущает темный, безразличный взгляд дочки. Измученная ее горем и бессонной ночью, Марина с трудом удерживается от слез.
– Разве ты не веришь своей маме, Диночка? – тихо спрашивает она, дотрагиваясь до крепко сжатых маленьких рук.
Динка молчит и смотрит куда-то далеко-далеко, поверх деревьев… Серое, холодное утро медленно вползает в сад, хмурый осенний туман поднимается с земли…
Марина встает и, подойдя к столу, перечитывает свое письмо к капитану, потом бегло дописывает несколько строчек и, запечатав конверт, прячет его в свою сумочку. Потом она уходит в комнату и снова что-то складывает там. А Динка молчаливо и неподвижно сидит на крыльце, ждет, когда настанет утро…
Алина осторожно приоткрывает свою дверь и, застегивая на ходу платье, шмыгает в мамину комнату. Динка слышит тихие голоса мамы и Алины, они о чем-то советуются и шепчутся, как две подружки… Динка еще ниже утыкается головой в колени и закрывает глаза. Непреодолимый сон сковывает ее.
Алина выносит из комнаты целый ворох какой-то одежды и кладет ее на перила.
– Я положу здесь, чтобы было наготове. А что ты наденешь, мамочка? – шепотом спрашивает она.
– Я надену папино любимое платье… – тихо говорит Марина.
– Конечно! Ты нарядись, мамочка! И не заплетай косы, хорошо? – шумно радуясь, бросается к матери Алина, но мать испуганно показывает ей глазами на безмолвную Динку. Лицо Алины сразу меняется; краска досады проступает на ее щеках. – Ты не должна этого позволять, мама! – возмущенно шепчет она.
Марина хмурит тонкие брови, горькая складка ложится около ее губ.
– Я страдаю вместе с ней… – тихо отвечает она.
На дорожке слышны тяжелые мужские шаги.
– Это Никич с Кулешей, – озабоченно говорит Марина. – Беги скорей, предупреди их, чтобы не разбудили Динку.
Алина осторожно обходит сидящую на крыльце сестру и бежит навстречу приезжим.
– Тише, тише!.. – машет она рукой. – Мама просила не будить Динку…
– Будить Динку? А зачем нам ее будить? – удивляется Кулеша.
– Капризы, капризы… – ворчит Никич. – Поменьше б потакать вам! Ишь чего разделала девчонка!
Они подходят к крыльцу и останавливаются перед спящей Динкой.
– Ну, как теперь? Нам вещи носить, а она сидит на самой дороге… – хмурится Никич.
– Ничего, ничего… Дружбу надо уважать! За такой подружкой я бы пошел на край света! – шепотом говорит Кулеша и, высоко поднимая ноги, шагает через две ступеньки, на цыпочках обходя спящую Динку.
Марина, стоя на террасе, благодарно улыбается. А Динка спит… Из комнат выволакиваются тяжелые корзины; Кулеша, упираясь коленями в большой узел, обвязывает его ремнями. На террасе наскоро закусывают бутербродами.
– Ну, кажется, все! Завтра мы с Никичем сдадим вещи в багаж и приедем сюда с подводой забирать мебель. А на сегодняшний день дачу надо будет заколотить, – говорит Кулеша, поспешно доедая бутерброд и связывая вместе два узла.
– Кулеша! Это невозможно! Ну как вы потащите один? – беспокоится Марина.
– Как потащу? Очень просто! Я такой верблюд! – говорит Кулеша, одним взмахом перекидывая через плечо два узла и поднимая с пола корзину. – Давайте еще что-нибудь! Одна рука свободна!
– Нечего, нечего больше… У нас остались только ручные вещи… Так вы завезете это на квартиру и будете ждать нас там? – спрашивает Марина.
– В пять часов… Выбирайтесь отсюда пораньше. На квартире у вас содом и гоморра… Надо же еще сложить все зимние вещи, – деловито шагая к крыльцу, говорит нагруженный как верблюд Кулеша. Осторожно обойдя Динку, он останавливается на дорожке и долго смотрит на свернувшуюся в комочек жалкую фигурку. – Скажите ей, что я не виноват… Я рад бы сам приволочить из Казани этот самый Ленькин пароход.
Через два часа Марина будит Динку, и они спешат на пристань. Осеннее солнце золотит на деревьях листья, свежий ветерок холодит плечи. Марина с трудом поспевает за девочкой, и лицо ее расстроено. Что-то ждет их на пристани? Может быть, они узнают, что пароход «Надежда» прибывает только завтра? Как подготовить к этому Динку и что сделает она, услышав эту весть… Марина видит, как окрыленная надеждой девочка забегает далеко вперед и, не смея торопить запыхавшуюся мать, останавливается с нетерпеливой, жалкой улыбкой… Щеки ее порозовели, глаза ожили… Волга, Волга!.. Идет ли, плывет ли, качается ли у берега на твоих темных волнах белоснежный пароход?..
Марина берет Динку за руку. Они выходят вместе на широкую базарную площадь. Отсюда уже хорошо видна пристань… Но нет, нигде нет парохода «Надежда». Ни одного парохода не видит Марина, и сердце ее сжимается. Динка тоже замедляет шаги и, подняв голову, смотрит куда-то далеко, на Волгу… Широка, просторна большая река, но ничего не видно на ней: не белеет вдали густой дымок.
– Мы сейчас спросим… может быть, он придет позднее, – неуверенно говорит Марина.
– Спросим… – как печальное эхо, откликается Динка. Марина оставляет девочку около причала и уходит в будку к кассиру. Потом вместе с кассиром идет еще куда-то, в другую будку, стоящую на берегу.
– Подожди меня здесь! – говорит она, проходя мимо девочки. Динка ждет, и минуты кажутся ей длинными часами, а от пристального смотрения на Волгу в глазах начинает все покрываться рябью.
Но вот она слышит мамин голос, веселый, дорогой голос своей мамы:
– Спасибо, спасибо! Так, пожалуйста, сразу передайте это письмо капитану! Это очень важно! Если в четыре часа есть пароход, так он еще успеет.
– Мама! – срываясь с места, кричит Динка и мчится на знакомый голос.
Но мама уже спешит к ней, ловит ее в свои объятия.
– Пароход прибывает в два часа. Леня еще застанет нас на городской квартире, – задыхаясь от радостного волнения, говорит она.
Но Динка выскальзывает из ее рук.
– Как – на квартире? Мы будем ждать Леньку здесь! Мы не уедем без него, мама! – дрожащим голосом говорит она.
Но Марина, измученная ее слезами, ожидавшая гораздо худшего, неожиданно закипает гневом:
– Не мучай меня, Дина! Я тысячу раз уже объясняла тебе, что нам нужно взять в городе зимние вещи, что я должна зайти к хозяину квартиры и расплатиться… Я оставила письмо капитану, оставлю на всякий случай еще одно письмо Анюте. Но мы должны ехать – и поедем! Леня хорошо знает, где наша квартира, и приедет сам!
Динка чувствует, что мама сердится, и больше не просит ни о чем.
«Если Ленька не найдет меня, я вернусь на утес и найду его сама», – твердо решает она про себя, и привычная хитрость, как единственное верное оружие, диктует ей тихие, покорные слова:
– Конечно, если нам нельзя ждать, то мы поедем… Я ничего не говорю… Ведь Ленька не маленький, он и сам найдет дорогу…
Марина мельком бросает на нее взгляд, но дома у нее еще столько хлопот, и если самое главное уже как-то разрешилось, то надо подумать о другом.
– Ах, Дина, Дина… Конечно же, он приедет… – рассеянно бросает она, торопясь домой.
Игорек уходил ранним утром 2 октября 1941 года. В повестке значилось, что он «должен явиться к семи ноль-ноль, имея при себе…»
— Ложку да кружку, больше ничего не бери, — сказал сосед Володя. — Все равно либо потеряешь, либо сопрут, либо сам бросишь.
Володя был всего на два года старше, но уже успел повоевать, получить тяжелое ранение и после госпиталя долечивался дома у отца с матерью. А у Игоря отца не было, только мама, и поэтому мужские советы давал бывалый сосед:
— Ложку, главное, не забудь.
Этот разговор происходил накануне, вечером, а в то раннее утро Игоря провожала мама да женщины их коммуналки. Мама стояла в распахнутых дверях, прижав кулаки ко рту. По щекам ее безостановочно текли слезы, а из-за плеч выглядывали скорбные лица соседок. Неделей раньше ушел в ополчение отец Володи; сам Володя, чтобы не смущать, уже спустился, уже ждал в подъезде, а Игорь вниз по лестнице уходил на войну, и женщины в бессловесной тоске глядели ему вслед. На мальчишеский стриженый затылок, на мальчишескую гибкую спину, на мальчишеские узкие плечи, которым предстояло прикрыть собой город Москву и их коммунальную квартиру на пять комнат и пять семей.
— Холодно, — гулко сказал снизу Володя. — Главное, не дрейфь, Игорек. Но пасаран.
Было сумрачно, синий свет слабенькой лампочки в подъезде странно освещал маму, которая так хотела проводить его до военкомата, но не могла оставить работу, потому что сменщиц уже не было, а работа еще была. И она потерянно стояла в дверях, отчаянно прижимая кулаки к безмолвному перекошенному рту, а из-за ее судорожно сведенных плеч страшными провальными глазами глядели соседки: по два лица за каждым плечом. Игорь оглянулся в конце первого лестничного марша, но улыбнуться не смог, не до улыбок было в октябре того сорок первого. Но сказал, что все они тогда говорили:
— Я вернусь, мама.
Не вернулся.
И письмо Анна Федотовна получила всего одно-единственное: от 17 декабря; остальные — если были они — либо не дошли, либо где-то затерялись. Коротенькое письмо, написанное второпях химическим карандашом на листочке из ученической тетрадки в линейку.
«Дорогая мамочка!
Бьем мы проклятых фрицев и в хвост и в гриву, только клочья летят…»
И об этой великой радости, об этом великом солдатском торжестве — все письмо. Кроме нескольких строчек:
«…Да, а как там поживает Римма из соседнего подъезда? Если не эвакуировалась, спроси, может, письмо мне напишет? А то ребята во взводе получают, а мне совершенно не с кем вести переписку…»
И еще, в самом конце:
«…Я здоров, все нормально, воюю как все. Как ты-то там одна, мамочка?»
И последняя фраза — после «до свидания», после «целую крепко, твой сын Игорь»:
«…Скоро, очень скоро будет и на нашей улице праздник!»
Праздник был не скоро. Скоро пришло второе письмо. От сержанта Вадима Переплетчикова:
«Уважаемая Анна Федотовна! Дорогая мама моего незабвенного друга Игоря! Ваш сын был…»
Был.
Был Игорь, Игорек, Игоречек. Был сыном, ребенком, школьником, мальчишкой, солдатом. Хотел переписываться с соседской девочкой Риммой, хотел вернуться к маме, хотел дождаться праздника на нашей улице. И еще жить он хотел. Очень хотел жить.
Три дня Анна Федотовна кричала и не верила, и коммуналка плакала и не верила, и сосед Володя, который уже считал дни, что оставались до Медкомиссии, ругался и не верил. А еще через неделю пришла похоронка, и Анна Федотовна перестала кричать и рыдать навсегда.
Каждое утро — зимою и осенью еще затемно — она шла на Савеловский вокзал, где работала сцепщиком вагонов, и каждый вечер — зимой и осенью уже затемно — возвращалась домой. Вообще-то до войны она работала счетоводом, но в сорок первом на железной дороге не хватало людей, и Анна Федотовна пошла туда добровольно да так потом там и осталась. Там давали рабочую карточку, кое-какой паек, а за усталой, рано ссутулившейся спиной стояла коммуналка, из которой никто не уехал и в осень сорок первого. И мужчин не было, а дети были, и Анна Федотовна отдавала всю свою железнодорожную надбавку и половину рабочей карточки.
— Аня, все-то зачем отдаешь? Ты сама на себя в зеркало глянь.
— Не вам, соседки, детям. А в зеркало мы с вами и после войны не глянемся. Отгляделись.
Отгляделись, да не отплакались. Еще шли похоронки, еще не тускнели воспоминания, еще не остыли подушки, и вместительная кухня горько справляла коммунальные поминки.
— Подружки, соседки, сестрички вы мои, помяните мужа моего Волкова Трофима Авдеевича. Я патефон его премиальный на сырец сменяла, на что мне теперь патефон. Поплачь и ты со мной, Аня, поплачь, родимая.
— Не могу, Маша. Сгорели слезы мои.
А от Трофима Волкова трое «волчата» осталось. Трое, и старшему — девять. Какие уж тут слезы, тут слезы не помогут, тут только одно помочь способно: плечом к плечу. Живой женской стеной оградить от смерти детей. Валентина (мать Володи) плечом к Полине, проживавшей с дочкой Розочкой в комнате, где прежде, еще при старом режиме, находилась ванная: там прорубили узенькое окошко, света не хватало, и вся квартира Розочку Беляночкой звала. А Полина — плечом к Маше Волковой, за которой — трое, а Маша — к Любе — аптекарше с близнецами Герой да Юрой: пятнадцать лет на двоих. А Люба — к Анне Федотовне, а та — опять к Валентине, к другому ее плечу, и хоть некого ей было прикрывать, да дети — общие. Это матери у них разные и отцы, если живы, а сами дети — наши. Общие дети коммунальных квартир с переделанными под жилье ванными и кладовками, с заколоченными парадными подъездами еще с той, с гражданской войны, с общими коридорами и общими кухнями, на которых в те годы собирались вместе чаще всего по одной причине.
— Вот и моему срок вышел, подруги мои дорогие, — давилась слезами Полина, обнимая свою всегда серьезную Розочку, которую полутемная ванная да темные дни войны окончательно превратили в Беляночку. — Муж мой Василий Антонович пал храброй смертью, а где могила его, того нам с дочкой не писали. Выходит, что вся земля его могила.
Выпивала Анна Федотовна поминальную за общим столом, шла к себе, стелила постель и, перед тем как уснуть, обязательно перечитывала оба письма и похоронку. Дни складывались в недели, недели — в месяцы, месяцы — в годы; пришел с войны еще раз покалеченный Владимир, и это был единственный мужчина, кто вернулся в их коммуналку на пять комнат и пять вдов, не считая сирот. А за ним вскоре пришла Победа, возвращались из эвакуации, с фронтов и госпиталей москвичи, оживал город, и оживала вместе с ним коммуналка. Опять зазвучал смех и песни, и сосед Владимир женился на девушке Римме из соседнего подъезда.
— Как ты мог? — сквозь слезы сдавленно спросила Анна Федотовна, когда он пригласил ее на свадьбу. — Ведь с нею Игорек переписываться мечтал, как же ты мог?..
— Прости нас, тетя Аня, — сказал Владимир и виновато вздохнул. — Мы все понимаем, только ты все-таки приди на свадьбу.
Время шло. Анна Федотовна по-прежнему утром уходила на работу, а вечером читала письма. Сначала это было мучительно болезненной потребностью, позже — скорбной обязанностью, потом — привычной печалью, без которой ей было бы невозможно уснуть, а затем — ежевечерним непременнейшим и чрезвычайно важным разговором с сыном. С Игорьком, так и оставшимся мальчишкой навсегда.
Она знала письма наизусть, а все равно перед каждым сном неторопливо перечитывала их, всматриваясь в каждую букву. От ежевечерних этих чтений письма стали быстро ветшать, истираться, ломаться на сгибах, рваться по краям. Тогда Анна Федотовна сама, одним пальцем перепечатала их у знакомой машинистки, с которой когда-то — давным-давно, еще с голоду двадцатых — вместе перебрались в Москву. Подруга сама рвалась перепечатать пожелтевшие листочки, но Анна Федотовна не разрешила и долго и неумело тюкала одним пальцем. Зато теперь у нее имелись отпечатанные копии, а сами письма хранились в шкатулке, где лежали дорогие пустяки: прядь Игоревых волос, зажим его пионерского галстука, значок «Ворошиловский стрелок» ее мужа, нелепо погибшего еще до войны, да несколько фотографий. А копии лежали в папке на тумбочке у изголовья: читая их перед сном, она каждый раз надеялась, что ей приснится Игорек, но он приснился ей всего два раза.
Такова была ее личная жизнь с декабря сорок первого. Но существовала и жизнь общая, сосредоточенная в общей кухне и общих газетах, в общей бедности и общих праздниках, в общих печалях, общих воспоминаниях и общих шумах. В эту коммунальную квартиру не вернулся не только Игорь: не вернулись отцы и мужья, но они были не просто старше ее сына — они оказались жизненнее его, успев дать поросль, и эта поросль сейчас шумела, кричала, смеялась и плакала в общей квартире. А после Игоря остались учебники и старый велосипед на трех колесах, тетрадка, куда он переписывал любимые стихи и важные изречения, да альбом с марками. Да еще сама мать осталась: одинокая, почерневшая и разучившаяся рыдать после похоронки. Нет, громкоголосые соседи, сплоченные роковыми сороковыми да общими поминками, никогда не забывали об одинокой Анне Федотовне, и она никогда не забывала о них, но темная ее сдержанность невольно приглушала звонкость подраставшего поколения, либо уже позабывшего, либо вообще не знавшего ее Игорька. Все было естественно, Анна Федотовна никогда ни на что не обижалась, но однажды серьезная неприятность едва не промелькнула черной кошкой за их коммунальным столом.
Случилось это, когда Римма благополучно разрешилась в роддоме первенцем. К тому времени умерла мать Владимира, отец еще в ноябре сорок первого погиб под Сходней в ополчении, и Владимир попросил Анну Федотовну быть вроде как посаженой матерью и бабкой на коммунальном торжестве. Анна Федотовна не просто сразу согласилась, но и обрадовалась — и потому, что не забыли о ней на чужих радостях, и потому, конечно, что знала Володю с детства, считала своим, почти родственником, дружила с его матерью и очень уважала отца. Но, радостно согласившись, тут же и почернела, и хотя ни слова не сказала, но Владимир понял, что подумала она при этом об Игоре. И вздохнул:
— Мы нашего парнишку Игорем назовем. Чтоб опять у нас в квартире Игорек был.
Анна Федотовна впервые за много лет улыбнулась, и коммунальное празднество по поводу появления на свет нового Игорька прошло дружно и весело. Анна Федотовна сидела во главе стола, составленного из пяти разнокалиберных кухонных столиков, и соседи говорили тосты не только за младенца да молодых маму с папой, но и за нее, за названую бабку, и — стоя, конечно, — за светлую память ее сына, в честь которого и назвали только что родившегося гражданина.
А через неделю вернулась из роддома счастливая мать с младенцем на руках и с ходу объявила, что ни о каком Игоре и речи быть не может. Что, во-первых, она давно уже решила назвать своего первого Андреем в память погибшего на войне собственного отца, а во-вторых, имя Игорь теперь совершенно немодное. К счастью, все споры по этому поводу между Риммой и Владимиром происходили, когда Анна Федотовна была на работе; в конце концов, Римма, естественно, победила, но молодые родители, а заодно и соседи решили пока ничего не говорить Анне Федотовне. И дружно промолчали; спустя несколько дней Владимир зарегистрировал собственного сына как Андрея Владимировича, к вечеру опять устроили коммунальную складчину, на которой Римма и поведала Анне Федотовне о тайной записи и показала новенькое свидетельство о рождении. Но Анна Федотовна глядела не в свежие корочки, а в счастливые глаза.
— А Игорек мой, он ведь любил тебя, — сказала. — Переписываться мечтал.
— Да чего же переписываться, когда я в соседнем подъезде всю жизнь прожила? — улыбнулась Римма, но улыбка у нее получилась несмелой и почему-то виноватой. — И в школе мы одной учились, только он в десятом «Б», а я — в восьмом «А»…
— Будьте счастливы, — не дослушала Анна Федотовна. — И пусть сынок ваш никогда войны не узнает.
И ушла к себе.
Напрасно стучались, звали, просили — даже двери не открыла. И почти полгода с того вечера малыша старалась не замечать. А через полгода — суббота была — в глухую и, кажется, навеки притихшую комнату без стука ворвалась Римма с Андрейкой на руках.
— Тридцать девять у него! Володя на работе, а он — криком кричит. Я за «скорой» сбегаю, а вы пока с ним тут…
— Погоди.
Анна Федотовна распеленала ребенка, животик ему пощупала, вкатила клизму. Когда доктор приехал, Андрейка уже грохотал погремушкой у не признававшей его названой бабки на руках.
— Не умеешь ты еще, Римма, — улыбнулась Анна Федотовна, когда врач уехал. — Придется мне старое вспомнить. Ну-ка показывай, что сын ест, где спит да чем играет.
И с этого дня стала самой настоящей бабкой. Сама забирала Андрейку из яслей (сдавала его Римма, ей по времени получалось удобнее), кормила, гуляла с ним, купала, одевала и раздевала и учила молодую мамашу:
— Игрушек много не покупай, а то он всякий интерес потеряет. И на руки пореже бери. В крайнем случае только: пусть наш Андрейка к самостоятельности привыкает. Себя развлекать научиться — это, Римма, огромное дело.
— Анна Федотовна, бабушка наша дорогая, следующего мы непременно Игорьком назовем. Честное комсомольское!
Следующей родилась девочка, и назвали ее Валентиной в честь матери Владимира — на этом уж Анна Федотовна настояла. А сама все ждала и ждала, а ее очередь все не приходила и не приходила.
А время шло себе и шло. Росли дети — уже не просто названые, уже самые что ни на есть родные внуки Анны Федотовны, Андрюша и Валечка; взрослели их родители Владимир Иванович и Римма Андреевна; старела, темнела, таяла на глазах и сама Анна Федотовна. Менялись жильцы в некогда плотно населенной коммунальной квартире: получали отдельное жилье, менялись, уезжали и переезжали, и только две семьи — Владимира и Риммы да одинокой Анны Федотовны — не трогались с места. Владимир и Римма понимали, что Анна Федотовна ни за что не уедет из той комнаты, порог которой навсегда переступил ее единственный сын, а дети — да и они сами — так привязались к осиротевшей старой женщине, что Владимир решительно отказывался от всех вариантов, настаивая дать им возможность улучшить свои жилищные условия за счет освободившейся площади в этой же квартире. И к началу шестидесятых им в конце концов удалось заполучить всю пятикомнатную квартиру с учетом, что одну из комнат они вновь переделают в ванную, которой у них не было чуть ли не с гражданской войны, одна — большая — остается за Анной Федотовной, а три они получают на все свои четыре прописанных головы. К тому времени, как было получено это разрешение, после всех перепланировок и ремонтов, связанных с восстановлением ванной комнаты, Анна Федотовна оформила пенсию, хотела пойти еще поработать и…
— А внуки? — строго спросил на семейном совете Владимир Иванович. — Андрейке — девять, Валюшке — пять: вот она, самая святая твоя работа, тетя Аня.
— А жить нам вместе сам бог велел, — подхватила Римма. — У нас родители погибли, у вас — Игорек, так давайте всю вашу пенсию в один котел, и будем как одна семья.
— А мы и есть одна семья, — улыбнулся муж, и вопрос был решен.
Да, все менялось в жизни, менялось, в общем, к лучшему, но одно оставалось неизменным: письма. Письмо Игоря, сохранившее для нее не только его полудетский почерк, но и его голос; и письмо однополчанина и друга, звучавшее теперь как последний рассказ о сыне. Время коснулось и писем, но не только тленом, а как бы превратив слова в звуки: теперь она все чаще и чаще совершенно ясно слышала то, что аккуратно перечитывала перед сном. Знала наизусть и слышала наизусть, а все равно внимательно вглядывалась в каждую строчку и ни за что не смогла бы уснуть, если бы по какой-либо причине этот многолетний ритуал оказался бы нарушенным.
Два перепечатанных письма и похоронка, которую она тоже знала наизусть, но которая тем не менее всегда оставалась безмолвной. В ней не звучало ни единого слова, да и не могло звучать, потому что похоронка всю жизнь воспринималась Анной Федотовной копией могильной плиты ее сына, превращенной в листок казенной бумаги, но сохранившей при этом всю свою безмолвную гробовую тяжесть. И, читая ее каждый вечер, осиротевшая мать слышала только холодное безмолвие могилы.
А самая главная странность заключалась в том, что Анна Федотовна до сей поры так никому и не призналась в своей странной привычке. Сначала от острого чувства одиночества и не менее острого желания сберечь это одиночество, потому что совсем не одинока была она в горе своем в то черное, горькое время. Потом, когда притупилась первая боль, ее ровесницы-соседки — те, которые испытали то же, что испытала она, у кого не вернулись сыновья или мужья, — уже успели либо помереть, либо переехать. В коммунальной квартире исчезали вдовы, а молодежи становилось все больше, и потому все чаще звучал смех, все веселее становились голоса и громче — разговоры. Привычная родная коммуналка, из которой тусклым промозглым рассветом навсегда ушел ее Игорек, молодела на ее глазах, и Анна Федотовна уже не решалась признаться этой помолодевшей квартире в своей укоренившейся за это время привычке. А потом все это вместе стало ритуалом, почти священнодействием со своей уже сложившейся последовательностью, ритмом, торжественностью и только ею одной слышимыми голосами, и старая одинокая женщина уже вполне сознательно скрывала свою странность от шумного, звонкого, столь далекого от тех роковых сороковых подрастающего населения.
И так продолжалось из года в год. Жили в бывшей коммунальной квартире единой семьей: старшие работали, младшие учились. Анна Федотовна как могла помогала им работать и учиться, взяв на себя домашние хлопоты: сготовить, накормить, убрать. После ужина смотрела с Владимиром и Риммой телевизор — старенький, с крохотным экраном «КВН», — а когда заканчивались передачи, уходила к себе, укладывалась в постель, доставала письма, и в ее сиротской комнате начинали звучать голоса сорок первого года…
«…Скоро, очень скоро будет и на нашей улице праздник…»
В 1965-м, к юбилею Победы, по телевидению начали передавать множество фильмов о войне — художественных и документальных, смонтированных из военной хроники тех лет. Обычно Анна Федотовна никогда их не смотрела: еще шли титры, а она уже поднималась и уходила к себе. Не могла она заставить свое насквозь изъеденное тоской сердце обжигаться гибелью мальчиков, ровесников ее сына, даже если это был фильм художественный и наземь красиво падали красивые актеры. Для нее это было не столько свидетельством смерти, сколько знаком смерти, ненавистным ей реальным оттиском реального убийства ее единственного сына. И она уходила, ничего не объясняя, потому что и объяснять-то было некому: Владимир и Римма и без слов ее отлично понимали.
Только однажды задержалась она в комнате дольше обычного. Уже шел на крохотном кавээновском экране какой-то фильм о войне — сам по себе, собственно, шел, никто его не смотрел. У одиннадцатилетней Валечки начало вдруг прогрессировать плоскостопие, ее срочно показали специалисту, и тем вечером родители и Анна Федотовна горячо обсуждали рекомендации этого специалиста. И так этим увлеклись, что забыли про телевизор, на экране которого с приглушенным звуком (дети уже спали) демонстрировался какой-то документальный фильм.
Анна Федотовна совершенно случайно глянула на экран — все ее помыслы вертелись тогда вокруг Валечкиного плоскостопия, — но глянула и увидела уходящую от нее узкую мальчишескую спину в грязной шинели, с винтовкой и тощим вещмешком за плечами.
— Игорек!.. Игорек, смотрите!..
Но Игорек (если это был он) снова ушел, как ушел почти четверть века назад — навсегда и без оглядки. И никто не знал, что это был за фильм, как он назывался и в какой рубрике телепрограмм его следует искать. Ничего не было известно и ничего невозможно было узнать, и поэтому Анна Федотовна отныне целыми днями сидела у телевизора, придвигаясь почти вплотную к малюсенькому экрану, как только начинались военные передачи. Теперь она смотрела все, что касалось войны, — фильмы, хронику и даже телеспектакли, потому что в любой момент могла мелькнуть на экране мальчишеская спина в грязной шинели с винтовкой и вещмешком. Пережаривались на кухне котлеты, выкипали супы, ревела Валечка из-за неглаженого фартука, хватал двойки уловивший вольготную полосу Андрейка, а Анна Федотовна, не отрываясь, все смотрела и смотрела старенький громоздкий телевизор.
Не появлялась больше спина, ушедшая тревожной осенью сорок первого прикрывать Москву. А может, не его это была спина, не Игорька? Мало ли их, этих мальчишеских спин, ушло от нас навсегда, так и не оглянувшись ни разу? Это было вероятнее всего, это спокойно и рассудительно доказывал Владимир, об этом осторожно, исподволь нашептывала Римма, но мать, не слушая доводов, упорно вглядывалась в экран.
— Ну что ты смотришь, что ты смотришь, это же Сталинградская битва!
— Оставь ее, Володя. Тут наши уговоры не помогут.
Все вдруг изменилось в доме, но одно осталось без изменения, как обещание возврата к прежнему размеренному покою, как надежда если не на светлое, то на привычное будущее. Не претерпел никаких новшеств ежевечерний ритуал: целыми днями с небывалым напряжением вглядываясь в экран телевизора, Анна Федотовна по-прежнему перечитывала перед сном заветные письма. Так же неторопливо, так же внимательно, так же слыша голоса двух из трех полученных ею весточек с войны, живший в ней голос Игорька и второй — его друга сержанта Вадима Переплетчикова, которого она никогда не видела и не слышала, но голос которого ясно звучал чистым мальчишеским альтом. Они были очень похожи, эти два голоса: их объединяли молодость и дружба, война и опасность, общая жизнь и, как подозревала Анна Федотовна, общая смерть, которая настигла одного чуть раньше, другого — чуть позже, только и всего. И несмотря на полную братскую схожесть, она отчетливо разделяла эти голоса, потому что их более не существовало: они продолжали жить только в ее сердце.
Уже отметили юбилей Победы, уже телевидение начало резко сокращать количество военных передач, а Анна Федотовна продолжала сидеть перед телеэкраном, все еще надеясь на чудо. Но чудес не существовало, и, может быть, именно поэтому она как-то впервые за много лет запнулась на письме друга. Должна была следовать фраза: «Ваш Игорь, дорогая Анна Федотовна, всегда являлся примером для всего нашего отделения…», а голос этой фразы не произнес. Замолк голос, оборвался, и Анна Федотовна растерялась: ритуал неожиданно дал сбой. Вслушалась, но голос не возникал, и тогда она начала лихорадочно просматривать письмо сержанта, уже не надеясь на его голос и собственную память. Напрягая зрение, она то приближала, то отдаляла от себя затертый листок с машинописным текстом, поправляла лампу, чтобы ярче высветить его, но все было напрасным. Она не видела ни одной буквы, слова сливались в строчки, строчки — в неясные черточки, и Анна Федотовна со странным, зябким спокойствием поняла, что многодневные сидения перед тусклым экраном телевизора не прошли для нее даром.
Она не испугалась, не растерялась и никому ничего не сказала: зачем зря беспокоить людей? Но на другой день, проводив детей в школу, собралась в районную поликлинику. Оделась, проверила, не забыла ли паспорт, вышла на улицу и, качнувшись, испуганно остановилась; все предметы казались размытыми, люди и машины возникали вдруг, точно из непроницаемого тумана. В квартире она не замечала ничего подобного, то ли потому, что все было знакомым и память корректировала ослабевшее зрение, то ли потому, что все расстояния были ограниченны. Ей пришлось постоять, чтобы хоть как-то свыкнуться с новым ударом, и до поликлиники она не дошла, а доплелась.
Очки, которые прописал окулист, помогли ходить, но читать Анна Федотовна уже не могла. Но все равно каждый вечер перед сном она брала письма и неторопливо вглядывалась в них, слушая голоса или вспоминая навечно врубившиеся в память строки: «…ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых…»
Это помогало, пока Анна Федотовна еще замечала хотя бы черточки строчек. Но год от года зрение все ухудшалось, мир тускнел, уходя в черноту, и хотя теперь в семье был новый телевизор с большим экраном, она и его не могла смотреть, и узкая мальчишеская спина вновь ушла от нее навсегда. Но это происходило постепенно, позволяя ей если не приспосабливаться, то примиряться, и Анна Федотовна воспринимала все с горечью неизбежности. Но когда в бесценных ее листочках стали исчезать последние штрихи, когда перед ее окончательно ослабевшими глазами оказались вдруг однотонные серые листы бумаги, она испугалась по-настоящему. И впервые за все десятилетия рассказала о священном своем ритуале единственному человеку:
Валечке. Не только потому, что Валя выросла на ее руках, звала бабушкой и считала таковой: к тому времени Валя уже стала студенткой Первого медицинского института, и это окончательно убедило Анну Федотовну, что доверить такую тайну можно только своей любимице. И хотя Вале не всегда удавалось читать ей письма регулярно — то отъезды, то ночные дежурства, то непредвиденные молодые обстоятельства, — привычная жизнь в общем своем потоке вернулась в свое русло.
И продолжала неумолимо нестись вперед. Женился и переехал к жене молодой инженер-строитель Андрей; Валя заново перепечатала тексты всех трех писем (оригиналы по-прежнему хранились в заветной шкатулке); в середине семидесятых скончался от старых фронтовых ран Владимир Иванович, Валентина без всякого замужества родила девочку, и Анна Федотовна ослепла окончательно.
Но помощи ей почти не требовалось. Она свободно передвигалась по квартире, в которой практически прожила жизнь, знала, где что стоит да где что лежит, быстро научилась ухаживать за собой и продолжала стирать на всю семью. Вытянув руку и шаркая тапочками, бродила по бывшей коммуналке, в которой опять остались одни женщины, и думала, как странно устроена жизнь, коли с таким упорством возвращает людей к тому, от чего они хотели бы убежать навсегда.
Но главной ее заботой, ее последней радостью и смыслом всего ее черного существования стала теперь голосистая безотцовщина Танечка. Анна Федотовна не могла дождаться, когда бабушка Римма приведет ее сначала из яслей, потом — из детского садика, а затем и из школы, тем более что вскоре школ оказалось две, поскольку Танечку параллельно заставили учиться еще и в музыкальной. Анна Федотовна играла с ней куда больше, чем занятые работой, магазинами и хозяйством мать и родная бабка; рассказывала ей сказки, которые когда-то рассказывала своему сыну; отвечала на бесчисленные «почему?», а в пять лет впервые познакомила с заветными письмами, показав не только копии, но и оригиналы и подробнейшим образом растолковав разницу между этими бумажками. А еще через год Танечка научилась читать и заменила маму у постели Анны Федотовны. Правда, из-за этого Анне Федотовне пришлось ложиться раньше Танечки, но и это было к лучшему: она старела, начала быстро уставать, задыхаться, просыпаться до света и долго лежать без сна.
Она любила эти внезапные пробуждения среди ночи. Было как-то особенно тихо, потому что спала не только вся квартира, но и весь мир, а шум редких автомашин лишь скользил по стенам дома, касался стекол в окнах, заставляя их чуть вздрагивать, и исчезал вдали. Темнота, вечно окружавшая ее, делалась беззвучной и ощутимой, как бархат; Анне Федотовне становилось покойно и уютно, и она неторопливо начинала думать о своем Игорьке.
Она вспоминала его совсем крохотным, беспомощным, целиком зависящим от ее тепла, внимания и ласки, от ее груди и ее рук — от нее, матери, будто их все еще соединяла пуповина, будто живые токи ее тела питали его и наливали силой и здоровьем для завтрашних невзгод. Вспоминала, как ежедневно купала его, и до сей поры ощущала то величайшее счастье, которое испытывала тогда. Вспоминала, как он радостно таращил на нее круглые, доверчивые глаза, как отчаянно взбивал крепкими ножками воду в ванночке, с каким самозабвением колотил по ней кулачками и как при этом не любил и даже побаивался мыла.
Она вспоминала, как он начал сам вставать в кроватке, цепко хватаясь руками за перила. И как сделал… нет, не сделал — как совершил первый шаг и сразу упал, но не испугался, а засмеялся; она подняла его, и он тут же шагнул снова, снова шлепнулся и снова засмеялся. А потом зашагал, затопал, забегал, часто падая и расшибаясь, часто плача от боли, но сразу же забывая эту боль. Ах, сколько синяков и шишек он наставил себе в это время!
Ванночка уже не вмещала сына. Это было на прежней квартире; там всегда почему-то дуло, и она боялась, что простудит Игорька во время этих купаний. И все время хотела куда-нибудь переехать, разменяться с кем-либо на любой район и любую площадь.
Нет, не только потому она стремилась обменять комнату, что сын перестал умещаться в ванночке и его теперь приходилось мыть по частям. Она решилась на этот обмен потому, что сын настолько вырос, что однажды задал вопрос, которого она так ждала и так боялась:
— А где мой папа?
А они даже не были расписаны, и папа уехал навсегда, когда Игорьку исполнилось три года. И матери все время казалось, что сын помнит канувшего в небытие отца, что сама эта комната, соседи, вещи, стены — все рассказывает ему то, о чем не следовало бы знать. И как только сын заинтересовался отцом, Анна Федотовна тут же обменяла свою большую удобную комнату с балконом и оказалась в коммуналке, где сразу же объявила себя вдовой. Вот в этой самой комнате, из которой ушел Игорек и в которой ей, может быть, посчастливится окончить свою жизнь.
Школьный период в коротенькой биографии сына Анна Федотовна вспоминала реже. Нет, она отчётливо помнила все его рваные локти и сбитые коленки, все «очень плохо» и «очень хорошо», все радости и горести. Но тогда он уже не принадлежал ей одной, безраздельно; тогда школа уже вклинилась между нею и сыном, уже успела создать для него особый мир, в котором не оказалось места для нее: мир своих друзей и своих интересов, своих обид и своих надежд. Игорь-школьник принадлежал матери только наполовину, и поэтому она предпочитала помнить его малышом.
Правда, один случай любила вспоминать часто и в подробностях и тогда, кажется, даже чуть улыбалась.
Игорек бежал в Испанию. Мальчики, обреченные на безотцовщину, растут либо отчаянными неслухами, либо тихонями, и ее сын склонялся к последнему типу. Тихони из дома не бегают, зато с удовольствием подчиняются тем, кто бегает, а в том испанском побеге коноводом был соседский Володька, сын Валентины и Ивана Даниловича. Он рвался еще в Абиссинию защищать эфиопов от итальянских фашистов, но по полной географической необразованности запутался в направлении и опоздал. Потом начались испанские события, а в их квартире — строительство баррикад. Баррикады воздвигались совместно с Игорем, соседи ругались, потирая зашибленные места, а по всей коммуналке гремело звонкое «Но пасаран!».
Через год атмосфера в Испании накалилась настолько, что без Володьки республиканцы обойтись никак уже не могли. Одному двигаться было сложно (опять проклятая география!); Володька с трудом уломал Игорька смотаться в Мадрид, разгромить фашистов и вернуться к Майским праздникам в Москву. Однако бежали приятели почему-то через Белорусский вокзал, где их и обнаружил сосед Трофим Авдеевич, поскольку вся квартира была брошена на поиски, но повезло именно ему:
— Марш домой, огольцы!
Но каким бы Анна Федотовна ни представляла себе сына — беспомощным, ползающим, топающим, убегающим в Испанию или решающим непонятные ей задачи, — в конце концов он непременно вставал перед ней медленно спускающимся с первого лестничного марша. И каждый вечер она видела его узкую мальчишескую спину и слышала одну и ту же фразу:
— Я вернусь, мама.
И еще она отчетливо помнила дыхание соседок за спиной, тогдашних солдаток, постепенно в порядке непонятной страшной очереди превращавшихся из солдаток во вдов. Перебирала в воспоминаниях коммунальные поминки, общую беду и общую бедность, серую лапшу с яичным порошком, карточки, лимитные книжки для коммерческих магазинов, на которые никогда не хватало денег, и — огороды. У всех тогда были огороды: с них кормилась, на них поднималась послевоенная Москва.
Участки распределялись предприятиями, но выращивали картошку всей коммуналкой сообща. Выходными, а то и просто вечерами по очереди ездили сажать, окучивать, копать. И знали, чью картошку едят сегодня за общим столом: у Любы-аптекарши она поспевала раньше, у Маши была особенно рассыпчатой, а оладьи лучше всех получались у Валентины. Теперь нет такой картошки. Теперь есть только три сорта: рыночная, магазинная да какая-то кубинская. А тогда был только один: коммунальный. Один для всех, кто пережил войну.
Вот так в привычных дневных делах, вечернем чтении писем, предрассветных воспоминаниях и вечной непроглядной тьме и проходила ее жизнь. Время текло с прежним безразличием к судьбам людским, равномерно отсчитывая падающие в никуда мгновения, но Анна Федотовна уже не замечала своего уходящего времени. Пережив где-то в шестьдесят прозрение в неизбежности скорого разрушения и скорого ухода из жизни, — то, что привычно именуется старостью, — она сохранила ясность ума и способность обходиться без посторонней помощи, потому что весь смысл ее жизни был в прошлом. Все настоящее было преходящим и быстротечным: тот небольшой объем домашней работы, который она оставила за собой; все истинное, то, ради чего еще стоило жить и терпеть, начиналось с вечернего чтения Танечки, короткого сна и заканчивалось бесконечно длинными и прекрасными воспоминаниями о сыне. Там, в этих воспоминаниях, она ощущала свое могущество: могла останавливать само время, поворачивать его вспять, вырывать из него любые куски и перетасовывать их по собственному желанию. Это было ее личное, всею жизнью выстраданное царство, и если к ней допустимо применить понятие счастья, то Анна Федотовна была счастлива именно сейчас, на глубоком закате своей жизни.
Ей уже торжественно справили восьмидесятилетие, на которое собралась не только вся семья, но пришли сыновья и дочери тех, кто когда-то жил с нею бок о бок в голодной коммуналке. Кто если и не помнил, так по крайней мере мог хотя бы видеть живым ее Игорька, поскольку семенил, пищал и ползал в то первое военное лето. И поэтому им, практически уже незнакомым, посторонним людям она обрадовалась больше всего.
— Погоди, погоди… — проводила кончиками сухих невесомых пальцев по лицу, осторожно касалась волос. — Так. Полина дочка, что в ванной жила. Роза. Помню, помню. — Голова у Анны Федотовны уже заметно тряслась, но держала она ее прямо и чуть выше обычного, как держат головы все слепые. — Ты без солнышка росла тут, недаром мы тебя Беляночкой звали. Замужем?
— Дайте руку, тетя Аня. — Бывшая Беляночка, а ныне весьма солидная дама взяла сухую старческую ладонь и приложила ее к щеке своего соседа. — Мой муж Андрей Никитич. Знакомьтесь.
— Здравствуй, Андрей. Детишки-то есть у вас?
— Одна детишка со стройотрядом уехала, второй — в армии, — сказал муж. — Мы уж с Розой старики…
Жена сердито дернула его за рукав, и он сразу же виновато примолк. А Анна Федотовна без всякой горечи подумала, какая же тогда она древняя старуха, если дети детей служат в армии и уезжают в неведомые ей стройотряды. Что служат и уезжают — это ничего, это хорошо даже, только бы войны не было. Только бы мальчики не уходили от матерей, медленно спускаясь по лестничным маршам навсегда.
Такие мысли частенько посещали ее: она принимала окружающую ее жизнь очень близко, потому что эта такая непонятная с виду, а по сути такая обыкновенная жизнь представлялась ей теперь вроде большой коммунальной квартиры. Где все рядом, где все свои, где горюют общим горем и радуются общим радостям, где едят общую картошку после общих трудов и откуда могут вдруг снова начать уходить сыновья. Вниз по лестнице в никуда. И до боли страдала за всех матерей.
— А меня узнаете, тетя Аня?
Бережно коснулась рукой:
— Гера. А Юрка где? Не пришел?
Напутала старая: Юрий стоял сейчас перед нею, а не Гера. Но никто не стал уточнять, только поулыбались. А Юрий неуверенно кашлянул и уверенно сказал:
— Юрка-то? Юрка, тетя Аня, гидростанции на Памире строит, привет вам просил передать. И поздравления.
— За стол, ребята, за стол! — скомандовала Римма. — Ведите именинницу на почетное место.
За столом как расселись, так сразу и повели непрерывные разговоры о том далеком времени. Гости вспоминали его и вместе и поодиночке, но вспоминали как-то очень уж общо, точно прочли несколько статей о Москве сорок первого прежде, чем идти сюда. Но Анна Федотовна ничего этого не замечала и была бесконечно счастлива, а седая, располневшая, год назад ушедшая на пенсию Римма могла быть довольна и была довольна, потому что всех этих гостей она не просто привела на торжество, но и хорошенько проинструктировала. Она была очень умной женщиной, и Игорек недаром мечтал с нею переписываться. Она заранее подобрала в библиотеке книжки, но каждому гостю велела прочитать что-то одно, чтобы все вместе могли говорить о разном и даже спорить, а сама Римма, зная об Игоре все, лишь подправляла эти воспоминания вовремя уточненными деталями. И все тогда прошло замечательно: бывшая коммуналка отметила восемь десятков осиротевшей женщины так, как редко кто отмечает.
А затем пришел 1985 год. Год сорокалетия великой Победы.
К празднику готовились, его ждали, им заслуженно гордились. И снова по телевидению — только теперь несравненно больше, чем двадцать и десять лет назад, — пошли фильмы и хроника, песни и стихи, воспоминания и документы войны. И все, кроме Анны Федотовны, смотрели передачи цикла «Стратегия победы», а Анна Федотовна уходила к себе. Ей было больно и горько: только она, она одна могла узнать родную мальчишескую спину из далекого сорок первого, но слепота навеки лишила ее этой возможности. Возможности последнего чуда: увидеть перед смертью давно погибшего сына.
А может, тогда, в шестьдесят пятом, и вправду мелькнул не ее Игорек? Тем более что видела она ту спину всего мгновение, видела неожиданно, не успела вглядеться… И внутренне, где-то очень, очень глубоко, почти тайком от себя самой, понимала, что это — не он. Не сын, не Игорек, но не хотела прислушиваться к трезвому голосу рассудка, а хотела верить, что Игорь хоть и погиб, но как бы не окончательно, как бы не весь, что ли. Не исчез бесследно, не истлел в братской могиле, не распался, а остался навеки в бледном отпечатке пленки, когда камера оператора снимала не его специально, а саму фронтовую жизнь, и в той фронтовой реальной жизни реально жил, двигался, существовал теперь уж навсегда ее сын. В это хотелось верить, в это необходимо было верить, и она верила. Только верила, не пытаясь ничего проверять.
— Бабуля, это к тебе, — громко и радостно объявила Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух очень серьезных девочек и одного еще более серьезного мальчика. — Ты покажи им все и расскажи, ладно? А я побежала, я в музыкальную школу опаздываю. — И умчалась.
А слепая Анна Федотовна осталась на пороге кухни, не видя, но точно зная, что трое ребятишек застенчиво жмутся у порога.
— Раздевайтесь, — сказала. — И проходите в комнату прямо по коридору. Я сейчас приду к вам.
Гости чинно проследовали в ее комнату, а она вернулась на кухню. Привычно домыла тарелки, с привычной осторожностью поставила их на сушилку и прошла к себе. Дети стояли у дверей, выстроившись в шеренгу; проходя, она легонько коснулась каждого пальцами, определяя, какие же они, ее внезапные гости, обнаружила, что стоявшая первой девочка выше и крепче очень серьезного мальчика, а последняя — маленькая и живая: она все время качалась, шепталась и переминалась с ноги на ногу, поскрипывая туфельками. «Значит, очень уж ей туфельки нравятся, наверно, обновка, — подумала Анна Федотовна. — А высокая, видать, у них за старшую, потому-то парнишка и пыжится. Да еще и волнуется, лоб у него в испарине». И, сразу же выяснив все, села в кресло, которое досталось ей по наследству от матери теперь уж тоже покойного Владимира.
— Садитесь, кому где удобнее. И говорите, зачем пришли, по какому такому делу.
Кажется, дети так и не сели, но долго шушукались, подталкивая друг друга. Наконец мальчика, видать, вытолкнули в ораторы.
— Ваша внучка Таня со своей музыкальной школой выступала на сборе нашей пионерской дружины. А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев». А она тогда сказала, что у вас фашисты убили сына Игоря и что он вам писал письма.
Мальчик выпалил все единым духом и замолчал. Анна Федотовна обождала, но девочки молчали тоже, и тогда она уточнила:
— Игорь успел написать всего одно письмо. А второе написал после его смерти его товарищ Вадим Переплетчиков.
Протянула руку, взяла с привычного места — с тумбочки у изголовья — папку и достала оттуда листы. Зачитанные и еще не очень зачитанные. Протянула высокой девочке — Анна Федотовна ясно представляла, где она стоит сейчас, эта самая главная девочка.
— Здесь еще уведомление о смерти.
Папку взяли и сразу же сгрудились над ней: Анне Федотовне показалось даже, как при этом стукнулись все три лба, и она улыбнулась. Пионеры пошушукались, но недолго, и большая девочка сказала с нескрываемым недоверием:
— Это же все ненастоящее!
— Правильно, это копии, потому что настоящими письмами я очень дорожу, — пояснила Анна Федотовна, хотя ей не очень-то понравился тон. — Девочка… Та, которая маленькая, ты стоишь возле комода. Правда?
— Правда, — растерянно подтвердила маленькая. — А ваша внучка говорила, что вы ослепли от горя.
— Я научилась чувствовать, кто где стоит, — улыбнулась Анна Федотовна. — Открой верхний левый ящик. Там есть деревянная шкатулка. Достань ее и передай мне.
Опять раздалось шушуканье, потом скрип выдвигаемого ящика, и тут же кто-то — Анна Федотовна определила, что мальчик, — положил на ее руки шкатулку.
— Идите все сюда.
Они сгрудились вокруг: она ощутила их дыхание, теплоту их тел и точно знала, кто где разместился. Открыла шкатулку, бережно достала бесценные листочки.
— Вот, можете посмотреть. Здесь письмо моего сына Игоря, письмо его друга Вадима и… И похоронка. Так называлось тогда официальное уведомление о гибели человека на войне.
Дети долго разглядывали документы, шептались. Анна Федотовна слышала отдельные фразы: «А почему я? Ну почему? Ты — звеньевая…», «А потому, что у нее сын, а не дочь, понятно тебе? Если бы дочь, то я бы сама или Катя, а так ты должен…» Еле уловимый, но, видимо, горячий спор закончился тем, что мальчик нерешительно откашлялся и сказал:
— Вы должны передать эти документы нам. Пожалуйста.
— То есть как это? — почти весело удивилась она. — Эти письма касаются моего сына, почему же я должна передать их вам?
— Потому что у нас в школе организуется музей. Мы взяли торжественное обязательство к сорокалетию великой Победы.
— Я с удовольствием отдам вашему музею копии этих писем.
— А зачем нам ваши копии? — с вызывающей агрессией вклинилась вдруг звеньевая, и Анна Федотовна подивилась, каким официально-нечеловеческим может стать голос десятилетней девочки. — Нет, это даже очень интересно! Ведь копии — это же так просто, это же бумажка. В копии я могу написать, что моя бабушка — героиня «Молодой гвардии», ну и что? Возьмет такую копию музей?
— Не возьмет. — Анне Федотовне очень не понравился этот вызывающий, полный непонятной для нее претензии тон. — И вы не берите. И, пожалуйста, верните мне все документы.
Дети снова возбужденно зашептались. В обычном состоянии для Анны Федотовны не составляло никакого труда расслышать, о чем это они там спорят, но сейчас она была расстроена и обижена и уже ни к чему не могла да и не хотела прислушиваться.
— Верните мне в руки документы.
— Бабушка, — впервые заговорила самая маленькая, и голосок у нее оказался совсем еще детским. — Вы ведь очень, очень старенькая, правда ведь? А нам предстоит жить и воспитываться на примерах. А вдруг вам станет нехорошо, и тогда все ваши патриотические примеры могут для нас пропасть.
— Вот когда помру, тогда и забирайте, — угрюмо сказала Анна Федотовна. — Давайте письма. Долго еще вам говорить?
— А если вы не скоро… — опять задиристо начала большая, но осеклась. — То есть я хочу сказать, что вы можете не успеть к сорокалетию великой Победы, а мы не можем. Мы взяли торжественное обязательство.
— Хочешь, значит, чтобы я до девятого мая померла? — усмехнулась Анна Федотовна. — Кто знает, кто знает. Только и тогда я не вам эти документы велю переслать, а в другую школу. Туда, где мой Игорь учился: там, поди, тоже музей организуют.
Они молча отдали ей письма и похоронку. Анна Федотовна ощупала каждый листок, удостоверилась, что они подлинные, аккуратно сложила в шкатулку и сказала:
— Мальчик, поставь эту шкатулку в левый ящик комода. И плотно ящик задвинь. Плотно, чтобы я слышала.
Но слушала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор сильно обеспокоил ее, удивил и обидел. Это ведь была не детская безгрешная откровенность: ее совсем не по-детски, а крепко, по-взрослому прижимали к стене, требуя отдать ее единственное сокровище.
— Трус несчастный, — вдруг отчетливо, с невероятным презрением сказала большая девочка. — Только пикни у нас.
— Все равно нельзя. Все равно, — горячо и непонятно зашептал мальчик.
— Молчи лучше! — громко оборвала звеньевая. — А то мы тебе такое устроим, что наплачешься. Верно, Катя?
Но и этот громкий голос пролетел мимо сознания Анны Федотовны. Она ждала скрипа задвигаемого ящика, вся была сосредоточена на этом скрипе и, когда наконец он раздался, вздохнула с облегчением:
— Ступайте, дети. Я очень устала.
— До свидания, — три раза по очереди сказали пионеры и направились к дверям. И оттуда мальчик спросил:
— Может быть, надо вызвать врача?
— Нет, спасибо тебе, ничего мне не надо.
Делегация молча удалилась.
Горечь и не очень понятная обида скоро оставили Анну Федотовну. «Да что с несмышленышей спрашивать, — думала она. — Что хочется, то и говорится, души-то чистые». И, примирившись, опять перебралась на кухню, где теперь проходила вся ее деятельная жизнь: старалась не только мыть да прибирать, но и готовить, и была счастлива, когда все ее дружно хвалили. И не догадывалась, что Римма тайком перемывает всю посуду и как может улучшает сваренные ею супы и борщи. Но сегодня Римма с утра уехала к старшему сыну Андрею, у которого заболел один из сорванцов, и поэтому кулинарные творения Анны Федотовны никто не корректировал.
Конечно, виной ее теперешних промахов была не столько слепота, сколько возраст. Она забывала привычные дозировки и рецепты, сыпала много соли или не сыпала ее вообще, а однажды спутала кастрюли, одновременно кипевшие на плите, и домашние получили довольно загадочное, но абсолютно несъедобное варево. Но старую женщину никто не обижал, и она пребывала в счастливом заблуждении, что и до сей поры не только не обременяет своих, но и приносит им существенную пользу.
Она вскоре позабыла о визите старательных пионеров — она вообще часто забывала то, что только что происходило, но прошлое помнила ясно и цепко, — но чем ближе к вечеру скатывался этот день, тем все более явно ощущала она некую безадресную тревогу. И оттого, что тревога ощущалась безадресно, оттого, что Анна Федотовна никак не могла припомнить никакой даже косвенной ее причины, ей делалось все беспокойнее. Уже примчалась из музыкальной школы Татьяна, уже Анна Федотовна старательно покормила ее, отправила заниматься, перемыла посуду, а тревожное беспокойство все нарастало в ней.
— Переутомление, — определила Римма, когда по возвращении услышала смутную жалобу Анны Федотовны. — Ложись в постель, я сейчас Таньку пришлю, чтоб почитала.
— Не трогай ты ее, Римма. Она только уроки учить села.
— Ну, сама почитаю. И о внуке расскажу. Простуда у него, в хоккей набегался, а панику развели…
К этому времени странность Анны Федотовны уже давно перестала быть тайной. То, чего она боялась, оказалось настолько тактично принятым всеми, что Анна Федотовна уже ничего не скрывала, а, наоборот, просила того, кто был посвободнее, десять минут почитать ей перед сном. Чаще всего это была Танечка, так как Валентина работала на полторы ставки, чтобы содержать семью с двумя пенсионерками и одной пионеркой, а Римма была по горло занята не только собственной семьей, но и вечно простуженными мальчишками Андрея, жившего в новом районе, как назло, довольно далеко от их квартиры.
— «Я здоров, все нормально, воюю как все, — читала Римма, тоже наизусть выучив все письма за эти длинные годы. — Как ты-то там одна, мамочка?..»
На этом месте с благоговейным спокойствием воспринимавшая ритуальное это чтение седая старуха вдруг подняла руку, и Римма удивленно смолкла. Спросила после напряженного странного молчания:
— Что случилось?
— Он чего-то не хотел, а они грозились, — невразумительно пробормотала Анна Федотовна, то ли всматриваясь, то ли вслушиваясь в себя.
— Кто он-то?
— Мальчик. Мальчик не хотел, а девочка его пугала. Он вроде отказывался — «не буду, мол, не буду», а та — «трус, мол, только скажи…» Римма! — Анна Федотовна вдруг привстала на кровати. — Римма, загляни в шкатулку. Загляни в шкатулку…
Не очень еще понимая, но и не споря, Римма встала, выдвинула ящик комода, открыла шкатулку. Старуха напряженно ждала, подавшись вперед в судорожном напряжении.
— Нету? Ну? Что ты молчишь?
— Нету, — тихо сказала Римма. — Похоронка на месте, фотографии, значки, а писем нет. Ни Игорька, ни второго, друга его. Только одна похоронка.
— Только одна похоронка… — прохрипела Анна Федотовна, теряя сознание.
«Неотложка» приехала быстро, врачи вытащили Анну Федотовну из безвременья, объявили, что функции организма, в общем, не нарушены, что больной следует с недельку полежать и все придет в норму. Анна Федотовна молчала, ни на что не жаловалась и глядела невидящими глазами не только сквозь врачей, сквозь Римму, сквозь оказавшую ей первую помощь Валентину и перепуганную Танечку, даже не только сквозь стены родной и вечно для нее коммунальной квартиры, но, казалось, и сквозь само время. Сквозь всю толщу лет, что отделяли ее сегодняшнюю от собственного сына.
— Я вернусь, мама.
Нет, не слышала она больше этих слов. Она ясно помнила, где, как и когда произнес их Игорь, но голос его более не звучал в ее душе.
— Идите, — с трудом, но вполне четко и осознанно произнесла она, по-прежнему строго глядя в существующую только для нее даль. — Я засну. Я отдохну. Идите.
— Может, почитать… — робко начала Римма, но дочь одернула ее: читать было нечего.
Они выключили свет и тихо вышли из комнаты. Потом угасли шаги, голоса, проскрипели двери, и все стихло.
Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, затаила дыхание, напряженно прислушалась, но душа ее молчала, и голос сына более не звучал в ней. Он угас, умер, погиб вторично, и теперь уже погиб навсегда. И, поняв это, старая, почти на полстолетия пережившая смерть единственного сына мать ощутила вдруг на дряблых, изрубленных глубокими морщинами щеках что-то теплое. С трудом поднесла непослушную руку, коснулась щеки и поняла, что это — слезы. Первые слезы с того далекого, отступившего на добрых пять десятков лет дня получения похоронки. Официального клочка бумаги со штампом и печатью, бесстрастно удостоверяющего, что ее единственный сын действительно погиб, что нет более никаких надежд и что последнее, что еще осталось ей, — это память о нем.
А от всей памяти оставили только похоронку. Разумом Анна Федотовна еще понимала, что память нельзя украсть, но то — разум, а то — действительность, и в этой действительности одновременно с исчезновением писем сына и его друга исчезли и их голоса. Они более не звучали в ней, как ни напрягала она свою память, как ни прислушивалась, как ни умоляла сжалиться над нею и позволить еще хотя бы разочек, один-единственный раз услышать родной голос.
Но было глухо и пусто. Нет, письма, пользуясь ее слепотой, вынули не из шкатулки — их вынули из ее души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и ее душа.
— Господи…
И вдруг отчетливо и громко зазвучал голос. Не сына, другой: официальный, сухой, без интонаций, тепла и грусти, не говоривший, а докладывающий:
— …уведомляем, что ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых восемнадцатого декабря одна тысяча девятьсот сорок первого года в бою под деревней Ракитовка Клинского района Московской области.
«Нет! Нет! Нет! Не надо! Не хочу», — беззвучно кричала она, но голос продолжал все нарастать и нарастать в ней, заглушая ее собственные беспомощные слова: «…что ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых… что ваш сын Игорь пал… и голос уже гремел в ней, а по морщинистым щекам без перерыва, точно стремясь наверстать упущенное, текли слезы.
И даже когда она умерла и перестала ощущать все живое, голос еще долго, очень долго звучал в ее бездыханном теле, а слезы все медленнее и медленнее текли по щекам. Официальный холодный голос смерти и беспомощные теплые слезы матери.
А письма оказались в запаснике школьного музея. Пионерам вынесли благодарность за активный поиск, но места для их находки так и не нашлось, и письма Игоря и сержанта Переплетчикова отложили про запас, то есть попросту сунули в долгий ящик.
Они и сейчас там, эти два письма с аккуратной пометкой: «ЭКСПОНАТ №…» Лежат в ящике стола в красной папке с надписью: «ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».

Окончание третьего класса – важный этап в жизни ребёнка. По мнению педагогов, именно в этот период у детей появляется огромный интерес и тяга к знаниям. Вместе с тем, конечно, младшим школьникам, хочется провести летние каникулы с друзьями и хотя бы на время забыть о домашних заданиях и учебниках. Родителям также не хочется загружать детей уроками, однако полностью отказываться от познавательного процесса на всё лето тоже не стоит. Мы подготовили для вас список книг для чтения летом после 4 класса.
Программа по чтению будущего пятиклассника ощутимо сложнее той, которую изучают в младшей школе. Список изучаемых текстов можно разделить на несколько групп:
- русские народные сказки;
- произведения русских писателей XIX в.;
- произведения отечественных авторов XX в.;
- зарубежная литература;
- мифы Древней Греции.
Чтобы лучше усвоить материал и в течение учебного года не перегружать ребёнка, рекомендуем начать подготовку уже сейчас. Тем более, что после 4 класса в рекомендованном списке литературы есть внушительные по своему объёму произведения. Например, «Старик Хоттабыч», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и «Приключения Электроника».
Необходимо читать в среднем 6-7 страниц ежедневно, чтобы освоить всю программу за летние каникулы.
Содержание:
«Школа России»: список литературы на лето

Русская литература
- В. Брагин «В стране дремучих трав».
- А. Усачёв «Великий могучий русский язык».
- С. Прокофьева «Тайна хрустального замка».
- Л. Гераскина «В стране невыученных уроков».
- К. Булычёв «Сто лет тому вперёд», «Девочка с Земли», «Тайна Третьей планеты».
- В. Крапивин « Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой».
- Ю. Ситников «Возвращение кота».
- Т. Ломбина «Дневник Пети Васина и Васи Петина».
- Р. Погодин «Дубравка».
- В. Зарапин «Опыты на воздухе. Весёлые научные опыты для детей и взрослых».
- В. Медведев «Баранкин! Будь человеком!»
- С. Алексеев «Идёт война народная», «Ради жизни на земле».
- Е. Велтистов «Приключения Электроника».
- Ю. Олеша «Три толстяка».
- Б. Зубков «Как построили небоскрёб», «Из чего все машины сделаны?»
- М. Константиновский «О том, как устроен атом», «О том, как работает автор».
- Г. Шторм «Подвиги Святослава», «На поле Куликовом».
- А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила».
Зарубежная литература
- Эдит Патту «Восток».
- Д. Даррел «Зоопарк в моем багаже».
- Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес».
- Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
- Л. Мальмузи «Неандертальский мальчик в школе и дома».
- Ф. Зальтен «Бемби».
Список литературы на лето по программе «Перспектива»

Русская литература
- Русские народные сказки: «Василиса Прекрасная», «Финист – Ясный Сокол».
- В. Жуковский «Спящая царевна».
- Сказки А. Пушкина.
- Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница».
- И. Крылов «Басни».
- Юмористические рассказы А. Чехова («Толстый и тонкий», «Налим», «Злоумышленник», «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия» и др.).
- И. Тургенев «Муму».
- Л. Толстой «Кавказский пленник».
- В. Короленко «Дети подземелья».
- А. Куприн «Чудесный доктор»
- А. Платонов «Волшебное кольцо»
- К. Паустовский «Кот-ворюга»
- В. Астафьев «Васюткино озеро»
- В. Белов «Скворцы»
- В. Осеева «Васек Трубачёв и его товарищи»
- М. Горький «Дед Архип и Ленька»
- К. Булычёв «Путешествие Алисы», «Гостья из будущего»
Зарубежная литература:
- Мифы и легенды Древней Греции (под редакцией Н. Куна).
- Г. Андерсен «Соловей», «Снежная королева».
- В. Гауф «Карлик Нос».
- Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
- Р. Киплинг «Кошка, которая гуляла сама по себе».
- А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста».
- Дж. Родари «Сказки по телефону» или «Говорящий сверток», «Голубая стрела».
- М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна».
- Д. Толкин «Хоббит, или туда и обратно».
- О. Уайльд «Соловей и роза».
- Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес».
- А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».
- Р. Стивенсон «Остров сокровищ».
- Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».
Список литературы на лето «21 век»

Русская литература
- Русские народные сказки «Марья Моревна», «Иван-Царевич и Серый Волк» и др.
- Библейские предания «Блудный сын», «Суд Соломона».
- Русские былины о богатырях.
- Басни И. Крылова, Л. Толстого, А. Измайлова, И. Хемницера.
- Сказки Ш.Перро.
- П. Ершов «Конёк-Горбунок».
- Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».
- В. Жуковский «Война мышей и лягушек».
- В. Одоевский «Городок в табакерке».
- В. Даль «Сказка об Иване молодом сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища».
- М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключение Гекльберри Финна».
- Х. Андерсен «Дикие лебеди».
- Сказки В. Гауфа.
- Сказки Б. Гримм.
- А. Куприн «Четверо нищих».
- В. Катаев «Сын полка».
- Е. Ильина «Четвертая высота».
- Н. Вагнер «Сказки Кота-Мурлыки».
- Д. Свифт «Путешествие Гулливера».
- К. Булычёв «Тайна третьей планеты», «Приключения Алисы», «Девочка с Земли».
- Л. Лагин «Старик Хоттабыч».
- П. Треверс «Мэри Поппинс на Вишнёвой улице».
- Е. Велтистов «Приключения Электроника».
Список литературы для чтения летом по программе «2100»
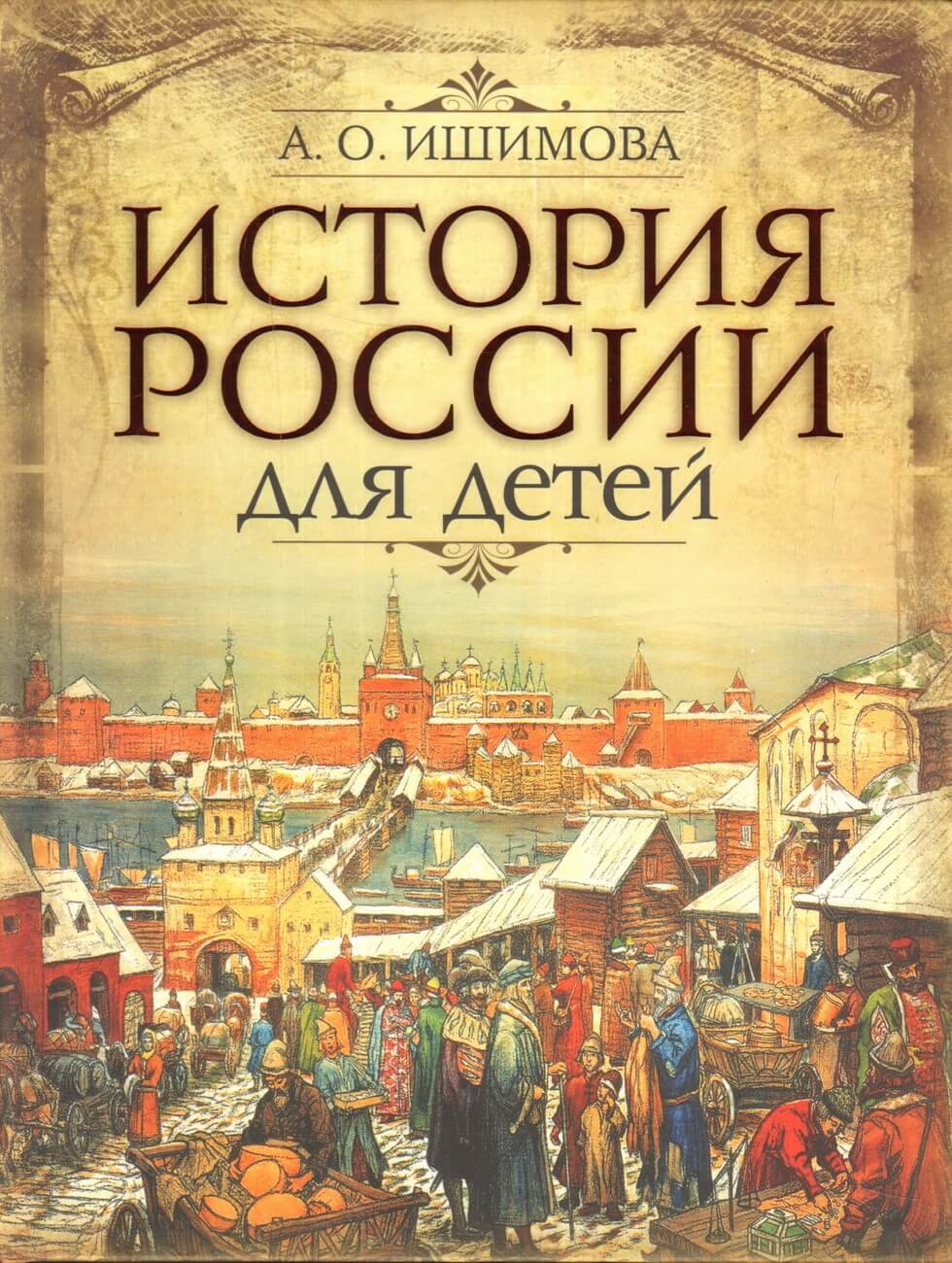
Русская литература
- Г. Сапгир «Стихи».
- Е. Велтистов «Приключения Электроника».
- Стихи Ю. Мориц.
- А. Пушкин «Борис Годунов», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде».
- Н. Кончаловская «Наша древняя столица».
- «Повесть временных лет».
- Д. Герасимов «О поселянине и медведице».
- Савватий (Терентий Васильев) «Азбуковное учение».
- С. Аксаков «Детские годы Багрова-внука».
- А. Болотов «Жизнь и приключения Андрея Болотова, написанные самим им для своих потомков».
- Н. Новиков журнал «Детское чтение для сердца и разума».
- Басни И. Крылова.
- А. Одоевский «Городок в табакерке».
- А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители».
- В. Жуковский «Спящая царевна».
- В. Даль «Война грибов с ягодами».
- А. Ишимова «История России в рассказах для детей».
- Стихи А. Плещеева.
- Стихи А. Майкова.
- Стихи Ф. Тютчева.
- Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».
- Л. Толстой «Два брата».
- К. Ушинский «Детский мир и хрестоматия», «Жалобы зайки».
- А. Куприн «Слон».
- Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки».
- Б. Житков «Морские истории».
ТОП-10 современных произведений для чтения летом
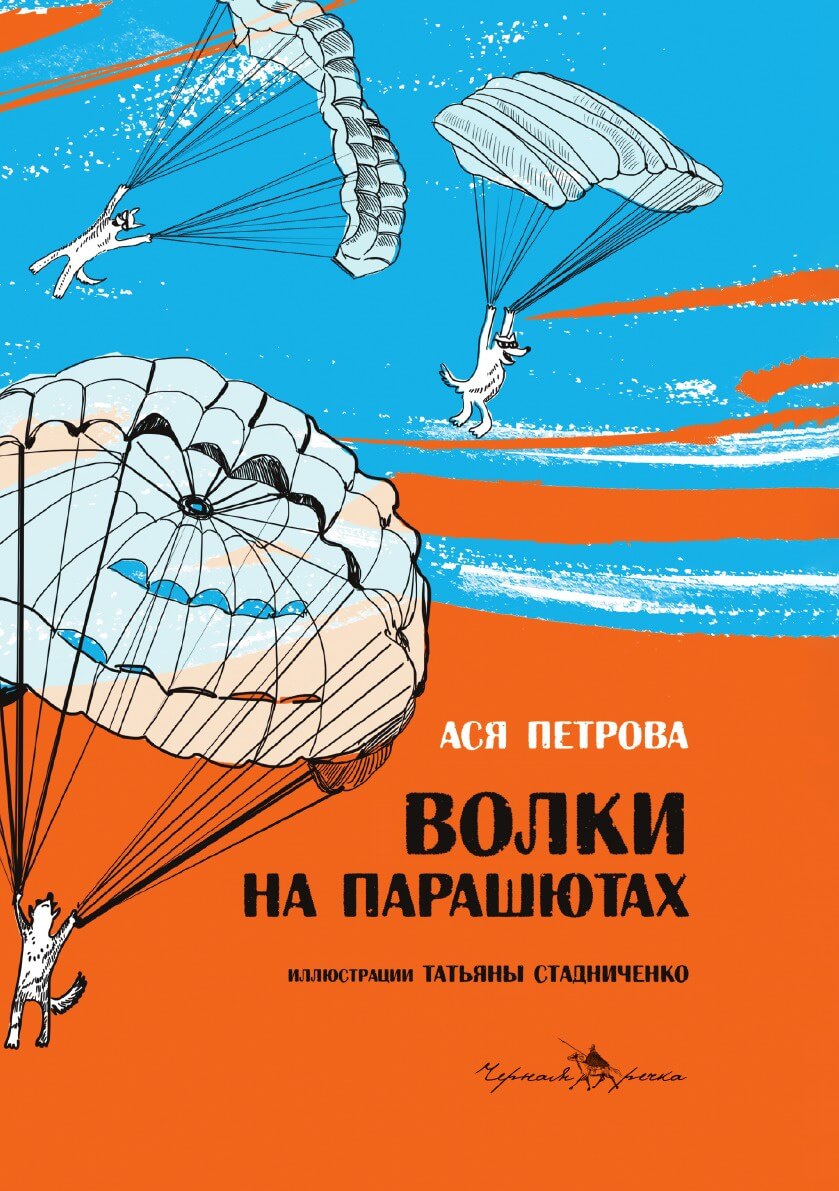
- С. Седов «Сказки про мальчика Лёшу».
- М. Бершадская «Большая маленькая девочка».
- С. Востоков «Не кормить и не дразнить».
- А. Гиваргизов «С детского на детский», «Записки выдающегося двоечника», «Про драконов и милиционеров».
- Т. Михеева «Асино лето».
- М. Ботева «Мороженое в вафельных стаканчиках».
- А. Перова «Волки на парашютах».
- Т. Крюкова «Блестящая калоша с правой ноги», «Ровно в полночь по картонным часам».
- М. Бородицкая «Последний день учения».
- М. Дружинина «Классный выдался денёк!».
Что ещё почитать будущему пятикласснику

Если список литературы у ребёнка подходит к концу, предлагаем ещё несколько книг, которые в школьную программу не входят, однако уже многие годы не оставляет равнодушным юных читателей.
- Л. Давыдычев «Рассказ про Ивана Семёнова второгодника и второклассника».
- Л. Кассиль «Дорогие мои мальчики», «Будьте готовы, Ваше высочество», «Кондуит и Швамбрания».
- В. Крапивин «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой», «Бегство рогатых Викингов».
- В. Осеева «Динка», «Динка прощается с детством».
- А. Фраерман «Дикая собака Динго».
- Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье».
- Э. Сетон-Томпсон «Снап», «Виннипегский волк», «Чинк».
- А. Линдгрен «Мы все из Бюллербю», «Расмус-бродяга», «Братья Львиное Сердце», «Ронни дочь разбойника».
- Дж. Родари «Сказки по телефону», «Говорящий свёрток».
- Р. Стивенсон «Остров сокровищ».
- Э. По «Золотой жук».
- А. Конан Дойл «Затерянный мир».
Чтобы лучше запомнить прочитанное и зафиксировать главные моменты, рекомендуем вести читательский дневник.
Задания после 4 класса на лето

Летняя пора – уникальное время, чтобы не только подтянуть и освежить полученные знания, но и подготовиться к новому учебному году. Чтобы сохранить уровень полученных в школе навыков и умений, необходимо уделять занятиям минимум 15 минут ежедневно. Такую методику используют во многих странах мира. Это помогает не только поддерживать познавательную деятельность, но и придерживаться дисциплины даже в период летнего отдыха.
Русский язык
- Производить синтаксический разбор предложений (простых и сложных).
- Разбирать слово как часть речи, работать над составом слова.
- Писать изложение текста (90-100 слов).
- Писать сочинения по плану (0-25 предложений).
- Повторять все изученные правила русского языка (это нужно делать в августе перед началом учебного года).
Математика
- Вычислять периметр и площадь прямоугольника, многоугольника.
- Решать уравнения, применяя правила нахождения компонентов.
- Применять правила выполнения операций с числами в 3-4 действия со скобками и без.
- Работать с единицами величин (длина, масса, площадь, время).
Чтение
- Тренировать скорость чтения (минимум 80 слов в минуту).
- Читать группами слов, без пропусков и перестановок букв и слогов, соблюдая орфоэпические нормы и интонацию.
- Формулировать своё отношение к сюжету, героям и их поступкам.
Лайфхак для родителей: найдите правильную мотивацию к чтению для дошкольника или младшего школьника. Вместе придумайте желанную цель, на которую ребёнок будет копить, выполняя те или иные задания от родителя. Осуществить это помогает приложение «Где мои дети» и новая функция «Задания для ребёнка»!
Получите чек-лист подготовки к школе на свою почту
Письмо отправлено!
Проверьте электронный ящик
Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android

Мобильное приложение «Где мои дети»
Смотрите передвижения ребёнка на карте, слушайте что происходит вокруг, когда вас нет рядом.
Отправляйте громкий сигнал, если ребёнок не слышит звонка от вас.
Скачайте бесплатно приложение на iOS или Android
Загрузить приложение

Ещё один шедевральный автор по теме омораси (и других фетишей)-Кираева Болеслава.
Полагаю, что это всё-таки мужчина под женским псевдонимом, но не суть важно.
Ниже запощу свой любимый рассказ этого автора, полная подборка его (её) творчества здесь:
а вот собственно и рассказ:
Коварный горшок
Аннотация:
Если хочешь продолжать пользоваться горшком, став большой девочкой, жди всяких неожиданностей.
В моей жизни, в детстве, был период, когда я считала, что родители укладывают меня спать слишком рано. Как же, я ведь подросла, стала большой девочкой. Кое в чём это как-никак проявлялось, скажем, гуляла я уже с мамой не за ручку, а то и вообще одна, выбирала, что надеть, ко мне обращались с вопросами, требующими принятия какого-никакого решения. Признаки взросления налицо. А вот ложиться спать попозже — ни в какую. Восемь тридцать — и тебя посылают в постель, словно ты на целый год младше своего возраста. Вдумайтесь — на целый детский год!
Просьбы, вплоть до угрозы зареветь, не помогали. Мало того — меня начинали баюкать и чуть ли не укачивать, как младенчика! Колыбельную пели, вот как! Лучше уж самой, в тишине и одиночестве.
Но самое плохое — то, что в тишине и одиночестве я быстро засыпала и спала без задних ног. Это сильно вредило образу «большой девочки». Такая, будучи уложена в постель в детское время, должна долго не засыпать, ворочаться с боку на бок, глаза её должны раскрываться при всякой попытке их закрыть. Зевать вот не возбраняется, зевота — не сон. А я даже зевнуть не успевала, как уже «по ту сторону» и — «С добрым утром, малыши!»
Что делать? Если гора не идёт к Магомету, то… Стала пытаться бодрствовать насильно. Думала, глупая, что это меня повзрослит. Но и прямое напрягание ума, и мысленные приёмы помогали мало. Спать тянуло, прямо как совсем малышку. Ну что же это такое?!
Много позже я поняла свою ошибку. Как-то, ещё «маленькой девочкой», я присутствовала на каком-то семейном празднестве, гордая, и в бокал мне наливали сок. Мало что я помнила, разговоры-то все взрослые, а даже если перед тобой стоит «взрослый» бокал, ума это не прибавляет, разумения. Поэтому запоминалось только то, что посильно детскому умишку. Помню, например, как один гость, подвыпив, советовал кому-то перед засыпанием считать овец.
Зачем — я не поняла, но когда вспомнила, то и применила. А ведь так взрослые борются с бессонницей. У меня овечки выходили яркие, во всех деталях, даже блеяли, но усыпляли не хуже, чем «сухие», абстрактные овцы во взрослых головах.
И тут я вспомнила. Очень редко, но бывало, когда я перед сном не ходила в туалет. Большей частью это было тогда, когда взрослые брали меня на позднюю прогулку, я уматывалась, сил не оставалось, меня раздевали, словно маленькую, и клали в постель. А порой, когда просто считала, что не хочу. Мама сначала пыталась следить, но я её бдительность усыпила, потому что почти всегда туалет перед сном посещала.
И вот в таких-то случаях, если мне всё же приспичивало, уснуть я не могла. Не засыпая или проснувшись посреди ночи, начинала мучиться, терпеть, ворочаться с боку на бок… Надо бы, по-хорошему, встать и сходить, но — в доме темно, свет по своей недорослости зажечь не могу, да и папа с мамой проснутся, будут ворчать. На работе они, знаете ли, устают очень. Может, как-нибудь само собой пройдёт или до утра дотерплю.
Но всегда приходилось всё же подниматься и на ощупь брести по тёмной квартире. Страх опростаться боролся со страхом темноты и побеждал. Дела свои делала в темноте. Родители, если пробуждались, не ругались, а скорее сочувствовали, особенно если сами до этого уложили меня спать, не дав опустеть.
Вот это я и решила использовать, чтобы поворочаться, не засыпая, до часа отбоя для взрослых. Точно уж сработает. Никогда мне ещё не удавалось уснуть с раздувающимся животиком. По-овечьи он себя вести не будет. Сегодня же и начну.
Надо же, весь день, как только думала о том, что намеренно лягу, не пописив, сердечко замирало и дыхание захватывало. Что-то как будто запретное или секретное. И вправду, как у большой девочки секреты есть, пока что маленькие, однако.
Началось всё не очень хорошо. Я боялась, что кто-нибудь заметит, что я не иду в туалет. Мало того, пришлось преодолевать привычку туда сходить. Но обошлось, потому что сильно хотела. В смысле — не засыпать сразу.
Когда нырнула в прохладные простыни, охватило какое-то содрогающее чувство запредельной новизны. Впервые я обрекала себя на терпёж сознательно, подавляя желание опустошиться, а последствия были неясные. Надо бы дотерпеть до того времени, когда лягут родители, а то придётся тащиться в туалет мимо них, при свете. Может, и бежать погонит. Я боялась, что они поймут, что такой позыв не мог накопиться за полчаса-час сам собой, от пустого пузыря, что я ему помогала. В любом случае попеняют, и такое же поведение назавтра станет очень уж подозрительным. Разве что сказать, что захотела по-большому, но дальше легенд уже нет.
Всё так и вышло. Я ещё не знала своих возможностей, не протерпела в пробном порядке, до вылезания капелек, не ощущала, сколько смогу ещё продержаться. Может, и смогла бы до «взрослого» отбоя, да испугалась, что пролью. Имитировала сонное брождение, не бежала, меня, конечно, спросили, чего это я. Во второй раз имитировала по-большому, шумно сливала воду, напряглась и пукнула, уже опустив ночнушку — чуть не замарала.
Наступил третий раз. Я твёрдо решила дождаться, пока родители лягут, но время тянулось очень уж медленно. Вдобавок мама затеяла долгий телефонный разговор с приятельницей… Я изнемогала, металась по кровати, ворочалась, нещадно скрипела пружинами — и боялась, что услышат, подумают, что заболела, войдут… Встала, начала ходить, совать руки в промежность, задрав рубашонку.
И вдруг подумала: ночнушка меня так слабо обвевает, что чую себя почти голенькой. Так легче заснуть и приятнее спать, но ведь нет опаски обмочить одежду, вот пузырь и просится. А что, если одеться? Конечно, одеться по-дневному я не смогу, свет-то зажигать нельзя, а в темноте и не найду, и нашумлю, да и как я объясню, если войдут? А вот трусики можно исподтишка пододеть, они же у меня наготове лежат, для утра, под ночнушкой и незаметно, если что. Как они, помогут?
Натянула. Теперь боязно намочить то, что плотно надето на тело. Ещё бы шортики какие, чтоб бёдра хоть чуть-чуть затронуло, но это потом. Для маленькой девочки, привыкшей к коротким и просторным юбочкам, и одни трусики создают впечатление одетости. Что-нибудь можно и после припасти, натягивая в качестве последнего средства.
Помогло. Но, как оказалось, в тот день родители, умаявшись за день, легли спать раньше срока. Значит, надо искать ещё средства.
Я даже засомневалась, стоит ли пропускать туалет вечером следующего дня. Может, разок поспать, как маленькая девочка, так сказать, «по-маленькому», а то три дня недосыпаю, днём зеваю, ложусь, вот-вот заметят.
Решила так: если не найду вариант, пропущу ночку. И пропустила.
Под утро мне приснилось, что я, ещё маленькая, сижу на горшке и бурю в него. Бурю, струю, а легче не становится, пузырь никак не опустевает. Это общее правило при нужде во сне. Всё начинает крутиться вокруг «пописить», всё тебе не дают, и даже если начинаешь это делать, то не останавливаешься, не легчает тебе. В конце концов, проснёшься, охнешь и побежишь в туалет.
Когда резко просыпаешься, «хвост» сна хватаешь. Горшок я запомнила, его кругло-холодное вжатие в попку. И возликовала: вот он, способ! Сам собой во сне пришёл.
Горшок из-под моей кроватки никуда не исчезал. Когда я осознала, что сажают на него маленьких, а я уже девочка большая, освоившая, как и взрослые, унитаз, то стала пробовать выбросить этот позорный (как считала) атрибут детства подальше. Выросла, не дай бог, кто-нибудь увидит!
Родители решительно отказались. Выбрасывать не будут, это вещь, может, ещё дети будут, я же сама просила братика или сестрёнку. А убирать некуда, на глаза не поставишь, в доме гости бывают, да и самим тошно глядеть, а вне глаз всё другим забито. Под кроватью пусто, почему бы там не постоять «ночной вазе», на исконном своём месте?
Ещё рассказали, что бывает такой глубокий сон, что просыпаешься, а пузырь полнёхонек и у тебя считанные секунды, прежде чем потечёт неостановимо. До туалета добежать не успеешь, к тому же любой напряг усугубит дело. Тут горшочек под кроваткой просто палочка-выручалочка. Выворачиваешься из-под одеяла и сползаешь, не тратя сил даром, на пол, выдёргиваешь его из-под кровати — и под себя. Садиться не обязательно, можно просто встать на колени, раздвинув ноги, и ловить в горшок струю. Рубашонку лучше стащить, мигом, чтобы ничего такого.
И ничего тут позорного нет. Это же крайняя необходимость! Взрослые тоже пользовались бы горшком, но такой глубокий сон бывает только у не обременённых заботами детей.
Я согласилась, чтобы горшок стоял, но совсем выбросила его из головы. Если бы сон не напомнил, так и не решила бы задачу «слива». А тут просто в руки идёт.
Главное только — не шуметь. Раньше-то звон струи о дно мне был пофигу, даже пыталась я звенеть погромче, а то родители беспокоились, чего это я саботирую пи-пи, требовали привстать, показать налитое. Теперь же надо потише, а то ясно станет, что специально копила. И выливать потом надо тайно, днём, в одиночку.
Тут я такое придумала. Садилась на горшок, пустив поверху ночнушку, прямо совсем он под ней был. А сверху ещё обкладывалась, уплотнялась одеялом, чтоб звук глушил. Даже подушку клала. И журчание становилось глухим-глухим, словно подземный ручеёк.
Круглый холодок вокруг попы напоминал мне о раннем детстве, только сейчас кружок этот был поменьше, попа прямо через него краями свешивалась, а холодок быстро теплел. Это от того, поняла я, что повзрослела. У большой девочки и задница соответствующая! Горшок лучше мне об этом навеял, чем даже череда платьев, из которых, один за другим, я вырастала.
Постепенно, мало-помалу, сложился целый метод позднего засыпания. Оставшись одна, я стаскивала ночнушку и натягивала трусы, и так ложилась. Большие девочки должны спать иначе, чем маленькие, то есть, может, не в ночной рубашке, но и не без всего. Где-то я видела фотографию, как тётенька лежит в постели в трусиках и лифчике (другие детали забылись). Так что, скорее всего, большие девочки спят в трусиках, верха-то им пока не положено. Ну, и я так.
А что мама тоже спит в ночнушке, я не очень-то знала, потому что спать меня посылали раньше, будили — позже. Зато я наблюдала, как мама утром мечется порой в одном белье, пытаясь накормить папу и меня, собрать его на работу и между делом прихорошиться самой. Так что, считала я, она может запросто спать в трусах и лифчике, как та тётя с фото.
Итак, я лежала в постели, словно большая девочка, и терпела. Теперь, имея горшок под рукой, можно было терпеть напропалую, не боясь опростаться. Мало того, я спрятала под постелью запасные трусы и могла даже пойти на чуть-чуть обмокрение надетых, которые потом тайно «стирала». То есть прополаскивала и вешала сушить — всего-то.
Но чаще я бросала терпеть не потому, что наступал край, а потому что жутко хотелось спать, а пузырь мешал. Это не шутка — в моём возрасте оттянуть чуть не на час отход ко сну! Зато сколь огромным было облегчение от опростания! Прямо ни от чего другого так легко не становилось. И, сменив трусы на ночнушку и нырнув под одеяло, я мгновенно глубоко засыпала и сладко спала до самого утра. Иногда давала себе отдых, то есть не терпела, а ложилась «всерьёз» сразу же, и тоже спала неплохо, но всё же не так сладко. Небольшое мученье впоследствии окупается, делала я для себя вывод, приводит к хорошему расслаблению.
Перед сном у меня в пузыре начинало как-то по-особому свербить.
А потом как-то само собой время отбоя стало отодвигаться и отодвигаться: то телик допоздна посмотрю, то меня «забудут» послать спать, сама догадывайся, что пора. То прогулка вечерняя затянется. И всё в таком роде.
Ну, и время большедевочкового неспанья сжалось, а потом и вовсе сошло на нет. Горшок вышел из употребления — кроме разве что утреннего, когда заспишься после позднего отбоя, просыпаешься с полным пузырём и уже еле терпишь. Я потом думала — если бы убрала горшок из-под кровати и заставляла себя терпеть до туалета, может, лучше было бы? Не разбаловала ли я свой животик?
К этому времени я уже пошла в школу. Пришлось как-то ночевать у одноклассницы, так я аж удивилась: проснувшись, она не бежала в туалет в одной ночнушке, а сперва полностью одевалась и только потом выходила из спальни. Спросить я не решилась, но украдкой подошла к двери ванной и послушала — лилось из неё, как из цистерны. Значит, держала себя в руках, виду не казала. Или это из-за меня, моего присутствия?
От баловств с пузырём перед сном я отказалась, потому что не высыпалась. Но от ужина до отбоя старалась в туалет не заходить. Кроме того, порой и днём, когда подворачивался случай и было настроение, терпела «пи-пи», но не на рекорд, а так. И после опустошения вся прямо расслаблялась, ложилась или хотя бы в кресло садилась минут на десять.
Значит, от игры в большую девочку что-то осталось.
И вот началось моё превращение в девочку-подростка. Главного ещё не произошло, но уже и интерес появился, и взрослые заговорили непонятно: «пубертатный период». Даже и не поймёшь, довольны они или больше встревожены.
Захотелось побольше узнать про своё созревающее тело, может, поэкспериментировать. Одним из вопросов, которым я задалась, было: можно ли теперь заснуть с непустым мочевым пузырём? Не совсем с полным, но и не «выдоенным».
Кроме просто интереса, если честно, была и ещё одна причина… Ладно, скажу. Мир перед нами, подрастающими, стал раскрываться, и среди моих подруг-одноклассниц всё больше и больше шло разговоров, кто где ночевал. В основном, конечно, «у подруги», так говорили родителям… Ну, а подруге, у которой якобы ночевали, приходилось говорить правду. В круг общения входили и старшие девочки, то есть девушки, они много чего интересного рассказывали.
Не всегда «ночевницам» удавался комфорт, иногда то ли стеснялись пойти в чужой квартире в туалет, то ли ещё чего, но рассказывали, как мучились, пытаясь заснуть непустыми. Я тоже хотела ночевать не дома, раз это признак взрослости, со временем, конечно, но вот эта проблема… Я-то смогу заснуть или тоже готовься к неудобствам?
Рассуждала так: на горшок я рухала, когда просыпалась с полным пузырём. Но он же не за минуту наполнялся! Часами, пожалуй, был ощутимо наполнен, бодрствуя, я бы чуяла позыв. То есть спать с таким можно. А вот можно ли заснуть? Это же разные вещи. Каждый, кто спал, знает.
Я снова вернулась к отсроченному засыпанию и быстро убедилась, что заснуть не могу. Мало того, не могу задавать объём «стартовой» мочи. Если начинаю лить, то зажаться могу лишь неимоверными усилиями, и то — на минуту-две, после чего меня размыкает и заставляет довылить до капельки. Пыталась за эту секунду натянуть трусы в надежде, что страх намочить поможет — но руки-то мои, они и дотянуть не успевали, сразу назад сдёргивали. Ничего не поделаешь, не попишешь, не пописаешь… с перерывом.
Вот если бы на меня кто другой, другая натянула трусы, да придержала мне руки, да другого белья не было бы сухого — интересно, совладала бы я с собой? Но я никому не признавалась, что занимаюсь такими вещами, что вообще ими интересуюсь. Может, в дальнейшем…
Но частичный писс и не помог бы, я же не знала, сколько у меня там осталось. Вот интересно… Бывает абсолютный музыкальный слух, когда безошибочно называют слышимую ноту и могут её пропеть. А есть ли такие, кто по внутренним своим ощущениям может назвать объём накопившейся мочи и проверить методом сливания?
Так что варьировать я могла только объём выпиваемого за ужином и время последнего (вернее, предпоследнего) посещения туалета, то есть, за сколько часов до сна. Всё.
И ни в одном случае заснуть мне не удавалось. Ни в едином. Мучилась, вертелась на кровати, хотя это и не делало уже меня «большой девочкой». В конце концов, поднималась и шла в туалет. Теперь это уже было ближе к полуночи, пыталась я заснуть долго, и родители уже спали. Но в особо острых случаях выручал и горшок.
М-да, похоже, с волнительной мыслью о ночёвках в чужих домах придётся расстаться… или повременить. С годами я вырасту, груди — вообще с нуля и до больших (надеюсь!), может, и глубины мои женские подрастут, пузырь пообъёмнеет и станут в нём затериваться те объёмы мочи, которые теперь лишают сна.
Но было одно обстоятельство. Когда пузырь не давал ощущений, я хорошо засыпала. Но знала, что когда не хочешь, но почему-либо идёшь в туалет, то порой из тебя вытекает ощутимый объём… вернее, зримый. Пусть не всегда, но хотя бы в части случаев пузырь был не пуст и при успешном засыпании. Значит, можно?
Думала я над этим, думала, и вдруг пришла в голову мысль. Что, если значение имеет не только само ощущение от пузыря, но и знание того, что он непуст? Вертится в голове, что легла с полным, вот и мешает заснуть эта мысль, в словах выраженная.
Стала тогда гнать такие мысли, но… трудно не думать о «белой обезьяне». Ничего не получалось, даже счёт овец не помогал. Я видела их писающими, этих овечек, да как ярко! Но, чёрт побери, точно такое же ощущение, когда я сплю, просыпаться не даёт.
И вдруг я поняла, что нужно делать. Сколько надо выпить за ужином, чтобы проснуться утром полненькой, я примерно представляла. Теперь — положить под подушку будильник, заведённый на два-три часа назад от подъёма, чуть-чуть совсем заведённый, чтоб разбудил только. Может, и не поймёшь даже спросонья, что именно тебя вынуло из сна. Главное, что сонная и что будешь пытаться снова заснуть. Пузырь уже даёт о себе знать, но вот мыслей о нём вертеться в голове не будет. Эксперимент станет чище. Смогу ли заснуть в таком варианте? Хотя бы часа два проспать…
Главное и в «боевой» обстановке — заснуть. Пузырь разбудит только тогда, когда все ресурсы сдерживания исчерпаются. Тогда нет вариантов: ищи сразу же возможность присесть. А когда лежишь без сна и мучаешься, тут всё время думай — вставать или терпеть дальше.
Решено — проверим.
Первый «блин» вышел комом. Я не рассчитала, и когда через подушку прострекотал будильник, проснулась уже с ощущением полноты. В панике слезла с кровати, нащупала под ней горшок и… загремела крышкой. Испугалась, что услышат родители, и чуть не пролила. Скорей-скорей, на горшок и в него. Уф-ф, вовремя!
В дальнейшем я стала с вечера крышку с горшка снимать и класть от него подальше, чтоб не звенела.
Неудача не обескуражила. Я выпила за ужином меньше и повторила. Потом ещё и ещё. Стало кое-что проясняться. Когда пузырь заставлял уже все сны крутиться вокруг себя, по просыпании я его уже чуяла и не вставала, только если припоминала, что ставлю опыт. После чего заснуть всё равно не могла.
Если же сны были ещё «вольные», то тут можно было ещё заснуть. Стало получаться. Ага!
Но меня смущало одно обстоятельство. Я же знала, хотя бы подсознанием, что под кроватью меня ждёт наготове ёмкость, и что я одна, никто не помешает мне ею воспользоваться. Может, потому и удаётся засыпать и спать вплоть до заполнения «до краёв»? А как будет в «боевых» условиях? Не помешает ли заснуть мысль о том, что надо ещё искать чёрт те знает сколько времени возможность пи-пи?
Но горшок мало убрать, его надо спрятать, чтоб родители не заинтересовались, чего это я… И я поместила его в стопку старых кастрюль — на время, пока я не проведу опыт. Он чистый, я всегда за этим следила, чтоб ни капли запаха из-под кровати не просачивалось, да и дополнительно в тот раз кипятком обдала.
Крышку пришлось снять, а то в середину стопки не спрячешь. Но и под кроватью её оставлять было нельзя — если родители заглянут и увидят, то поинтересуются, где же сам горшок? А на нет, как говорится, и суда нет. Не стояло тут ничего, видите — пусто.
Я убрала крышку под матрас. Как она очутилась у меня под одеялом — понятия не имею. Скорее всего, спросонья, как принцесса на горошине, почуяла твёрдое, подсунула руку и убрала, куда попало. Шла рука под одеяло — под одеяло и предмет попал. Даже полусонной понимала, что бросать не стоит — шум, грохот, родители бегут встревоженные…
Вообще-то, предмет под одеялом — дело для меня обычное. Сызмальства спала с куклами, с плюшевым мишкой в обнимку, были ещё такие маленькие продолговатые подушечки специально для скрашивания постельного одиночества. Ну, ещё конфетки, шоколадки, плюшки с дивным ванильным запахом… С возрастом всё это сходило на нет, но ещё оставалось. Вот мальчик, тот бы встревожился, почуяв под одеялом что-то твёрдое, постороннее, сразу бы вынул. А я… всё путём, лишь бы не давило, не мешало сильно. Да и в этом случае только отодвину.
Вот к чему это привело. К моменту тайного пробуждения подподушечным будильником пузырь у меня был «под завязку», уже и сны начинали вокруг пи-пи вертеться. У меня уже выработался почти что рефлекс — в таких случаях из-под одеяла сползать на пол и нащупывать горшок. Но, судя по тому, что не вспомнила, что там его не стоит, разоспалась знатно. И не вполне представляла, что, собственно, делаю.
Как потом восстановила, со стоном (это у меня привычка такая) перевернулась на спину, сделала попытку поднять голову, и тут же уронила её на подушку. Начала подгибать ноги, сгибать в коленях, и тут, видно, пятками зацепила крышку от горшка и подтащила её к ягодицам. А те голые, рубашка-то снизу открытая. И ягодицы почуяли прикосновение холодного металла…
Всё! Последний штрих к осознанию того, что сижу на горшке. Условный рефлекс сработал, сфинктер разжался, и из меня полилось.
Одновременно продолжился сон, в котором я писаю. Только что такое? В прежних снах легче от этого не становилось, а сейчас — очень даже. Как при писании наяву. Что это со мной? Уже и пятки, и ступни чуют тёплую мокроту, уже и в промежности потоп… правда, сон тут повернул в сторону, включил в себя эти вот ощущения, оправдал… но очень уж они всамделишные.
Я начала беспокоиться, выплывать из сна, вот-вот поняла бы, что это со мною происходит, но тут, как назло, писс вступил в свою последнюю стадию. Ту, которая даёт большое облегчение, растянутый пузырь, опустев, чуть-чуть ноет, но приятно, мышцы живота тоже рады расслабиться…
Тут как раз подгадал глубокий вздох. Я с большим облегчением выдохнула, бёдра расслабились, коленки распрямились, ноги легли на простыню, даже с намёком на потягивание. Тепло… Боже, как хорошо-то!
И я погрузилась в глубокий сон. Вот так!
Наутро, конечно, наступило жестокое похмелье. Я даже не осознала, что выспалась лучше всего за последний год. Все помыслы — позор и как его скрыть. Сколько я натерпелась! Не передать. И подивилась ёмкости пузыря: не всё постель впитала, лужица и на полу оказалась. Вот как лилось!
С тех пор опыты я прекратила. Горшок вернулся на место. А спать стала в штанишках, типа шортиков, чтобы к ягодицам уже гарантированно ничего не могло холодного прикоснуться. Да и труднее дать команду «открыть кингстоны», если у тебя вся промежность чует сухую материю.
Вот что случилось со мной, с почти уже взрослой. Со сном я уже не шутила больше. А вот с пузырём… Сколько выдержу? В часах, в литрах. Теперь, обладая свободой подростка, я могла начать это выяснять.
Но это уже совсем другая история.




