История создания
Рассказ «Город» был напечатан в газете «Курьер», в №100 за 1902 г. В первой публикации у рассказа было посвящение родственнику Л.Андреева А.Алексеевскому, журналисту и экономисту.
Литературное направление и жанр
Леонид Андреев относится к писателям, которые умеют внушить читателю такое отвращение к жизни и человечеству, что становится тошно. Достигает он этого, балансируя на грани близких (реализм и натурализм) или, наоборот, противоречащих друг другу в определённых установках направлений (реализм и декаданс, реализм и символизм). В рассказе присутствуют все признаки декаданса: пессимизм, безнадёжность, отсутствие перспективы и будущего. Не лишён он и символизма. Огромный город, в котором живут герои, напоминает одновременно Москву и Петербург и по праву может называться главным героем рассказа.
Герои рассказа и сюжет
Кроме города, героя явно отрицательного, в рассказе есть ещё 2 героя: чиновник коммерческого банка Петров и безымянный другой (или тот, как его называет Петров), с которым Петров встречается 8 раз в жизни (мифологическое число полноты, совокупности возможностей, нового начала, равновесия). Неизвестно, вкладывал ли Андреев в число встреч сакральный смысл, но кладбищ в городе тоже оказалось 8.
Петров – родной брат пушкинского Евгения из «Медного всадника». Это маленький человек, чиновник с самой заурядной внешностью: «Низенького роста, немного сутулый, так что многие принимали его за горбатого, и глаза у него были большие и чёрные с желтоватыми белками». Васильевы, к которым Петров ходил на Пасху, забывали его имя и называли его просто «горбатеньким». Горбатость – тоже символ. Петров – человек, который расплющен тяжестью города. Это своеобразный антипод Петра 1, высокого творца Города. Петров – порождение и собственность Петра, и одновременно часть его, как Петров сын. И в пользу родства с Петром говорит сутулость Петрова.
В шестистраничном рассказе описана многолетняя жизнь Петрова на фоне огромного города. Из этой жизни автор рассказа выбирает только один день года и один момент этого дня: встречу (или невстречу) с безымянным другим на Пасху у господ Василевских. Отношения двух героев, ничего не знающих друг о друге, как ни странно, развиваются. Первые 2-3 раза Петров не замечал другого, четвёртый раз лицо другого показалось знакомым. На пятый год они чокнулись за здоровье. В шестую встречу они вместе выходили от Василевских и дали швейцару по полтиннику.
Между шестой и седьмой встречей Андреев излагает свою антиурбанистическую концепцию «огромного равнодушного города», где «дома идут грозной вереницей», и во всех домах живут «незнакомые чужие люди».
В седьмую встречу Петров рассказал другому о своих болезнях. В восьмую встречу уже оба говорили о болезнях, «и каждый говорил о своих».
Тема, проблематика и основная мысль рассказа
Тема рассказа «Город» — одиночество горожанина, который живёт рядом с такими же одинокими людьми: «И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого».
Проблема героев пришла в рассказ из творчества Чехова, влияния которого не отрицал Андреев. Это проблема разъединения людей, общающихся, но не понимающих и не слышащих друг друга. Каждый человек говорит о своём, а если и слушает рассказы собеседника, то забывает о чём-то существенном, болтая о пустяках. Так Петров всё время забывает спросить у собеседника его имя. Впрочем, имя Петрова, как и его место работы, и должность, остаётся неизвестным не только другому, но и господам Василевским, ведь «у них бывает много народу, и они не могут всех запомнить».
Рассказчик Андреева, как и рассказчик Чехова, видит эту проблему общества. Но, в отличие от чеховских героев, Петров осознаёт своё одиночество в толпе и остро чувствует его. Он сравнивает горожан с песчинками, среди которых нельзя найти конкретную песчинку.
Петрова пугают люди и пугает одиночество. Так развивается его болезнь, которую сегодня, наверное, назвали бы депрессией. Панические атаки маленького человека проявляются у Петрова в том, что он боится города, в котором живёт, особенно днем, «когда улицы полны народа». Поэтому Петров гулял по ночам, поэтому в одно лето он запил и так же внезапно бросил.
Как это часто бывает при психических заболеваниях, Петрову свойственна амбивалентность, двойственное отношение к людям. Жители города кажутся ему чужими, всех прохожих он видит впервые в жизни и не увидит больше никогда. Одновременно в пьяном угаре он чувствует родство с ними: «Все мы люди! Все братья!» Петрова мучает невозможность познакомиться с каждым встречным и узнать его: «Каждый проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем, — и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал».
Очевидно, Петров боится сам затеряться среди других людей. Он представляет себе город как дома, в которых постоянно рождаются и умирают люди, и рождаются только для того, чтобы умереть. Для избавления от страха Петров начинает вспоминать знакомых людей, но может вспомнить только 250 человек, да и то не всех по имени. Символическая проблема узнавания становится центральной в рассказе. Можно ли считать знакомым человека, имени которого ты не знаешь? Безымянны все герои рассказа, включая огромный Город. Такими и умирают Петровский и тот, другой. Намёк на их смерть дан в развязке рассказа, ведь после описания нескольких невстреч героев автор переходит к сообщению о появившемся в городе восьмом кладбище. Очевидно, там и обрёл покой ищущий тишины Петровский.
Идеей рассказа становится антиурбанистическая идея, которая на рубеже веков витала в воздухе и была чрезвычайно популярна в литературе: город убивает не только душу человека, уничтожает самого человека, но и человеческое общество.
Художественное своеобразие
Центральное место в рассказе занимает чудовищный образ города: «Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое». Образ каменных раздутых домов, давящих на землю, появляется в рассказе дважды – в начале и в конце, где тяжесть домов противопоставлена пустоте нового кладбища. Дома города «узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале». Улицы клубятся, как змеи,перерезают друг друга. Дома испуганно разбегаются, краснеют холодной и жидкой кровью свежего кирпича. Все дома «теряли физиономию и делались похожи один на другой». Город движется и шумит. Он огромен и равнодушен. Он состоит из людей, но не дорожит ими. В этом мрачное пророчество писателя.
-
«Иуда Искариот», краткое содержание по главам повести Андреева
-
«Кусака», анализ рассказа Андреева
-
«Иуда Искариот», анализ повести Андреева
-
«Ангелочек», анализ рассказа Андреева
-
«Петька на даче», анализ рассказа Андреева
-
«Бездна», анализ рассказа Андреева
-
«Друг», анализ рассказа Андреева
По писателю: Андреев Леонид Николаевич
В. И. Тюпа. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. С.13-32.
До прихода в русскую литературу А. П. Чехова представлялось несомненным, что малая эпическая форма является «осколком» большой (романной) формы: «глава, вырванная из романа», как сказал В. Г. Белинский о повести. Таковыми по преимуществу и создавались рассказы и повести крупнейших русских романистов — И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского — в полном соответствии с классическим рассуждением Белинского: «Есть события, есть случаи, которых, так сказать… не стало бы на роман, но которые глубоки… Повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки»1. Иначе говоря, различия между романом и рассказом (именовавшимся во времена Белинского «повестью») мыслились не качественными, а количественными.
Между тем зрелый чеховский рассказ на фоне складывавшихся десятилетиями норм соотносительности большой и малой романных форм выделился своим качественным своеобразием. Общеизвестны слова Л. Н. Толстого: «Чехов создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы писания… Чехова, как художника, нельзя уже сравнивать с прежними русскими писателями — с Тургеневым, с Достоевским или со мною»2. Новаторство такого масштаба («для всего мира») не укладывается в рамки стиля, мера для него — жанр.
Подлинное новаторство, как убеждает нас в том историческая поэтика, никогда не бывает простым отрицанием привычного, устоявшегося; оно всегда предполагает глубокую укорененность в многовековых пластах культурных, в частности жанровых, традиций и содержит в себе момент воскрешения и обновления исторически продуктивных способов организации художественного целого.
Речь в данном случае об исторически «прямолинейной» связи с новеллистическими традициями идти не может. «Рассказы Чехова,— писал Б. М. Эйхенбаум,— совсем не похожи на то, что принято называть новеллами… Вместо сюжета Чехову достаточно было просто положения, характеризующего нравы или человека»3.
Смысл этого наблюдения заключается, по нашему мнению, в следующем. Чеховский рассказ периода творческой зрелости уходит своими корнями в культурно-историческую память традиций анекдота и притчи. Это долитературные по своему происхождению формы малого эпоса, возникшие и эволюционировавшие долгое время в стороне от основного русла становления романной формы, во многих отношениях диаметрально противоположны. Однако и тот и другой жанр высказывания состоит в развертывании «положения, характеризующего нравы или человека».
Анекдот в творчестве Чехова представлен широко. К ряду рассказов, «написанных в форме притчи», Г. А. Бялый относит «Без заглавия», «Сапожник и нечистая сила», «Пари», «Рассказ старшего садовника»4; И. Н. Сухих выявляет притчевость образной системы «Черного монаха» (15, 107). Однако новаторство гениального рассказчика состояло прежде всего во взаимопроникновении и взаимопреображении анекдотического и притчевого начал — двух, казалось бы, взаимоисключающих путей осмысления действительности5.
Впрочем, у Чехова был могучий предшественник в лице автора «Повестей Белкина», впервые в русской литературе осуществившего продуктивную контаминацию анекдота и притчи. Жанровое родство чеховской и пушкинской прозы представляется неоспоримым и общепризнанным. Но здесь имеется и существенное различие: чеховская «построманная» (в противовес пушкинской «дороманной») контаминация конструктивных принципов анекдота и притчи несла в себе момент преодоления художественной инерции классического романа. В связи с этим рассмотрение повестей и рассказов Чехова в качестве «маленьких романов» представляется существенно неадекватным их действительной художественной природе.
Ранние рассказы писателя, подписывавшиеся псевдонимами, принадлежали по преимуществу к жанру литературного анекдота, не исключая и таких невеселых творений Антоши Чехонте, как, например, «Тоска» (1886). В двух первых публикациях этого рассказа повествователь шутил: «Одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошке, у которой болят зубы, и ей станет легче». И хотя в последующих переизданиях Чехов снял эти слова, ослабляя субъективность своей ранней манеры, их органичность общему анекдотическому строю произведения (разговор извозчика с «братом кобылочкой») несомненна.
«Тоска», «Хористка» (1886), «Ванька» (1886), «Скорая помощь» (1887) и сходные с ними ранние чеховские рассказы, будучи подступами к качественно новой модификации малой эпической формы, представляют собой интереснейшее литературное явление «слезного анекдота» — по аналогии со «слезной комедией» XVIII в. Аналогия не представляется нам поверхностной, поскольку в творческих исканиях Чехова находит свое проявление нарастающая к концу XIX столетия активизация процессов жанрообразования, подобная той, какую литература европейских стран переживала на исходе XVIII в. Интенсификация жанрообразования в русской литературе была вызвана как общественно-историческими причинами (глубокое социальное преобразование основ национальной жизни), так и грандиозной по своим результатам завершенностью становления русского классического романа в творениях Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
Принципиальная роль анекдота в творческом мышлении Чехова общеизвестна. Дополнительных аргументов, быть может, требует отсылка к притчевому духовному опыту. Впрочем, достаточно, вероятно, вспомнить о месте притчи в миропонимании и творчестве позднего Толстого, оказавшего значительное влияние на молодого писателя.
«Чересчур толстовитый», по выражению И. П. Чехова, брата писателя, рассказ «Казак» (1887) был исключен автором из прижизненного собрания сочинений. Наиболее вероятная причина этого — усмотрение подражательности в тексте, столь явно следовавшем толстовской манере притчевого мышления.
Как известно, 1887—1888 гг. стали периодом перелома от раннего писательства Антоши Чехонте к зрелому авторству А. П. Чехова. И не случайно именно в это напряженное двухлетие творческого самоопределения писатель обращается к форме притчи. Характерно, что «Сапожника и нечистую силу» Н. А. Лейкин воспринял как произведение «не в чеховском духе, а в толстовском» (Т. 7. С. 665); «Без заглавия» и «Пари», по свидетельству А. Б. Гольденвейзера, привлекли сочувственное внимание Л. Н. Толстого6. Авторское определение жанра этих текстов («сказки») в свою очередь сближает их с народнической и щедринской сказкой-притчей 1870—1888 гг.
Обратим, однако, внимание на отзвуки анекдотического художественного мышления в этих чеховских притчах. Финал сказки «Без заглавия» отчетливо анекдотичен и побуждает вспомнить жизнелюбивых монахов Боккаччо. Рассказ же о сапожнике является не чем иным, как литературным анекдотом в духе и традиции пушкинского «Гробовщика», перерастающим незаметно в притчу о том, что «в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души».
Жанру таких рассказов 1887 г., как «Шампанское» или «Лев и солнце», можно было бы дать определение — анекдотическая притча; «Удав и кролик» — притчевый анекдот. «Неприятная история», начинающаяся как непритязательный анекдот, вдруг завершается притчеобразным микроэпилогом, где герой рассказа, глядя на грязную дорогу, «стал думать о том, что нравственно и что безнравственно, о чистом и нечистом».
Для постижения жанровых истоков чеховской прозы зрелого периода наиболее существенным, пожалуй, оказывается столкновение и взаимоналожение анекдотического и параболического (притчевого) видения жизни в «серьезных» рассказах 1887—1888 гг. Например, герой явственно «переломного», как показывает В. Я. Линков, произведения «Огни» (1888) Ананьев рассказывает историю своей встречи с Кисочкой как притчу («это не случай», по его словам, а «урок»), полемически соотнесенную с соломоновской «суетой сует». Студентом фон Штенбергом она же интерпретируется как пошлый анекдот. Врач Овчинников из рассказа «Неприятность» (1888) видит себя то героем анекдота (мужики около сарая «о чем-то разговаривали и смеялись. „Это они о том, что я фельдшера ударил..” — думал доктор»), то героем притчи («глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепьяно, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его»). В финале рассказа председатель управы, произнося резюмирующее библейское «блажени миротворци», притязает на участие в разыгранном жизнью притчевом сюжете; доктор же в ответ восклицает, что нельзя «относиться к жизни» столь «водевильно» (водевиль — сценическая форма анекдота).
Жанровая совместимость анекдота и притчи объясняется тем, что при всей, казалось бы, диаметральной противоположности миросозерцательных установок их многое сближает7, прежде всего коренная установка на устное бытование: греческое слово «анекдотос» переводится как «неопубликованный»; притча же первоначально носила характер изустного «учительства», адаптировавшего истины канонической мудрости. Это жанры-спутники фундаментальных текстов культуры: сакрального предания, если говорить о притче8, и политической историографии, если говорить об анекдоте9. Полноту смысла произведения этих жанров обретали лишь в определенном культурном контексте и предполагали достаточно активизированную позицию слушателя: рассказчик притчи или анекдота по необходимости опирался на некоторую предварительную осведомленность и соответствующую позицию адресата, на его предуготованность к адекватному реагированию.
Этот жанровый импульс отозвался в чеховском повествовании чрезвычайно важным свойством стимулирования активности читательского восприятия. Функция последнего «неизмеримо усилилась… активизировалась роль читателя в решении поставленных писателем вопросов». Ни у кого до Чехова, по мнению Б. М. Мейлаха, «не стоял так остро вопрос о способах, благодаря которым можно было бы включить мысли и воображения читателя в самую суть проблемной ситуации»10.
Если героический эпос, волшебная сказка, роман характеризуются центробежными тенденциями «развертывания», кумулятивного присоединения дополняющих и расширяющих картину мира эпизодов, фрагментов, персонажей, характеристик, описаний, то в новелле или апологе (литературный сказ назидательного содержания), напротив, господствует центростремительная тенденция к «свертыванию» сюжета, «сгущению» высказывания11. В еще большей мере эта, вторая тенденция присуща анекдоту и притче — долитературным предшественникам новеллы и аполога. В пределе анекдот «конденсируется» в остроту, а притча — в паремию, пословично-афористическую сентенцию. Центростремительность стратегии жанрового мышления порождает такие общие черты анекдота и притчи, как неразвернутость или фрагментарность сюжета, сжатость характеристик и описаний, неразработанность характеров, акцентированная роль «укрупненных» деталей, строгая простота композиции, лаконизм и точность словесного выражения и т. п.
Легко заметить, что этот перечень составляют наиболее очевидные особенности поэтики чеховского рассказа. Сюда же следует причислить ключевую композиционную роль микродиалога, редуцируемого порой – как в анекдоте или притче, так и у Чехова – до единичной реплики одного из участников. И даже установка названных жанров на устное бытование имеет к произведениям Чехова самое непосредственное отношение, хотя, быть может, и менее очевидное.
Поэтика рассказа, принадлежащего перу опытного романиста, часто несет на себе печать бессознательной установки на чтение «про себя», на зрительное восприятие текста. Чеховская же поэтика в немалой степени обусловлена внутренней установкой повествователя на произнесение текста вслух, что свойственно поэзии в гораздо большей степени, чем прозе12.
Этим своеобразием чеховской художественности порождается довольно распространенное противоречие в суждениях, не учитывающих принципиальную внероманность прозы Чехова: творениям писателя порой приписывают одновременно и акцентированную «объективность» и акцентированный «лиризм». В действительности же речь, скорее, следует вести об «иллюзии чеховского объективизма» (17, 53), как, впрочем, и об иллюзии его «лиризма». Первая объясняется жанровой отстраненностью автора от героя (дидактической в притче, насмешливой в анекдоте), вторая иллюзия — жанровой установкой на устно-доверительное общение с читателем. Далеко не случайно представляется пристрастие Чехова к композиционной форме «рассказа в рассказе» (см.: 3, 105), противоположной по своему художественному заданию форме «романа в романе»: первая повышает роль устного «голоса», тогда как вторая — письменного «слога».
На фоне отмеченных черт общности анекдота и притчи еще резче выступают их принципиальные различия.
Слово притчи — авторитарное, назидательное, рассудительн oe . O но внутренне безошибочно в своей императивности и монологично. Несмотря на дидактическую направленность, это медитативное, «замкнутое» слово, обходящееся и без собеседника: притчу можно «рассказать» и себе самому, т. е. привлечь заключенную в ней мудрость для осмысления собственного личного опыта. Сказанному не противоречит отмечаемая С. С. Аверинцевым особенность: притча «часто перебивается обращенным к слушателю или читателю вопросом». Здесь «речь идет о подыскании ответа к заданной задаче»13, а не диалогическом выявлении самостоятельной позиции собеседника. Такого рода вопросы человек нередко задает себе сам.
Чеховская манера перебивать повествование вопросами объясняется, на наш взгляд, отмеченной жанровой особенностью притчевой традиции.
Слово анекдота — инициативное, но одновременно и легковесное, «неосновательное слово» (выражение из чеховского рассказа «В сарае»), курьезное своей окказиональностью, беспрецедентностью (неологизм, например). Оно в такой же мере плод остроумия, в какой и речевой ошибки, оговорки, описки, недоразумения. Анекдотическое слово принципиально «разомкнуто», диалогично, без слушателя его нет: анекдот невозможно рассказать самому себе.
Привлекая внимание блеском остроумия или, напротив, нелепостью, неуместностью, анекдотическое слово принимает непосредственное участие в движении сюжета, само может стать организатором эпизода, его эпицентром, «солью» анекдота. Оно сюжетно, тогда как слово притчи, стремящееся к простоте и смысловой прозрачности, ограничивающее себя посреднической функцией между цепью событий и осмысливающим ее сознанием, фабульно.
Столь полярная противоположность речевого строя притчи и анекдота позволяет Чехову извлекать из их соседства эффект конфликтной взаимодополнительности.
Анекдотическое слово, доминировавшее в рассказах Антоши Чехонте, не покидает и зрелую чеховскую прозу. Так, сообщая о том, что Гуров получил от швейцара сведения о муже Анны Сергеевны по фамилии фон Дидериц, повествователь «Дамы с собачкой» (1899) не преминет отметить: «Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц». (Напомним, кстати, что молодой Чехов нередко обращался к анекдотической фигуре мужа-немца.) На другом жанровом полюсе «Дамы с собачкой» — медитация от первого лица множественного числа, предваряющая пришедшие к Гурову в Ореанде мысли о «высших целях бытия». Это столь неожиданное в чеховском рассказе «мы» («о покое, о вечном сне, какой ожидает нас» и т. д.) — притчевой природы. Если в анекдоте речь всегда ведется о других, то притча говорит прежде всего о нашей жизни.
В то же время чистоте авторитарного тона медитации о «залоге нашего вечного спасения» препятствует характерное для Чехова «быть может», срывающее самую кульминацию рассуждения (подробнее об этом см. в гл. 2). Чеховские «быть может» или «казалось» принадлежат области оговорочного, скептического и в этом смысле анекдотического слова, никогда не претендующего на то, чтобы ему верили вполне.
Жанровое своеобразие зрелого чеховского рассказа в том и состоит, что он не знает ни анекдота, ни притчи в чистом виде. То и другое жанровое мышление в результате взаимопроникновения и взаимокорректировки преображаются, давая новое качество, новую литературность: анекдот преодолевает догматизм притчи, притча преодолевает легковесность анекдота. Так и рождаются произведения, подобные притчевому анекдоту «Человек в футляре» (1898) или анекдотической притче «Студент» (1894).
Вслушаемся в столь узнаваемо «чеховское» столкновение реплик:
« —Вы святые? — спросила Липа у старика.
— Нет. Мы из Фирсанова».
Этот поразительный микродиалог из повести «В овраге» (1900) — яркая иллюстрация к сказанному. В анекдотическом ответе на вопрос, словно позаимствованный из патерика, неоспоримо присутствует чарующая глубина иносказания: святость не сверхчеловечна, не торжественна, она буднично скитается по грешной земле, неотделима от обыкновенной человеческой жизни. Перед нами уложившаяся в две реплики притча-анекдот о человечности того, что свято.
Характерология чеховской прозы, где повествователь «рисует всегда только контурами… давая не всего человека, не все положение, а только существенные их очертания… не столько портреты, сколько силуэты»14, также в значительной степени восходит к истокам интересующих нас жанров. И тому и другому в равной мере присуща психологическая и событийная неразвернутость характеров персонажей, лаконизм «контурной», «силуэтной» их характеристики, доведенный Чеховым до совершенства в предысториях его героев, сообщаемых обычно как бы попутно, между прочим.
Если анекдот редуцирует характер до шаржа, то притча принадлежит к культурной традиции, не знавшей мышления характерами. Так, в древнерусской книжности «до XVII в. проблема „характера” вообще не стояла… Литература Древней Руси была внимательна к отдельным психологическим состояниям… Жития, хронограф, религиозно-дидактическая литература описывали душевные переломы», а не характеры отдельных людей15. Отметим попутно, что сюжет «душевного перелома» — ключевой для зрелой прозы Чехова, где, как правило, «прозрение героя выступает как основное, сюжетообразующее событие» (17, 61).
Развивая взгляды Д. С. Лихачева на принципы литературного изображения человека в средневековой книжности, С. С. Аверинцев замечает: «Христианский писатель средних веков хотел внушить своему христианскому читателю самое непосредственное ощущение личной сопричастности к мировому добру и личной совиновности в мировом зле… Такой „сверхзадаче” объективно созерцательная „психология характера” явно не соответствует»16. Актуальность для Чехова аналогичной, хотя и внерелигиозной «сверхзадачи»: «активизировать мысль человека, внушить ему интеллектуальную тревогу за необходимость решения вопроса жизни» (11, 34) — явилась, как нам представляется, решающим импульсом возрождения в его рассказах жанровой стратегии притчевого мышления.
Не будем забывать, что в укладе жизни родительского дома Чехов еще застал культурную традицию сакрально-дидактического слова живой и действенной17. Неприятие ее догматизма поначалу направляет литературные искания начинающего писателя по пути анекдота и пародии. Однако в зрелом его творчестве происходит плодотворное сближение — взаимодополняющее, взаимокорректирующее — столь несовместимых, казалось бы, жанров.
Герой анекдота и герой притчи диаметрально противоположны по своей природе. «Действующие лица притчи, — по характеристике С. С. Аверинцева, — как правило, не имеют не только внешних черт, но и „характера” в смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают перед нами не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора»18. Герой же анекдота, напротив, есть именно объект эстетического (смехового) наблюдения ; не будучи наделен разработанным характером, он обычно выступает носителем немногочисленных, но акцентированных, шаржированных характеристических черт внешности, манеры мышления или поведения.
Притча стремится достичь максимального совмещения нравственного опыта героя и читателя (слушателя), ее убедительность зиждется на сопереживании. Анекдотом же культивируется эффект отчуждения, остраннения персонажа в его индивидуальной курьезности. Взаимодействие этих жанровых установок — ключ к изображению человека в чеховской прозе. «Все зависит, вероятно, — от индивидуализации субъекта в данное время», — говорит герой «Рассказа без конца» (1886), а через год он уже рассуждает, каково живется на свете «нашему брату человеку». Проницательность же авторского видения жизни снимает его противоречие между обособленным в своей единичности человеком и человеком вообще.
По выражению В. Б. Катаева, «чеховский индивидуализирующий метод (который не следует путать с задачей создания характеров — „ярких индивидуальностей”) вел к обобщениям большой важности» (8, 139; курсив мой. — В. Т.). Эта парадоксальная мысль верна именно благодаря принципиально существенному для Чехова сотрудничеству анекдота и притчи: первый индивидуализирует своих персонажей, сводя каждого к жизненному казусу, тогда как вторая возводит способы существования своих героев к универсалиям человеческого бытия19.
Притчевое и анекдотическое у Чехова друг друга взаимодополняют, взаимопреломляют в изображении одних и тех же персонажей. Это особый путь реалистической типизации, пролагаемый в обход классической традиции русского романа и уводящий в XX век. Жанровая форма контаминации анекдота с притчей была органично усвоена, например, И. А. Буниным. Это, пожалуй, единственное, что столь очевидно сближает творческое наследие этих художников, не совместимых по строю художественного миросозерцания, по концепции личности.
Остановимся подробнее на рассказе «Поцелуй» «переходного» 1887 года, поразительно напоминающем своей художественной ситуацией и сюжетно-композиционным ее решением бунинскую прозу. Произведению этому принадлежит заметная роль в творческом самоопределении молодого автора: Чехов настаивал на том, чтобы именно этим текстом завершался его сборник «Рассказы» (1888).
Рецензент К. Медведский (Говоров) проявил известную проницательность, упрекнув автора «Поцелуя» в привнесении инородного психологического элемента в «анекдотическое» произведение вместо того, чтобы «ограничиться передачей самого анекдота» (Т. 6. С. 698). Ошибка критика заключалась «только» в том, что он не разглядел здесь художественного открытия, без которого Антоша Чехонте не смог бы стать тем Чеховым, какого мы знаем.
Поначалу все внимание рассказчика отдано необычному, курьезному. Подробно описана повадка «странной лошади» верхового, приглашающего офицеров на чай к генералу. Мы узнаем о казусном чаепитии у «прошлогоднего графа». Обсуждается необычная фамилия пригласившего: фон Раббек. Впоследствии она анекдотически искажается: Граббек, Лаббек и даже Фон-трябкин. Читатель узнает, что поручику Лобытко «было более двадцати пяти лет, но на его круглом, сытом лице почему-то еще не показывалась растительность» (портрет-казус) и что в бригаде поручика зовут «сеттером» (впоследствии эта кличка анекдотически обыгрывается). Становится известным, что генеральша была «стройной старухой с длинным чернобровым лицом, очень похожей на императрицу Евгению». В столовой наше внимание обращено на картавого молодого человека с рыжими бачками. Причем все эти более или менее курьезные подробности — вопреки традиционным представлениям — не выполняют никакой характеристической функции.
Только на четвертой странице рассказа мы знакомимся с его главным героем. Но понимаем это не сразу, поскольку штабс-капитан Рябович подан как еще одна фигура общего анекдотического ряда: «…маленький, сутуловатый офицер, в очках и с бакенами, как у рыси». Светское многолюдье и обстановка столовой производят на него «громадное впечатление», рождающее страусиное желание «спрятать свою голову». Повествователь задерживает наше внимание на этом несуразном человечке, как кажется, только потому, что именно Рябович становится героем анекдота: в темной комнате, прошептав «наконец-то!», его целует обознавшаяся женщина; при этом Рябович едва не вскрикивает от неожиданности и удирает.
Постепенно складывающаяся из курьезных частностей анекдотическая картина мира сгущается в соответствующую ей фигуру героя. Но ключевой художественный эффект произведения не в этом, а в жанровом преображении центрального персонажа. Герой анекдота превращается в героя притчи — так можно было бы определить внутреннюю эволюцию рассказа.
Впрочем, Рябович с самого начала есть нечто большее, чем герой анекдота, поскольку ясно осознает свою карикатурность: «…сознание, что он робок, сутуловат и бесцветен, что у него длинная талия и рысьи бакены, глубоко оскорбляло его, но с летами это сознание стало привычным…» Да и о приключении своем он мыслит («в его жизни свершилось что-то необыкновенное, глупое») и рассказывает как об анекдоте, «стараясь придать своему голосу равнодушный и насмешливый тон».
Между тем случайный поцелуй оказывается импульсом душевного пробуждения, напряженной внутренней жизни, в результате которой Рябович приходит к элементарному, казалось бы, но чрезвычайно важному для него выводу: «Я такой же, как и все». Самоопределяясь в качестве притчевого «обыкновенного человека», субъекта «обыкновенной жизни» (истинный герой притчи всегда есть «человек некий», личность вообще), штабс-капитан, преодолевая казусную картину существования, выходит к универсалиям бытия: «На широком черном фоне, который видит каждый человек , закрывая глаза», Рябович теперь «видел себя с другою, совсем незнакомою девушкой с очень неопределенными чертами лица; мысленно он говорил, ласкал, склонялся к плечу, представлял себе войну и разлуку, потом встречу, ужин с женой, детей…».
Очень существенно для чеховского рассказа, что подлинная грань межу анекдотическим и серьезным все отчетливее пролегает в сфере сознания, видения жизни. Вот, например, ездовой «с неуклюжей, очень смешной деревяшкой на правой ноге; Рябович знает назначение этой деревяшки, и она не кажется ему смешною». Курьезно-казусное легко занимает место в ряду фундаментальных феноменов личного опыта: «…в бессонные ночи, когда ему приходила охота вспоминать детство, отца, мать, вообще родное и близкое, он непременно вспоминал и Местечки, странную лошадь, Раббека, его жену, похожую на императрицу Евгению, темную комнату, яркую щель в двери…»
Поэтому, когда в финале рассказа разочарованный герой возвращается, к горестно-анекдотическому мировосприятию («и весь мир, вся жизнь показались Рябовичу непонятной, бесцельной шуткой …»), этот взгляд уже не может претендовать на итоговость. Ведь все дело в выборе точки зрения, в самоопределении личности.
Рябович сочиняет для себя унылую притчу о бесцельности, безрезультатности круговорота воды в природе: перед его глазами в море стремится та же самая вода, что стремилась в него и в мае. И он себе кажется таким же, каким был до случайного поцелуя и до возбужденных им мечтаний и раздумий. Но в этом он ошибается (тем самым доказывая «от противного» смысловую результативность жизни): объект насмешливого наблюдения (и самонаблюдения) в заключительной фразе рассказа, не принимая «назло своей судьбе» долгожданного приглашения, впервые предстает субъектом выбора. Так завершается преображение анекдотического персонажа в героя притчи.
Правда, сам Рябович при этом мыслит себя героем нескончаемого несмешного, «глупого» анекдота, становящегося его «судьбой». Однозначности здесь нет и быть не должно: личное существование, по Чехову, не сводимо ни к единичности анекдотического отклонения от нормы, ни к безликой парадигме бытия «как все».
Живая незавершенность личности, преодолеваемость инерции жизни силой самоопределения — этот художественный итог не имеет ничего общего с пессимизмом, приписывавшимся рассказу «Поцелуй» такими, например, критиками, как В. Альбов (см.: Т. 6. С. 698), не умевшими за героем произведения разглядеть подлинную позицию его автора. Неожиданная, опережавшая литературные вкусы своего времени глубина и сложность художественного построения обусловлена здесь прежде всего сопряжением анекдотического и притчевого начал.
Впрочем, равновесие этих противоположных начал у Чехова не застывшее, а динамическое: по отношению к одним героям обычно доминирует анекдотичность авторского видения, по отношению к другим — притчевая «архетипичность».
Героев большинства чеховских рассказов разделить на положительных и отрицательных практически невозможно. Но они достаточно четко разграничиваются на тех, кто показан читателю только извне, и на тех, кто открывается изнутри в качестве субъектов переживания и самоопределения. Изображение первых, по наблюдениям В. Б. Катаева, «состоит в очерчивании героя через лейтмотив: характерную для него фразу, привычку, жест, действие»; вторых — «в наделении героев постоянно текучей, индивидуализирующейся в каждый новый момент, при новых обстоятельствах психической жизнью, не сводимой к общим характеристикам» (8, 304).
Если персонажи окружения бывают наделены характеристическими чертами, порой резкими до анекдотической карикатурности (Шелестовы в «Учителе словесности», 1889, или Туркины в «Ионыче», 1989), то о внешности центральных героев мы, как правило, почти ничего не знаем. Так, о седине Гурова мы узнаем лишь в тот момент, когда он случайно видит себя в зеркале. Портрет Старцева появляется в коротенькой заключительной главе «Ионыча». И это неслучайно: деградация личности центрального героя словно переводит его в разряд персонажей фона; в концовке рассказа, отданной Туркиным, он уже не упоминается.
В противовес дочеховскому, классическому строю типизации характер действующего лица у Чехова (подробнее об этом см. в гл. 2) выполняет преимущественно «служебную функцию обоснования переживаний и мыслей героя, которые обращены к читателю. Читатель… должен обратиться к себе и своей собственной жизни» вместо того, чтобы воспринимать Гурова, например, «как объективно существующего другого человека» (11, 99). Не вызывает сомнений родство подобной авторской позиции с рассказыванием притчи, где центральный персонаж — открытый сопереживанию «некий человек» без характеристической определенности портрета, речи, манеры поведения. И в то же время чеховский герой немыслим без, казалось бы, совершенно необязательных сведений полуанекдотического характера, без сообщений о том, например, что Гуров боится жены, у которой темные брови и которая не пишет в письмах «ъ», что он один съедает целую порцию селянки на сковородке и т. п.
Нет ничего удивительного в том, что одни читатели приписывали Чехову безжалостную, отчуждающе-насмешливую наблюдательность, а другие — «лиризм» сострадания к своим персонажам, психологическую солидаризацию с ними. Виною этому новаторский симбиоз анекдота и притчи, непостижимый, как оказалось поначалу, для читателя, воспитанного на классических романах XIX в. и догматически абсолютизирующего их норму художественности.
Эта жанровая контаминация в значительной степени обусловила своеобразие пространственно-временной и смысловой картины мира, создаваемой Чеховым-рассказчиком.
Анекдот предлагает фрагментарную и сиюминутную (преходящую), окказиональную в своей авантюрной разомкнутости, картину мира, где всесилен случай. Притча же творит картину мира внутренне единую и замкнутую, вневременную, телеологическую в своем универсализме; в ней владычествует закономерность судьбы. Ни то, ни другое не приложимо к рассказу Чехова по отдельности. Тут верно и то и другое в их живой переплетенности.
Двумя несовместимыми картинами мира неуловимо мерцает, например, «Счастье» (1887). Это одно из любимых произведений Чехова, несущее в своем духе и тоне как бы зародыш повести «Степь», которая будет написана в следующем, 1888 году. По настоянию автора «Счастьем» открывался сборник «Рассказы», завершавшийся «Поцелуем».
Само слово «счастье», особенно в словосочетании «земное счастье», принадлежит здесь одновременно двум системам ценностей, двум контекстам. В одной системе им обозначается клад, зарытое в землю богатство, вожделенное авантюрное везение; в другой — общечеловеческая духовная ценность жизни на земле.
Один контекст — анекдотический. Во-первых, в исконном жанровом смысле, поскольку клад таит в себе «анекдот»: неофициальное происшествие из жизни исторического лица (императоров Петра или Александра, в частности), с именем которого связан клад; во-вторых, по своей тональности, по мироотношению кладоискателей. Старик, который «раз десять искал счастья» и задумывает новую попытку, не может ответить на вопрос, что станет делать с найденным кладом: «Я-то? — усмехнулся старик. — Гм!.. Только бы найти, а то… показал бы я всем кузькину мать… Гм!.. Знаю, что делать…» Выражение лица у него при этом «легкомысленное и безразличное».
Противоположный контекст — притчевый. Не случаен его пословичный речевой строй: «близок локоть, да не укусишь», «есть счастье, да нет ума искать его» и т. п. «Да, так и умрешь, не повидавши счастья, какое оно такое есть <…>. Кто помоложе, может, и дождется, а нам уж и думать пора бросить». Эти слова объездчик произносит как будто тоже о кладах, но иносказательная их перспектива несомненна: речь идет о каком-то ином счастье, которого «дожидаются», а не выкапывают из земли. При этом «строгое лицо его было грустно».
Разнородные контексты переплетены подобно сросшимся корням двух близкорастущих растений. Старик-пастух начинает излагать своим слушателям притчу про Ефима Жменю, который «душу свою сгубил», но быстро скатывается до анекдотов про свистящие арбузы, хохочущую щуку, про зайца, будто бы выбежавшего и сказавшего: «Здорово, мужики!» И наоборот, разглагольствуя о награбленном и упрятанном в землю золоте, он же поднимается до высоты иносказания: «А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа!»
Не углубляясь в анализ рассказа, ограничимся рассмотрением возникающей здесь художественной картины мира. Она удивительным образом расслаивается, как уже говорилось, на две: универсальную, параболическую, и — авантюрную, казусную. В центре каждой — один из пастухов. Не случайно в концовке рассказа о них сказано: «Они уже не замечали друг друга, и каждый из них жил своей собственной жизнью».
Даже позы, в которых читатель застает героев, можно сказать, символизируют диаметрально противоположные ориентации человека в пространстве мировой жизни. Старик-кладоискатель лежит на животе, его дрожащее лицо обращено к пыльному подорожнику, к той самой земле, где схоронены клады. Молодой пастух Санька лежит на спине и глядит в небо, «где над самым его лицом тянулся Млечный путь и дремали звезды».
Бодрствующий человек в центре мироздания: между спящими овцами и дремлющими звездами; он — связующее звено между животным «низом» и небесным «верхом». Вот мы читаем, что молодой пастух, «как будто бы мысли овец, длительные и тягучие, на мгновение сообщились и ему, в таком же непонятном, животном ужасе бросился в сторону». Но еще в предыдущем абзаце тот же Санька представал перед нами почти небожителем — субъектом надчеловеческих раздумий: «…интересовало его не самое счастье, которое было ему ненужно и непонятно, а фантастичность и сказочность человеческого счастья».
Именно ему приходит в голову соломоновский вопрос, который он не умеет сформулировать вслух: «… к чему сдалось земное счастье людям, которые каждый день могут умереть от старости?» Вопрос этот, как кажется, порождается самой пантеистической картиной мира, организующими центрами которой выступают «могильные курганы», в чьей «неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они всё еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми…».
В этих словах отчетливо дает о себе знать притчевое по своей всеобъемлемости и универсальности видение жизни.
Иной картины мира придерживаются старый пастух и объездчик. Ее организующими центрами оказываются «места, где клады есть»: «в крепости <…> под тремя камнями» или «где балка, как гусиная лапка, расходится на три балочки» и т. п. Эта картина мира фрагментарна и авантюрна. Здесь царят удача (либо неудача) и произвол: «Захочет нечистая сила, так и в камне свистеть начнет».
Вот как старик начинает свой рассказ про Ефима Жменю: «Я его годов шестьдесят знаю, с той поры, как царя Александра, что французов гнал, из Таганрога на подводах в Москву везли. Мы вместе ходили покойника царя встречать, а тогда большой шлях не на Бахмут шел, а с Есауловки на Городище, и там, где теперь Ковыли, дудачьи гнезда были — что ни шаг, то гнездо дудачье». Эти детали к рассказу о колдуне не имеют никакого отношения, но из них складывается мозаичная, незакономерная картина жизни, в которой меняется направление дорог, богаты событиями, но превратны человеческие судьбы: то французов гнал до Парижа, а то самого на подводах везут из Таганрога. В конечном счете в центре внимания оказываются маленькие, случайно находимые мальчишеские «клады» — гнезда дроф.
Эта динамичная, чреватая анекдотическими ситуациями картина мира полемически противостоит инертно закономерной, пантеистически притчевой: «Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничной степи — ни в чем не было видно смысла».
Какая же из двух картин мира авторская? На первый взгляд, предпочтение отдается притчевому началу, усиленному мастерскими описаниями природы, перед наивной фантастикой и авантюрностью кладоискательских анекдотов. Но притчевое мышление в то же время находит в рассказе пародийную параллель в образе мыслящих овец: «Их мысли, длительные, тягучие, вызываемые представлениями только о широкой степи и небе, о днях и ночах, вероятно, поражали и угнетали их самих до бесчувствия».
Своеобразным «мифологическим» центром притчевой картины мира выглядит «далекая, похожая на облако, Саур-Могила с остроконечной верхушкой». С этой вершины «видна равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, видны барские усадьбы, хутора немцев и молокан, деревни, а дальнозоркий калмык увидит даже город и поезда железных дорог». Всеобъемлющий взгляд с позиции возвышенного однообразия вечности на внешнее многообразие человеческой жизни — кульминация притчевого мировидения.
Но уже следующей фразой почти достигнутая кульминация срывается: «Только отсюда и видно, что на этом свете, кроме молчаливой степи и вековых курганов, есть другая жизнь, которой нет дела до зарытого счастья и овечьих мыслей». Притчевое мышление авторитарно, авантюрно-свободная идея «другой жизни» ему глубоко чужда.
Впрочем, чеховская «другая жизнь» в такой же мере чужда и анекдотическому контексту розысков «зарытого счастья». Авторская картина мира, вбирая в себя и ассимилируя духовную глубину притчи и духовную свободу анекдота, сообщает чеховскому рассказу принципиальное жанровое своеобразие20.
Окказиональность анекдотического мировосприятия с его установкой на усмотрение уникального, курьезного, случайного в любом жизнепроявлении здесь пронизана универсализмом притчевого мышления. Глубинная стратегия притчи приводит к «философской сублимации»21 случайного, анекдотически детализированного: к его смысловому очищению, иносказательной концентрации, к возведению в символ; к постановке в антидогматической форме анекдота кардинальных вопросов бытия и личностного самоопределения.
Обратимся в этой связи к одному из наиболее зрелых рассказов писателя «На святках». Маленький шедевр, опубликованный «Петербургской газетой» 1 января 1900 г. (из всего чеховского наследия не написанными к тому времени оставались «Архиерей», «Невеста» и две последние пьесы), не часто привлекает внимание чеховедов. Много ли, по пушкинскому выражению, «выжмешь» из этого невеселого анекдота?
Анекдотичность рассказа несомненна. В качестве рождественского поздравления старики-родители посылают любимой дочери малограмотный пересказ воинского устава. Да еще похваливают работу Егора, написавшего за них это нелепейшее письмо: «Ничего, гладко… дай бой здоровья. Ничего…» В следующей главе рассказа анекдотичен генерал, ежедневно расспрашивающий о назначении кабинетов водолечебницы, чтобы тотчас за быть об этом. Причем глава построена так, словно основное событие — не получение письма из деревни, а визит генерала.
Композиционный принцип рассказа глубоко традиционен — это анекдотический диалог-разноголосица, столкновение, реплик, принадлежащих очень разным голосам, встреча кругозоров, закрытых друг для друга:
«— Не гони! Небось не задаром пишешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.
— Есть. Стреляй дальше.
— А еще поздравляем с праздником рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господа… царя небесного».
Далее за авторским восклицанием (выражающим мысли молча плачущей Василисы) о длинных (и, конечно, холодных!) зимних ночах следует:
«— Жарко! — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно, градусов семьдесят будить».
Здесь сталкиваются не два, а три взаимно чуждых голоса (и кругозора). Ибо живой голос Василисы сменяется искусственным, нарочитым, «жанровым» слогом письма. Однако им она не владеет («Но как выразить это на словах?»). Поэтому вслед за поздравлением и пожеланием здоровья на странице письма появляется несовместимый с его началом совет Егора
«заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий». Это опять-таки готовое, «жанровое» слово, но совершенно глухое к двум продиктованным ранее фразам.
Пока Егор на бумаге, торопясь, разглагольствует, «какой есть враг Иноземный и какой Внутреный», старик со старухой обсуждают проблему внучат. Егор не слышит их, как и они не вслушиваются в непонятный набор чуждых слов. Разговор глухих — один из традиционнейших анекдотических мотивов.
У Ефимьи тоже особый кругозор и соответствующий ему своей детскостью голос. «—Это от бабушки, от дедушки…— говорила она. — Из деревни… Царица небесная, святители-угодники. Там теперь снегу навалило под крыши… деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках… И дедушка лысенький на печке… и собачка желтенькая < … > . А в поле зайчики бегают… Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут…» и т. д.
Благостные причитания Ефимьи столь же мало отвечают реальной картине жизни, как и казарменная фразеология «Военых Постановлений». О деревенской жизни, о зиме в деревне мы уже знаем нечто иное: «Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи! <…> …какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову… старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу» и т. п. «Собачка желтенькая» и «бабушка, добрая, жалостливая» в речах Ефимьи контрастируют со сценой из первой главы рассказа: «…Василиса, когда выходила из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:
— У-у, язва!»
Поскольку генерал не слушает ответов на свои вопросы, то и его обмен репликами со швейцаром водолечебницы — «глухой» диалог. В сущности, в рассказе никто никого не слушает, или не слышит, или не умеет выразить мысли словами, как Василиса, или не смеет произнести ни единого слова, как Ефимья при муже. Речь здесь — мнимое средство общения.
Главным объектом насмешливого наблюдения, анекдотического остраннения в рассказе оказывается глухонемое слово, не отвечающее своему коммуникативному назначению, утратившее способность соединять людей, не имеющее опоры в действительности. Предел анекдотической профанации слова — отождествление с ним звуков, издаваемых жарящейся свининой, которая «шипела, и фыркала, и как будто даже говорила: „флю-флю-флю”». И в самом деле, текст отправляемого Василисой письма не более содержателен, чем это бездушное «флю-флю-флю».
Но смысл рассказа этим не исчерпывается.
Мы еще ничего не сказали о речи повествователя, которая служит не только для описания происходящего, но и для интроспективного изложения событий внутренней жизни персонажа, не владеющего средствами адекватного ее выражения. Всеведение повествователя придает его скупому слову притчевую авторитетность.
Описания, например, героев в рассказе не противоречат жанру анекдота: «розовый, свежий» генерал, или «сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком» Егор, или фигура старика — «очень худой, высокий, с коричневой лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой» (или как солдат в строю, о чем, собственно, и пишет Егор в этом бессмысленном письме). Однако фрагменты интроспективного изложения совершенно иной жанровой природы.
Интроспекция здесь не служит целям «романного» психологического анализа22, предполагающего «вскрытие бесконечной и дифференцированной обусловленности поведения», которая «проникает в отдельную ситуацию, учитывает переменные, мелькающие впечатления внешнего мира»23. Изложение от лица повествователя ограничивается — в духе позднего Толстого — универсалиями повседневного человеческого бытия: «И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью — и все думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли». Слово этой искуснейшей в своей безыскусности фразы — слово притчи. Не случайно речь повествователя во фрагментах интроспективного изложения проникнута неоригинальной, пословично-поговорочной афористичностью: «…прислала два письма и потом как в воду канула : ни слуху ни духу». Или: «С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды , старики жили, как сироты , и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь».
Содержательно значимая оппозиция «сюжетного» слова анекдота и «фабульного» слова притчи задана в рассказе сразу же двумя начальными фразами:
« — Что писать? — спросил Егор и умокнул перо.
Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года».
Эти два разнородных строя художественного высказывания, заметно отличающиеся и своим ритмом, будут определять все последующее течение рассказа, поочередно сменяя друг друга. Анекдот представит нам внешнюю сторону жизни, притча обнажит внутреннюю — ту, где персонаж выступает субъектом воли и чувства, а не объектом авторской и нашей наблюдательности. Что касается внешней стороны, то анекдот в случайном казусе с письмом позволил нам ощутить карикатурную нелепицу «глухонемого» слова в «глухонемом» мире. Притча же побуждает взглянуть на это происшествие иначе.
Благодаря притчевой установке на разгадку скрытого смысла слов и событий вдруг открывается подспудная содержательность бессмысленного письма. «Солдатом называется Перьвейший Генерал и последний Рядовой», — писал Егор, и это вполне по адресу: отставной солдат, муж Ефимьи, ежедневно встречает и провожает генерала. Концовка рассказа, можно сказать, выдержана в духе «цывилизации Чинов Военаго Ведомства» из злосчастного письма: «Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко:
— Душ Шарко, ваше превосходительство!»
Впрочем, фраза из воинского устава, припомнившаяся Егору, уравнивала рядового с генералом, и в контексте второй главы она приобретает немалый смысл, побуждая задуматься о том, что в исходном для притчи общечеловеческом измерении вся социальная иерархия человеческих отношений столь же неуместна, как егорова казенная тарабарщина в рождественском поздравлении.
О самом Егоре мы знаем лишь, что после армейской службы он живет в трактире у сестры, ничего не делает; вероятно, пьянствует. В таком случае явно не уставная фраза «Перьвейший наш Внутреный Враг есть: Бахус» приобретает анекдотически-исповедальный смысл и говорит об известной искренности писавшего, открывая даже в существовании этого человека внутреннюю сторону жизни.
Эта сторона представлена в рассказе простодушной духовностью матери и дочери. Их переживания излагаются интроспективно, именно они главные участницы центрального события рассказа. Отношение Василисы и Ефимьи к жизни несовместимо ни с какой анекдотичностью, оно открыто для притчи, поскольку ориентировано на серьезность и законосообразность миропорядка. Не случайно дважды в речи первой появляется «царь небесный», а в речи второй — «царица небесная».
Свести авторскую точку зрения к этой односторонней серьезности было бы ошибочно. Как ошибочно сводить ее и к насмешливой наблюдательности рассказчика. Анекдот и притча — две необходимые чеховские координаты, в системе которых может быть найден подлинный смысл художественного события.
Центральное событие рассказа «На святках» состоит в том, что абсурдное письмо, которое никак не могло осуществить соединение душ, встречу внутренних миров, тем не менее выполняет эту миссию: «…Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется».
В таком чтении письма есть своя анекдотичность. Оказывается, писание письма было бессмысленным не только потому, что листок бумаги заполнен мертвыми, никому не нужными словами, но еще и потому, что оно все равно в пределах художественного времени рассказа остается непрочитанным. Но здесь присутствует одновременно и высокая иносказательность: общение — не обмен словами, а встречное движение сознаний, со-переживание.
«На святках» — это в равной мере и анекдот на тему некоммуникабельности, и притча о свершившемся чуде человеческого общения, о неуничтожимости духовной близости людей даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.
«Несмотря на… отсутствие непосредственных философских проблем, — писал А. А. Белкин, — рассказы и пьесы Чехова насыщены философскими обобщениями» (2, 205). Рассмотренное нами «прорастание» притчи сквозь анекдот и рождает, по-видимому, эффект особой философичности чеховской прозы, не привносимой в искусство извне — из области философской мысли, как это делалось Достоевским или Толстым, а будто бы рождающейся непосредственно из самой художественности текста.
Наиболее существенные особенности чеховской манеры художественного мышления и письма порождены плодотворной сопряженностью, глубинным двуединством жанровых истоков его творчества. «Образное мышление Чехова начинается… с анекдота», но так, по мнению 3. С. Паперного, можно сказать лишь об Антоше Чехонте; «зрелый Чехов начинается с особого анекдота — такого, который одновременно и несет в себе анекдотическое начало и отрицает» его (12, 25—26). Однако противоположный жанровый полюс «амплитуды» чеховского «анекдота-судьбы» исследователь записных книжек писателя определяет бездоказательно: трагедия. В действительности же, как мы пытались показать, эта роль принадлежит притче.
К творческой памяти этой жанровой традиции обращались Л. Н. Толстой и М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов и Н. С. Лесков, B с. M . Гаршин и народники. В художественном миросозерцании Чехова ее доля особенно значительна. Сквозь призму притчи писатель в анекдотической социальной конкретности24 увидел «зерно фундаментальных закономерностей человеческой жизни. Те связи, которые казались преходящими, сиюминутными, не стоящими размышления, он осознал как надвре-менные, непреходящие, как объект напряженной художественной медитации» (22, 68). Таков был чеховский путь созидания художественной реальности, резко отличавшийся от эпигонского реализма сплошной социальной обусловленности. Если без корректировки со стороны анекдота подобный путь уводил из реализма в символизм, то без притчи Чехонте, по-видимому, не стал бы настоящим Чеховым.
Примечания
1Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 150.
2 Цит. по: Сергеенко П.А. Толстой и его современники. М., 1911. С. 228.
3Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 232.
4 См.: История русской литературы: В 4 т. Л., 1983. Т. 4. С. 203.
5 О сопряжении моментов взаимоисключающей жанровой природы как «внутренней мере» неканонического жанра см.: Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа. Красноярск, 1988.
6 См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 98.
7 О роли анекдота и дидактических «примеров» (латинская вариация притчи) для становления предроманного жанра новеллы см.: Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. С. 174—175.
8 По происхождению притча представляет собой сакрально-дидактическое иносказание, пришедшее в европейскую литературу из библейской традиции и патристики. Отнесение начальных вех литературной традиции в столь отдаленные времена не должно нас смущать, когда речь идет о писателе, живо ощущавшем «непрерывную цепь», связывающую современность с тем, «что происходило девятнадцать веков назад» («Студент»).
9 Речь идет о классическом анекдоте давнего прошлого, представлявшем собой краткое повествование (в форме сценки) о незначительном, но характерном или попросту курьезном случае из жизни исторического лица. Распространенные под именем анекдотов явления современного городского фольклора — лишь одно из ответвлений данной жанровой традиции. Классиками европейского анекдота признаются византийский историк Прокопий Кесарийский (VI в.) и деятель итальянского Возрождения Поджо Браччолини. Первым параллельно с фундаментальным и официозным трудом «История войн Юстиниана» создается «Тайная история» — «скандальная хроника (по определению С. С. Аверинцева) константинопольского двора, вобравшая в себя злейшие антиправительственные анекдоты и слухи, шепотом передававшиеся из уст в уста подданными Юстиниана» (История всемирной литературы. М., 1984. Т. 2. С. 345). Второй, будучи секретарем папской курии, особо записывал шутливые, часто подслушанные им рассказы посетителей; многие из его «фацеций» содержали в себе насмешки над историческими лицами.
10Мейлах Б.М. Талант писателя и процессы творчества. Л., 1969. С. 435, 441.
11 О «центростремительности» малой эпической формы см.: Скобелев В. П. Поэтика рассказа. Воронеж, 1982.
12 Существенным представляется замечание А. П. Чудакова о новаторстве чеховского «построения прозаической художественной системы по законам, близким к поэтическим» (см.: Чудаков А. П. Проблема целостного анализа художественной системы // Славянские литературы: VII Международный съезд славистов. М., 1973. С. 96).
13 Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. С. 21.
14 Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Спб., 1903. Т. XXXVIII а . С. 778—779. Статья о Чехове была написана С. А. Венгеровым.
15 См.: Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 7—8.
16Аверинцев С. С. Греческая литература и ближневосточная «словесность» // Типология и взаимосвязи литератур древнего мира. М., 1971. С. 257.
17 Ср.: «Говоря о библейской поэтике, отметим, что, впитанная с детства, она оказала явное влияние на Чехова» (22, 319). Любопытна в этой связи и мысль С. Кржижановского о том, что чеховская поэтика жанра первые свои уроки брала у отрывного календаря, где по традиции соседствовали «имя очередного святого—меню обеда — анекдот и афоризм» (см.: Кржижановский С. Чехонте и Чехов II Лит. учеба. 1940. № 10. С. 68).
18 Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. С. 21 (курсив мой.— В. Т.).
19 Мотивы поведения чеховских героев, как в анекдоте, «никогда не раскрываются вполне», а их действия «индивидуально-непредсказуемы». «Герой Чехова принципиально атипичен», это «прежде всего индивидуальность, включенная в случайностный поток бытия» (21, 232, 244). Эти наблюдения А. П. Чудакова фиксируют лишь одну сторону творческого своеобразия Чехова-рассказчика. Не менее убедительно звучит и диаметрально противоположное суждение И. Н. Сухих: «Чехов изображает и исследует своеобразный архетип любой человеческой жизни; любого человека (философа, сумасшедшего, «падшую женщину», мужика, чиновника, вора) он берет в аспекте его обыкновенности, похожести на других. Формой проявления героя становится у него то, что неизбежно входит в жизнь каждого» (15, 155). Это могло бы быть сказано о притче и вполне справедливо по отношению к чеховскому рассказу.
20 А. С. Долинин давно уже проницательно заметил о А. П. Чехове: «Борьба между собою двух противоположных воззрений на окружающую жизнь является для него наиболее конструктивной силой» (см.: А. П. Чехов. Л., 1925. С. 83). Поэтому лишь отчасти прав А. П. Чудаков, когда характеризует новаторство чеховской поэтики следующими словами: «Целесообразность отбора… не ощущается. Рождается впечатление броуновского движения личности в сложно-случайностном изображенном мире» (21, 238—239). Такое впечатление односторонне и потому обманчиво. «Это всегда лишь способ создания более полной иллюзии реальности… Это кажущаяся «случайность» (4, 291), черпаемая из стихии анекдота, но пропускаемая сквозь фильтр притчи. И дело здесь даже не в «равнораспределенности авторского внимания» между .казусным и существенным (21, 282); «неуловимая особенность и обаяние чеховской детали — в ее глубокой неслучайности под видом случайности» (12, 102).
21 Ср. мысли М. М. Бахтина о «философской сублимации» быта, природы, половых отношений, еды и питья, смерти в идиллическом художественном мышлении (1, 373—384).
22 Ср.: «У Чехова внутренний мир в изображении человека занимает место существенное. Но это нельзя назвать психологическим анализом в старом смысле» (21, 229).
23Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 330—331.
24 Ср.: «Комическая новелла сыграла в творчестве Чехова свою роль — это была школа социальной конкретности» (22, 83).
Список рекомендуемой литературы
1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
2. Белкин А. А. Читая Достоевского и Чехова. М., 1973.
3. Богданов В. А. Лабиринт сцеплений. М., 1986.
4. В творческой лаборатории Чехова. М., 1974.
5. Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. М., 1982.
6. Гурвич И. А. Проза Чехова: Человек и действительность. М., 1970.
7. Камянов В. В строке и за строкой // Новый мир. 1985. № 2.
8. Катаев В. Б. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М., 1979.
9. Колобаева Л. А. Концепция личности в русской реалистической литературе рубежа XIX — XX веков. М., 1987.
10. Кройчик Л.Е. Поэтика комического в произведениях А. П. Чехова. Воронеж, 1986.
11. Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М., 1982.
12. Паперный 3. С. Записные книжки Чехова. М., 1976.
13. Полоцкая Э.А. А. П. Чехов: Движение художественной мысли. М., 1979.
14. Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
15. Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987.
16. Фортунатов Н.М. Архитектоника чеховской новеллы. Горький, 1975.
17. Цилевич Л. М. Сюжет чеховского рассказа. Рига, 1976.
18. Червинскене Е. П. Единство художественного мира. А. П. Чехов. Вильнюс, 1976.
19. Чехов и его время. М., 1977.
20. Чехов и Лев Толстой. М., 1980.
21. Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971.
22. Чудаков А. П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986.
Как Сергей Довлатов пытался стать писателем в Ленинграде 60-х, чем он занимался в газете кораблестроительного института и почему молодого автора не воспринимали всерьез?
В издательстве «Городец» вышла книга «Союз и Довлатов (подробно и приблизительно)». Ее автор — новосибирский филолог Михаил Хлебников. В своем исследовании он рассказывает не только о фигуре писателя, но и об эпохе, его окружении и атмосфере в кругах творческой интеллигенции позднего СССР. «Бумага» публикует отрывок из книги.
Пришло время перейти к тому, как развивалась в это время литературная карьера Довлатова. После возвращения из армии 5 октября того же 1965 года он поступает на работу в многотиражную газету «За кадры верфям» Ленинградского кораблестроительного института. 28 октября Довлатова восстанавливают на русском отделении филологического отделения университета. Через год он переводится на заочное отделение факультета журналистики. Работая в газете, Довлатов публикует не только журналистские материалы: очерки, интервью, репортажи, отчеты, но и выступает в качестве художника. Большинство текстов подписаны Д. Сергеевым. Оклад литсотрудника Довлатова — 88 рублей. В одной из заметок — «Инженер и современное искусство» — есть интересные рассуждения Довлатова о значении искусства в жизни гуманитария. Он не пропагандирует, как можно подумать, стремление к «широкому охвату» гуманитарной сферы, а советует понять, изучать то, что действительно интересно:
Сознательно отказавшись от ложной широты взглядов, вы сможете глубоко и прочно постичь те явления культуры, которые вам наиболее близки. У вас установятся интимные отношения с искусством, и вы не станете обесценивать их в случайной беседе. Не гонитесь за друзьями-лириками. Смотрите, слушайте, читайте. Искусство отблагодарит вас за внимание.
При желании Довлатов мог бы привести пример подлинной благодарности искусства — инженер Ефимов.
Вскоре состоялся дебют Довлатова на страницах настоящего литературного журнала. В No 3 журнала «Звезда» за 1966 год публикуется его текст. Правда, это не проза, а рецензия. Обозревается сборник Феликса Кривина «Калейдоскоп», вышедший в прошлом, 1965 году в издательстве «Карпаты». Можно сказать, что Довлатову повезло с его первым автором. К сожалению, писательское имя Кривина сегодня несколько забыто. Но в свое время он имел большую и, наверное, заслуженную популярность. Поэтому не нужно удивляться, что журнал решил откликнуться на выход книги провинциального автора. Известность Кривин приобрел благодаря юмористическим и фантастическим миниатюрам. Форма как бы намекала на возможность широкого обобщения с туманными, но, безусловно, прогрессивными посылами. Например, миниатюра с актуальным для тех дней названием.
Административное рвение
Расческа, очень неровная в обращении с волосами, развивала бурную деятельность. И дошло до того, что, явившись однажды на свое рабочее место, Расческа оторопела:
— Ну вот, пожалуйста: всего три волоска осталось! С кем же прикажете работать?
Никто ей не ответил, только Лысина грустно улыбнулась. И в этой улыбке, как в зеркале, отразился результат многолетних Расческиных трудов на поприще шевелюры.
Молодой рецензент не заставляя себя, искренне хвалит автора:
Кривин как писатель не укладывается в традиционные литературные рамки. Его миниатюры принадлежат к трудному и своеобразному жанру, требующему от писателя изощренной наблюдательности, умения обобщать конкретные факты, придавая им символическое звучание, и выражать свои идеи в форме искусно построенных иносказаний. Но Кривин вырывается за пределы традиционной сказочной поэтики, выходит из круга привычных атрибутов жанра.
Следуя закону жанра, в финале Довлатов находит слова и для собственно критики, которая частично снимается общим благожелательным заключением:
Разумеется, не всё равноценно в этом сборнике. Некоторые миниатюры кажутся легковесными и звучат на уровне простеньких каламбуров. Но Кривин давно покорил широкую аудиторию. У него есть свой читатель, человек осведомленный, умеющий оценить и тонкую мысль, и острое слово, отдавая при этом должное легкости и изяществу. Такой читатель с благодарностью примет новый сборник Кривина «Калейдоскоп».
Интересно, что со временем Довлатов несколько изменил отношение к жанру, в котором работал Кривин. Вспомним повесть «Иностранка». Один из ее героев — заслуженный диссидент Караваев — в молодости баловался литературой. В частности он сочинил басню:
Дело происходит в зоопарке. Около клетки с пантерой тол- пится народ. Внизу — табличка с латинским названием. И сведения — где обитает, чем питается. Там же указано — «в неволе размножается плохо». Тут автор выдерживает паузу и спрашивает:
«А мы?!»
Несколько прямолинейный символизм с выпирающей из него крупноформатной моралью чужд довлатовской стилистике. Но это относится к будущему. В начале же 1966 года Довлатов написал рецензию на приятного ему автора. Назвать ее вхождением в литературу, конечно, нельзя. Скорее, Довлатов заявил о намерениях, продемонстрировав определенный навык литературного работника.
Параллельно Довлатов-прозаик пытается найти выход к читателю. Единственное число в данном случае — полноценное отражение действительности. Начинающему писателю нужна профессиональная оценка его первых рассказов. Но тут его ждало разочарование. Во-первых, тематика его рассказов, несмотря на правильные уроки Хемингуэя, оказалась далекой от эстетических исканий и обмороков тогдашней продвинутой литературной молодежи. Об этом Довлатов пишет на страницах того же «Ремесла»:
Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели, а я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы.
Я побывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам: Пруст, Берроуз, Набоков…
Всё это казалось мне удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел.
Слова писателя не кокетливая игра на публику. Его действительно не хотели замечать и отмечать, он слабо вписывался в «ряды гениев», которые уже составлялись, уточнялись и оглашались. О том, что Довлатов в «списках не значился», с каким-то сладострастием пишет Валерий Георгиевич Попов в биографии писателя:
Краем уха о Довлатове слышали все, но литературная жизнь того времени была такой насыщенной и увлекательной, что его появление (так же, как перед тем и исчезновение) сильного впечатления ни на кого не произвело.
Еще до «исчезновения» — призыва в армию — Довлатов пытался получить литературное благословение, обратившись к уже знакомому нам Сергею Вольфу:
Нас познакомили в ресторане. Вольф напоминал американского безработного с плаката. Джинсы, свитер, мятый клетчатый пиджак.
Он пил водку. Я пригласил его в фойе и невнятно объяснился без свидетелей. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы.
Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил — водка нагревается.
— Любимые писатели? — коротко спросил Вольф.
Я назвал Хемингуэя, Бёлля, русских классиков…
— Жаль, — произнес он задумчиво, — жаль… Очень жаль…
Попрощался и ушел.
Десятилетия спустя в журнале «Звезда» Вольф делился с читателями своими воспоминаниями о Довлатове. Знаменитый, ставший хрестоматийным эпизод в ресторане «Восточный» приобрел одновременно, как это ни странно звучит, и конкретность, и невнятность:
Однажды подходит. Высокий, красивый, якобы застенчивый (да нет, застенчивый!) — огромный, право, на фоне портьеры между залом и, ну как его… не залом…
То ли поклонился, то ли улыбнулся, то ли скомбинировал. Мне пятнадцать, ему — десять. А я покурить вышел, за столиком, где я сидел, я, видите ли, стеснялся. А то накурено, и скрипача Степу, росточком чуть ниже холодильника (куда его однажды и засунули), не видно. То ли Сережа в университете тогда учился, то ли учился писать, — не знаю. То ли знакомы были в быту, то ли нет. Но вот так, о литературе применительно к себе — нет.
— Я, — говорит, — извините, простите, пишу, пытаюсь писать прозу, а вы…
Запнулся. Он-то — никто. А я — мэтр. Уже написал ранние рассказы. В Питере, по углам, из-за моей прозы — переполох. Джойса, говорят, узнают по шороху крыльев. Кому какое дело, что я тогда только фамилию его, Джойса, и знал.
— Я… — говорит.
— Да, — говорю. — Так что же «я»?
— А вы — уже. Не прочли бы вы мои рассказы, так сказать, опусы?
По причинам не литературного, но пресловутого внутреннего литературного свойства, я, кажется, ответил — нет. Да что там! — просто «нет».
Мы работаем для вас и вместе с вами ? Присоединяйтесь к Клубу друзей «Бумаги»
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, сообщите нам. Выделите текст с ошибкой и нажмите появившуюся кнопку.
Все тексты
134 рассказа
Белолобый
 Старый сторож Игнат жил в зимовье с черной дворнягой Арапкой, у которой родился щенок — Белолобый. У старой и слабой здоровьем волчихи, логовище которой было неподалеку, трое волчат. Однажды перед рассветом она отправилась на охоту. Зверь подобрался к хлеву, проник в него через старую гнилую крышу. Волчица хотела поживиться ягненком. Она спрыгнула…
Старый сторож Игнат жил в зимовье с черной дворнягой Арапкой, у которой родился щенок — Белолобый. У старой и слабой здоровьем волчихи, логовище которой было неподалеку, трое волчат. Однажды перед рассветом она отправилась на охоту. Зверь подобрался к хлеву, проник в него через старую гнилую крышу. Волчица хотела поживиться ягненком. Она спрыгнула…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 9 мин.)
Каштанка
 Каштанка – дворняжка с рыжей шерстью, похожая на лисицу, – потерялась в городской сутолоке. Ее подбирает клоун Мистер Жорж и делает цирковой артисткой с прозвищем Тетка. Также выступают гусь Иван Иваныч, кот Федор Тимофеевич и свинья Хавронья Ивановна. Несмотря на сытую спокойную жизнь, собака тоскует по Феде и его отцу, столяру Луке…
Каштанка – дворняжка с рыжей шерстью, похожая на лисицу, – потерялась в городской сутолоке. Ее подбирает клоун Мистер Жорж и делает цирковой артисткой с прозвищем Тетка. Также выступают гусь Иван Иваныч, кот Федор Тимофеевич и свинья Хавронья Ивановна. Несмотря на сытую спокойную жизнь, собака тоскует по Феде и его отцу, столяру Луке…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 30 мин.)
Дама с собачкой
 Дама с собачкой — Анна Сергеевна фон Дидериц – во время отдыха в Ялте постепенно сближается с москвичом Дмитрием Дмитриевичем Гуровым. У обоих есть семьи, завязывается «курортный роман». После возвращения Гуров не может смириться со своей прежней жизнью и находит Анну. Любовники регулярно тайно встречаются в московской гостинице «Славянский…
Дама с собачкой — Анна Сергеевна фон Дидериц – во время отдыха в Ялте постепенно сближается с москвичом Дмитрием Дмитриевичем Гуровым. У обоих есть семьи, завязывается «курортный роман». После возвращения Гуров не может смириться со своей прежней жизнью и находит Анну. Любовники регулярно тайно встречаются в московской гостинице «Славянский…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 26 мин.)
Смерть чиновника
 Смерть чиновника Ивана Дмитриевича Червякова наступила из-за глупого случая в театре «Аркадия» во время спектакля «Корневильские колокола». Чихнув, он обнаружил, что обрызгал статского генерала Бризжалова. Мнительный чиновник стал преследовать высокопоставленное должностное лицо, изводя своими излишними извинениями. Генерал потерял терпение…
Смерть чиновника Ивана Дмитриевича Червякова наступила из-за глупого случая в театре «Аркадия» во время спектакля «Корневильские колокола». Чихнув, он обнаружил, что обрызгал статского генерала Бризжалова. Мнительный чиновник стал преследовать высокопоставленное должностное лицо, изводя своими излишними извинениями. Генерал потерял терпение…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 3 мин.)
Палата номер 6
 В палате № 6 содержат сумасшедших. Они символизируют ссыльных, изгнанных из общества за неугодные правительству убеждения. Узнав печальные истории больных, можно сделать вывод, что они оказались отверженными из-за безразличия окружающих. Так, чиновник Иван Дмитриевич Громов в одночасье потерял семью и достаток. Он был образован, много работал…
В палате № 6 содержат сумасшедших. Они символизируют ссыльных, изгнанных из общества за неугодные правительству убеждения. Узнав печальные истории больных, можно сделать вывод, что они оказались отверженными из-за безразличия окружающих. Так, чиновник Иван Дмитриевич Громов в одночасье потерял семью и достаток. Он был образован, много работал…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 82 мин.)
Вишневый сад
 Вишневый сад находится в имении Любови Андреевны Раневской. Именно с ним связаны основные события пьесы. Дворянская семья разорилась, потому что помещица много лет сорила деньгами. Избалованная достатком, эгоистичная, она не способна помочь даже своим близким. В произведении много интересных персонажей. Раневская возвращается из Парижа, куда…
Вишневый сад находится в имении Любови Андреевны Раневской. Именно с ним связаны основные события пьесы. Дворянская семья разорилась, потому что помещица много лет сорила деньгами. Избалованная достатком, эгоистичная, она не способна помочь даже своим близким. В произведении много интересных персонажей. Раневская возвращается из Парижа, куда…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 67 мин.)
Ионыч
 Земский доктор Дмитрий Ионыч Старцев поселился неподалеку от губернского города, где жил Иван Петрович Туркин, который устраивал любительские спектакли. Его жена Вера Иосифовна была писательницей. Дочь Екатерина (Котик) играла на рояле, мечтала стать артисткой. Ионыч влюбился в Котика, сделал ей предложение и получил отказ. Вскоре девушка уехала…
Земский доктор Дмитрий Ионыч Старцев поселился неподалеку от губернского города, где жил Иван Петрович Туркин, который устраивал любительские спектакли. Его жена Вера Иосифовна была писательницей. Дочь Екатерина (Котик) играла на рояле, мечтала стать артисткой. Ионыч влюбился в Котика, сделал ей предложение и получил отказ. Вскоре девушка уехала…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 27 мин.)
Ванька
 Сироту Ваньку Жукова отдали учиться ремеслу у сапожника Аляхина в Москве. Ваня очень тоскует по родным местам. В ночь под Рождество малыш решился написать дедушке Константину Макаровичу всю правду о своих мучениях. Его ничему не учат, избивают, морят голодом, не дают выспаться. У ребенка нет обуви, он ходит босиком. Страшно то, что жалоба…
Сироту Ваньку Жукова отдали учиться ремеслу у сапожника Аляхина в Москве. Ваня очень тоскует по родным местам. В ночь под Рождество малыш решился написать дедушке Константину Макаровичу всю правду о своих мучениях. Его ничему не учат, избивают, морят голодом, не дают выспаться. У ребенка нет обуви, он ходит босиком. Страшно то, что жалоба…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 6 мин.)
Хирургия
 Однажды в земской больнице хирургией вместо уехавшего доктора решил заняться фельдшер Сергей Кузьмич Курятин. Он пытается удалить зуб у церковного дьячка Ефима Вонмигласова. Начинает с хвастовства, но постепенно энтузиазм падает, работа оказывается не такой уж легкой. Дьячок начинает с лести, бесконечных благодарностей, но после бесполезных…
Однажды в земской больнице хирургией вместо уехавшего доктора решил заняться фельдшер Сергей Кузьмич Курятин. Он пытается удалить зуб у церковного дьячка Ефима Вонмигласова. Начинает с хвастовства, но постепенно энтузиазм падает, работа оказывается не такой уж легкой. Дьячок начинает с лести, бесконечных благодарностей, но после бесполезных…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 5 мин.)
Толстый и тонкий
 На вокзале Николаевской железной дороги встретились толстый и тонкий, старые знакомые Миша и Порфирий. Друзья обрадовались, начали мирно беседовать, пока во время разговора не выяснилось, что Михаил получил высокий чин. С этого момента Порфирий преобразился, стал пресмыкаться, превратился в отталкивающего своей униженностью подхалима. Толстому…
На вокзале Николаевской железной дороги встретились толстый и тонкий, старые знакомые Миша и Порфирий. Друзья обрадовались, начали мирно беседовать, пока во время разговора не выяснилось, что Михаил получил высокий чин. С этого момента Порфирий преобразился, стал пресмыкаться, превратился в отталкивающего своей униженностью подхалима. Толстому…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 3 мин.)
Три сестры
 Три сестры Ольга, Маша и Ирина Прозоровы с братом Андреем живут в губернском городе. Старшая из сестер, Ольга, — учительница женской гимназии, недовольна своей работой. Машу рано выдали замуж за безответно влюбленного в нее учителя гимназии Кулыгина. Она сближается с женатым батарейным командиром — подполковником Вершининым. Ирина – мечтательная…
Три сестры Ольга, Маша и Ирина Прозоровы с братом Андреем живут в губернском городе. Старшая из сестер, Ольга, — учительница женской гимназии, недовольна своей работой. Машу рано выдали замуж за безответно влюбленного в нее учителя гимназии Кулыгина. Она сближается с женатым батарейным командиром — подполковником Вершининым. Ирина – мечтательная…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 84 мин.)
Человек в футляре
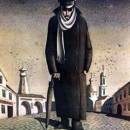 Это история про человека в футляре. Охотники Иван Иванович Чимша-Гималайский и Буркин ночевали в сарае старосты села Мироносицкого. Последний поделился историей своего коллеги, учителя греческого языка Беликова. Он создал своеобразный барьер вокруг себя, был чересчур мнителен и навязчив. Замкнутый человечек подозрительно следил за всеми, изводил…
Это история про человека в футляре. Охотники Иван Иванович Чимша-Гималайский и Буркин ночевали в сарае старосты села Мироносицкого. Последний поделился историей своего коллеги, учителя греческого языка Беликова. Он создал своеобразный барьер вокруг себя, был чересчур мнителен и навязчив. Замкнутый человечек подозрительно следил за всеми, изводил…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 20 мин.)
Хамелеон
 Полицейский надзиратель Очумелов предстает перед толпой на базарной площади своеобразным хамелеоном. Он постоянно меняет свое отношение к золотых дел мастеру Хрюкину. Последнего укусила собака. В зависимости от того, чьим питомцем ее признавала толпа вокруг, корректировалась точка зрения чиновника. Он ярко демонстрировал чинопочитание в те…
Полицейский надзиратель Очумелов предстает перед толпой на базарной площади своеобразным хамелеоном. Он постоянно меняет свое отношение к золотых дел мастеру Хрюкину. Последнего укусила собака. В зависимости от того, чьим питомцем ее признавала толпа вокруг, корректировалась точка зрения чиновника. Он ярко демонстрировал чинопочитание в те…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 5 мин.)
Душечка
 Душечка – прозвище Ольги Племянниковой. Она и антрепренер Кукин женятся, но вскоре Душечка становится вдовой. Затем она вновь выходит замуж – за управляющего складом Василия Андреевича Пустовалова. Через шесть лет женщина опять вдовеет. Начинается роман с полковым ветеринаром Смирниным. Любимый покидает ее. Спустя годы он возвращается женатым, с…
Душечка – прозвище Ольги Племянниковой. Она и антрепренер Кукин женятся, но вскоре Душечка становится вдовой. Затем она вновь выходит замуж – за управляющего складом Василия Андреевича Пустовалова. Через шесть лет женщина опять вдовеет. Начинается роман с полковым ветеринаром Смирниным. Любимый покидает ее. Спустя годы он возвращается женатым, с…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 20 мин.)
Мальчики
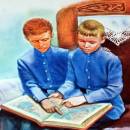 К семье Королевых на рождественские каникулы издалека приехали мальчики: сын, гимназист второго класса Володя, с приятелем Чечевицыным. Сестрам Володи он представляется Монтигомо, Ястребиным Когтем, вождем непобедимых. Мальчики все время секретничают. Сестры, подслушав, узнают, что они, начитавшись о приключениях, готовят побег в Америку. Глупым…
К семье Королевых на рождественские каникулы издалека приехали мальчики: сын, гимназист второго класса Володя, с приятелем Чечевицыным. Сестрам Володи он представляется Монтигомо, Ястребиным Когтем, вождем непобедимых. Мальчики все время секретничают. Сестры, подслушав, узнают, что они, начитавшись о приключениях, готовят побег в Америку. Глупым…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 9 мин.)
Дуэль
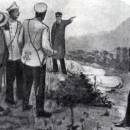 I Было восемь часов утра — время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лег 28, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего…
I Было восемь часов утра — время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лег 28, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 154 мин.)
Степь
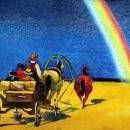 Купец Иван Иванович Кузьмичов ехал в город, чтобы продать шерсть, и заодно вез через степь малолетнего племянника Егорушку из N., уездного города Z-ой губернии, в гимназию. С ними едет добрый, но практичный священник, настоятель Николаевской церкви Христофор Сирийский. Егор грустит. По дороге он случайно встречает новые лица: красавицу графиню…
Купец Иван Иванович Кузьмичов ехал в город, чтобы продать шерсть, и заодно вез через степь малолетнего племянника Егорушку из N., уездного города Z-ой губернии, в гимназию. С ними едет добрый, но практичный священник, настоятель Николаевской церкви Христофор Сирийский. Егор грустит. По дороге он случайно встречает новые лица: красавицу графиню…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 142 мин.)
Попрыгунья
 I На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. — Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин…
I На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. — Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? — говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 38 мин.)
Тоска
 Извозчика Иону Потапова одолела тоска по недавно умершему от болезни сыну Кузьме. У бывшего крестьянина осталась в деревне дочь Анисья, измучило одиночество. Он вынужден почти круглосуточно работать в городе, оставляя милый сердцу деревенский дом. Иона безуспешно ищет сочувствия у поздних пассажиров, прохожих, других извозчиков. Ему хочется…
Извозчика Иону Потапова одолела тоска по недавно умершему от болезни сыну Кузьме. У бывшего крестьянина осталась в деревне дочь Анисья, измучило одиночество. Он вынужден почти круглосуточно работать в городе, оставляя милый сердцу деревенский дом. Иона безуспешно ищет сочувствия у поздних пассажиров, прохожих, других извозчиков. Ему хочется…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 7 мин.)
Пересолил
 Пересолил означает переборщил, увлекся. Землемер Глеб Гаврилович Смирнов так боялся разбойного нападения, что до смерти перепугал своими рассказами собственного извозчика, мужика Клима. Смирнов, как типичный городской житель, приписывает безобидному здоровяку-крестьянину черты зверя. От страха он чрезвычайно увлекается героическими историями, в…
Пересолил означает переборщил, увлекся. Землемер Глеб Гаврилович Смирнов так боялся разбойного нападения, что до смерти перепугал своими рассказами собственного извозчика, мужика Клима. Смирнов, как типичный городской житель, приписывает безобидному здоровяку-крестьянину черты зверя. От страха он чрезвычайно увлекается героическими историями, в…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 6 мин.)
Скрипка Ротшильда
 Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом…
Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 16 мин.)
Детвора
 Детвора, пользуясь отсутствием взрослых, не ложится спать, а увлеченно играет в лото. Писатель обрисовал разные характеры, которые ярко проявились в игровом азарте. Гришу интересует только выигрыш, он жадно прячет копейки. Аня играет ради победы, ощущения превосходства. Соня просто радуется игре, помогает другим. Алеша рад побыть со старшими…
Детвора, пользуясь отсутствием взрослых, не ложится спать, а увлеченно играет в лото. Писатель обрисовал разные характеры, которые ярко проявились в игровом азарте. Гришу интересует только выигрыш, он жадно прячет копейки. Аня играет ради победы, ощущения превосходства. Соня просто радуется игре, помогает другим. Алеша рад побыть со старшими…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 7 мин.)
В овраге
 Село Уклеево лежало в овраге. И события здесь происходили мрачные, демонстрирующие самые темные стороны человеческой души. Мещанин Григорий Петрович Цыбукин решил принудительно женить старшего сына Анисима. Невеста Липа — бесприданница, покорная и добрая девушка. После свадьбы оказалось, что Анисим с городским приятелем Самородовым…
Село Уклеево лежало в овраге. И события здесь происходили мрачные, демонстрирующие самые темные стороны человеческой души. Мещанин Григорий Петрович Цыбукин решил принудительно женить старшего сына Анисима. Невеста Липа — бесприданница, покорная и добрая девушка. После свадьбы оказалось, что Анисим с городским приятелем Самородовым…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 59 мин.)
Злоумышленник
 Злоумышленником стал мужик Денис Григорьев. Он откручивал с рельсов железную гайку, чтобы смастерить грузило для лески. Местному следователю не удается убедить мужика, что он нанес вред. Невежда не может понять, что подверг опасности жизни людей. Главное, что гайка идеально подходит: тяжелая и с отверстием. Он ни за что не может поверить, что…
Злоумышленником стал мужик Денис Григорьев. Он откручивал с рельсов железную гайку, чтобы смастерить грузило для лески. Местному следователю не удается убедить мужика, что он нанес вред. Невежда не может понять, что подверг опасности жизни людей. Главное, что гайка идеально подходит: тяжелая и с отверстием. Он ни за что не может поверить, что…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 6 мин.)
О любви
 На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и, пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны. Алехин рассказал, что красивая Пелагея была…
На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и, пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны. Алехин рассказал, что красивая Пелагея была…
Автор: Чехов А. П.
(Время чтения: 15 мин.)
Несмотря на то, что А. П. Чехов воспринимается преимущественно как автор произведений для взрослых, в его творчестве есть немало юмористических и поучительных историй для детей. Это «Ванька», «Каштанка», «Репетитор» и масса других текстов, которые вы найдете и сможете прочитать в нашей виртуальной библиотеке. Утром, днем и вечером наш портал дает возможность приобщиться к миру русской литературы вместе с дошкольниками и учениками младших либо средних классов, и все, что для этого нужно – выбрать в списке понравившийся рассказ!
Короткие рассказы Чехова для детей
За свою жизнь Антон Павлович написал множество произведений, включая пьесы и краткие повести для детей, и каждое его творение имеет особое настроение и запоминающийся сюжет. Мальчикам и девочкам школьного возраста обязательно стоит прочесть собрание его сочинений, и библиотека – не единственное место, где это можно сделать. Наш сайт предлагает полные тексты писателя, созданные в ранние и поздние годы творчества, причем платить за их изучение нет необходимости. Истории доступны бесплатно и в круглосуточно режиме – выбирайте литературу, которая вам нравится или нужна для уроков, и читайте без ограничений!
Кстати, кроме комедий в числе доступных для прочтения историй есть драматические произведения, которые смогут по достоинству оценить учащиеся средних и старших классов. Даже для взрослых будет интересно восстановить в памяти творчество легендарного автора, тем более что платить деньги для этого не придется, а текст можно будет загрузить не только на компьютере, но и на телефоне.
Все юмористические рассказы бесплатны
Собрание сочинений русского писателя огромное, и среди трагикомедий и пьес особое место занимают детские истории. Они рассчитаны на читателей возрастом от 5-6 лет и практически всегда поучительные, хотя и по-своему веселые. Вместе с героями юный читатель будет переживать победы и поражения, окунаться в школьную жизнь прошлой эпохи и обретать новый опыт, который обязательно пригодится в реальности. Если малыш недостаточно хорошо соединяет буквы в слова, а слова в предложения, либо есть желание с пользой провести с ним время, стоит рассмотреть вариант чтения вслух в свободное время или перед сном. Список произведений поможет быстро выбрать интересную сыну или дочке историю, а если не дочитаете, то на следующий день легко будет найти нужное место благодаря содержанию.
Популярные рассказы Чехова
- Палата № 6
- Вишневый сад
- Каштанк
- Ионыч
- Дама с собачкой
«История деградации души человека в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»
Цели:
Проанализировать рассказ Чехова «Ионыч» и рассмотреть степень личной ответственности героя за свою жизнь;
Раскрыть трагизм повседневно-будничного существования и духовного оскудения личности в рассказе;
Совершенствовать умение анализировать художественное произведение, применять приобретённые знания для создания связного текста (устного и письменного) на заданную тему.
Ход урока.
Слово учителя.
Известный русский литературовед Д.Овсянико – Куликовский писал, что
произведение Чехова « Ионыч» рассказывает о нормальном человеке.
А кто такой, по-вашему, нормальный человек?
(Обыкновенный, простой, средний, бездарный, это мы).
Вот как отвечали на этот вопрос знаменитые учёные 19 в., современники
писателя. (Учитель показывает слайды с высказываниями учёных, читает их.)
(« Нетрудно видеть, что искусство имеет такую возможность с успехом
заниматься исследованием психологии «нормального» человека…
Художник может идеализировать «среднего» человека и находить в нём известные положительные качества…
К «среднему» человеку Чехов относился отрицательно, сурово, почти жестоко, и сущность его отрицательного воззрения может быть сведена к мысли, что общество, состоящее из одних только «средних», так называемых «нормальных» людей, есть общество безнадёжное, беспросветное, представляющее картину полного застоя, тёмной рутины, из которой нет выхода.» (Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. В 2 т. М.,1989, т.1, с.475-476))
Как вы считаете, какой должна быть задача урока?
С какой целью мы будем изучать именно рассказ «Ионыч»?
(Любовь в жизни героев, отношение автора к героям, можно ли считать Ионыча нормальным человеком и т.п.)
Эпиграфом к уроку я взяла слова известного писателя – классика Н.В.Гоголя:
Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких
юношеских лет в суровое ожесточайшее мужество,
забирайте с собою все человеческие движения, не
оставляйте их на дороге, не подымете потом.
Н.В.Гоголь
Как соотносится, на ваш взгляд, эпиграф с темой урока?
(Одной из важнейших тем для Чехова является тема нравственной ответственности человека за всё, что с ним происходит. Опуститься, деградировать, капитулировать перед жизнью, перед средой гораздо легче, чем сопротивляться и отстаивать свои взгляды).
Чехов рассказе «Ионыч» исследует процесс духовной капитуляции человека перед темными силами жизни. Тема духовного оскуднения была одна из самых острых социальных и политических проблем его времени.
Чем объяснить такое пристальное внимание Чехова к вопросу о духовной деградации человека?
Он обостренно воспринимал новые веяния времени и предчувствовал зреющие в стране перемены. Только в 1898 году им были созданы рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «По делам службы», «Душечка», «Новая дача». В этих рассказах критика времен Чехова заметила изменения в авторской манере. «Всюду за фигурою рассказчика, — писал А. Измайлов в «Биржевых ведомостях» 28 августа 1898 года – виден субъективист автор, болезненно чувствующий жизненную нескладицу и не имеющий силы не высказаться… Объективное, спокойное изображение действительности уступает место тревожному философскому обсуждению зол жизни, выступает на сцену не факт, а философия факта».
Чтобы понять это, надо обратиться к истории создания рассказа «Ионыч» и его содержанию.
2. Сообщение (презентация) учащегося «История создания рассказа А. П. Чехова «Ионыч»»
Рассказ написан в 1898 году. В обществе главным приоритетом становится материальный интерес. Человек как личность, самоценность человека становятся ненужными и уходят на второй план. Одна из почитательниц Чехова писала по поводу «Ионыча»:«Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волею людей, губит пошлость, как она сильно затягивает и потом не вырвешься». Поставленная в этом рассказе нравственная проблема в разных формах возникает перед каждым поколением.
Чехов работал над «Ионычем» примерно с февраля 1897 года до середины 1898. В его записной книжке одновременно появляются заметки и наброски, которые потом свяжутся с образом главного героя — доктора Дмитрия Ионовича Старцева («От кредиток бумажник пахнет ворванью») и с семьей Туркиных, вначале носившей фамилию Филимоновых: «Мальчик лакей: умри, несчастная!», «Здравствуйте вам пожалуйста. Какое вы имеете полное римское право». Затем появляется запись: «Филимоновы — талантливая семья, так говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит («здравствуйте, пожалуйста»), она пишет либеральные повести, имитирует: «Я в вас влюблена… ах, увидит муж!» Это говорит она всем при муже. Мальчик в передней: умри, несчастная! В первый раз, в самом деле, все это в скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз тоже. Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять «Я в вас влюблена… ах, увидит муж!», опять та же имитация: «умри, несчастная», и когда я уходил от Филимоновых, то мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей».
В этом зерно первого замысла: самая интересная и талантливая семья в сером городе оказывается
скучной и бездарной
. Однако, учитывая это изначальное зерно, нельзя сводить к нему все богатое и разветвленное художественное «древо»: одно вырастает из другого, но с ним никак не тождественно. Ведь Чехов не просто писал повесть на готовую тему, очерченную в записной книжке, — первоначальный замысел рос, развивался и усложнялся. Последняя черновая запись к повести: «Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает в клубе за большим столом и, когда заходит речь о Туркиных, спрашивает: «Это вы про каких Турк.? Про тех, у которых дочка играет на фортепьянах?» Практикует в городе очень, но не бросает и земства: одолела жадность».
3. Работа над рассказом.
Читая рассказ, мы понимаем, что перед нами разворачивается жизненная драма и естественно возникает вопрос: в чём её причина? Мы видим, что Дмитрий Старцев терпит крах и в общественном и в личном плане: утрачивает идеалы, любовь и даже человеческий облик. Но как, отчего происходят утраты? И что именно утрачено? И было ли, наконец, что утрачивать? Попробуем разобраться.
— Каким изображен Старцев в начале I главы?
(
Преисполненный великих стремлений, энергии, сил, прибывает в Дялиж, в земскую больницу молодой доктор Старцев Дмитрий Ионыч. Перед ним заманчивое будущее: интересная работа, благородная цель жизни — «помогать страдальцам, служить народу». Он молод, здоров, весел, полон надежд, беспричинной юношеской радости, ожидания счастья. Всё ему кажется интересным, занимательным, новым.
Как только Старцев был назначен земским врачом в Дялиже, в 9 верстах от С., ему, как и всякому приезжему, рекомендовали познакомиться с семьей Туркиных. Но, судя по всему, Старцев не спешил сделать это, — видимо, он не очень верил рекомендации, а главное,
был занят и увлечен своим делом.
«Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу… последовало приглашение». Но Старцев вспомнил о нем лишь через несколько месяцев: «Весной, в праздник — после приема больных», оказавшись в городе по другим делам, «он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди»).
Старцев впервые посещает Туркиных «весной, в праздник». И эта весенняя праздничность — не столько вокруг героя, сколько в нем самом. Весенний праздничный день наполняет его счастьем, бодрит и радует: он идет средь зелёных полей, идет не спеша, наслаждаясь, идет в город отдохнуть и развлечься и все время поёт романс М. Яковлева на слова элегии А. А. Дельвига: «Когда еще я не пил слез из чаши бытия…»
Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить,
Когда желанья и мечты
К тебе теснились жить,
Когда еще я не пил слез
Из чаши бытия, —
Зачем тогда, в венке из роз,
К теням не отбыл я!
— Что увидел Старцев у Туркиных?
(
Главный герой играет роль своеобразного зрителя, присутствующего на домашнем концерте. Глава семьи Иван Петрович Туркин выступает как застольный конферансье. Он ведет концерт уверенно и привычно. Сначала «предоставляет слово» супруге Вере Иосифовне, которая написала «большинский роман», затем следует музыкальный номер — их дочь Катерина Ивановна, «Котик», играет на рояле. А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их. И в заключение всего этого концерта — лакей Павлуша, который изображает нечто трагическое: «Умри, несчастная!» Таков этот домашний
парад талантов).
— В чем заключается талант Ивана Петровича Туркина?
(Весь талант Ивана Петровича заключается в том, что он говорит «на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорнейше вас благодарю…» Это человек с неизменно смеющимися глазами и смешными словечками — вся его речь состоит из шуточек, анекдотов, поговорок. Репутация туркинских талантов дает трещину при первом же упоминании об Иване Петровиче, который «устраивали любительские спектакли с благотворительной целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно». Вся скука и однообразие жизни и общества в городе С., даже в «самой образованной и талантливой» семье, уже угадываются в этой аттестации и актерского «дара» Ивана Петровича, и уровня его аудитории: ведь это ее восторги отразились в оценке: «кашлял очень смешно», — прямо-таки слышишь голоса местных дам и барышень!)
Охарактеризуйте романы, которые пишет Вера Иосифовна. Как Чехов подчеркивает литературную бездарность ее романа?
(Жена Ивана Петровича, Вера Иосифовна, пишет романы о том, чего нет и не может быть в действительности. Ее роман начинается словами «Мороз крепчал…» — манерно-банальным литературным штампом. Вера Иосифовна не писательница, она только старается быть ею. Когда Вера Иосифовна кончила читать и зазвучала «Лучинушка», песня о том, «чего не было в романе и что бывает в жизни», как будто «опустился занавес», и герои от своеобразного литературного спектакля вернулись к жизни. Простая песня «Лучинушка», доносившаяся из сада, по сравнению с романом показалась слушателям кусочком настоящей жизни и как бы защищала правду от фальшивых словоизвержений Веры Иосифовны).
— Какие два мира предстают перед нами в сцене чтения Верой Иосифовной своего романа?
(
В этой сцене перед нами встают два мира: один — действительный, со стуком ножей и запахом жареного лука из кухни, с мягкими глубокими креслами и «Лучинушкой», запахом сирени и пением соловьев, а другой — выдуманный, ненастоящий, но навевающий «такие хорошие, покойные мысли». И весь роман мадам Туркиной, последовавший за чаем с вкусными печеньями, которые таяли во рту, оказывается для гостей чем-то вроде приятного чаепития).
— Подтвердите ваши выводы примерами из текста рассказа.
(«В их большом каменном доме, — пишет Чехов о Туркиных, — было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин». Этот переход от поющих в саду соловьев к запаху жареного лука никак нельзя назвать безразличным по отношению к развивающемуся роману героев. Говоря о том, как гости слушали Веру Иосифовну, Чехов не забудет снова сказать о запахе жареного лука: «Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука… В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать»).
Чехов не прерывает повествования, когда сначала говорит о Котике, а затем о чаепитии: «Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту». Всё это стоит в одном ценностном ряду в доме Туркиных, и все это герой принимает как должное.
— Почему Вера Иосифовна нигде не печатает свои произведения?
(
Вера Иосифовна нигде не печатает свои произведения, «напишет и спрячет у себя в шкапу». «Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства». В самом деле, для чего печатать, если есть средства? Для чего еще может быть литература, как не для домашнего употребления? Если бы у Туркиных было стесненное материальное положение, тогда еще можно было бы подумать о том, чтоб романы публиковать. А так — зачем? Литература, с точки зрения Веры Иосифовны, — нечто создаваемое для себя или в крайнем случае печатаемое для денег. Никакой другой цели и назначения она в литературе не видит).
— Как Чехов подчеркивает сходство дочери Туркиных Екатерины Ивановны с матерью Верой Иосифовной?
(
Следующей в программе выступает дочь Туркиных Екатерина Ивановна (родители зовут ее «Котик»). Она собирается стать пианисткой. Увы — ее искусство оказывается в том же ряду. Описывая ее внешность в начале рассказа, Чехов говорит о «восемнадцатилетней девушке, очень похожей на мать, такой же худощавой и миловидной». И когда она садится за рояль, сходство не исчезает, а скорей, наоборот, увеличивается. Нельзя не услышать переклички в описаниях того, как воспринимались роман Веры Иосифовны и игра на рояле ее дочки: мать читала о том, чего никогда не бывает в жизни, но все-таки слушать было «приятно, удобно»; дочь играет громко, даже как-то надоедливо, искусство сведено у нее к чисто техническому исполнению, но сидеть в гостиной после больных и мужиков, смотреть на нее «так приятно, так ново…» Котик, играя на рояле, «ударила по клавишам», «ударила изо всей силы», «упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля», словно речь идет не об искусстве, а о какой-то тяжелой и бессмысленной работе, цель которой — «вбить клавиши внутрь рояля»).
— Как Чехов относится к Туркиным?
(
Так, постепенно узнавая членов этой семьи, мы осознаем, как они, в сущности,
бездарны и скучны
. Читателю сразу становится не по себе в обществе этой «умной, интересной, приятной семьи», в мире праздности, скуки, застойности их жизни и никчёмности существования. Закономерно возникает вопрос: если таковы самые талантливые люди во всем городе, то каков же должен быть город? За Туркиными — губернский город, они его олицетворение, та среда, которая обступает Ионыча, наступает на него под барабанные звуки игры Котика на рояле. Не утрачивая реальных житейских и бытовых масштабов и очертаний, семья Туркиных как-то незаметно вырастает до большого обобщения, до символа, не теряющего при этом образной конкретности. Это своеобразный мирок — со своим собственным театром, конферансом, литературой, музыкой и даже трагедией, низведенной до кривляния лакея перед расходящимися по домам гостями.
Пусты и однообразны развлечения сытых и обеспеченных обывателей, освобожденных от необходимости трудиться: прием гостей, чаепития, карты, бесплодные разговоры. Бессмысленность их жизни становится причиной скуки. Жители города С. как будто спокойны, лишены каких-либо преступных поползновений, доброжелательны. Между тем их существование настолько однообразно, скучно, обыденно, что оно несовместимо с понятием «жизнь»).
— Как Старцев относился к Туркиным в I главе?
(На гостя обрушивается поток любезностей и шуток. Слух Старцева режут обращения хозяина дома, которыми тот потчует собравшихся: «здравствуйте пожалуйста», «он не имеет никакого римского права», «большинский роман» и др. Или, скажем, обращение хозяйки дома к человеку, которого она впервые видит: «Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит». И тем не менее Старцеву все-таки слушать
было «приятно
, удобно», несмотря на то, что он замечает и бездарность романов матери, и бездарность игры Котика. Длинный и скучный роман Веры Иосифовны будит какие-то смутные, но «хорошие» мысли. Шумная и однообразная игра Котика увлекает, а сама Котик восхищает его. И даже нудные, плоские остроты Туркина и нелепое выступление Павы не «раздражают» (как будет позднее), а «занимают» его.
Это неудивительно: молодой, умный, немного уставший от года утомительной и однообразной работы врач отдыхает в мягких и уютных креслах, ему нравятся и разговоры, и сама Екатерина Ивановна: «После зимы, проведённой в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, — было так приятно, так ново…»
Его восприятие Туркиных — это своего рода зеркало его самого, молодого, доброжелательного, жизнерадостного земского врача, к тому же изрядно соскучившегося в своем захолустье по интеллигентному обществу. Он увидел интеллигентных людей, домашний уют, хорошо сервированный стол, вкусный ужин, услышал веселые разговоры, звуки рояля, — словом, то, чего в Дялиже не было, — и все показалось ему ново, интересно и занимательно. А самое глазное, что привело его в восторг, — это прелестное, обаятельное существо, обещающее так много, много радости впереди.
У Туркиных всё подчинено заранее установленному распорядку, все действия хозяев давно отрепетированы и рассчитаны на определённый эффект: здесь угощают и вкусным обедом, и красивой дочерью, и музыкой, и романами. И вот свежий человек, попадая под действие этого ритма, сам не замечает, как оказывается во власти всей атмосферы, царящей здесь. Старцев начинает поддаваться общему настроению. «Прекрасно!» — повторяет он за всеми, хваля игру Котика. Первая встреча Ионыча с семьей Ивана Петровича проходит мирно и благополучно. Глядя на мальчика-лакея, он думает: «Занятно», а вернувшись домой, смеется, вспоминая словечко хозяина «недурственно». Пошлость постепенно обволакивает, завораживает человека, лишает его сил к сопротивлению, подчиняет себе. И всё это происходит в уютной обстановке, и совсем не страшно. Внутреннее состояние свежего человека явно контрастирует с неестественной, позерской «интеллигентностью» провинциальной семьи).
— Каким изображен
Старцев в конце I главы?
(
Вся первая глава, где главное место отведено демонстрации туркинских талантов и стиля их дома, куда больше «изображает» самого Старцева, его
«весну», молодость, подвижность, энергию, наивность, доброжелательность, упоение редко выпадающими
на его долю часом отдыха, уютом, культурной обстановкой. Запах сирени за окном, отголоски песен навевают элегическую грусть. И восторг от встречи с юной девушкой, и ощущение собственной молодости — всё это делает Старцева счастливым. Простившись с Туркиными, он ещё «зашёл в ресторан и выпил пива», а потом уже отправился в Дялиж. Посещение Туркиных вызвало у Старцева прилив сил, недаром он, возбуждённый и радостный, весь охваченный сладкой истомой весенней ночи, всю обратную дорогу напевал романс А. Рубинштейна на стихи А. С. Пушкина «Ночь»: «Твой голос для меня, и ласковый, и томный…». Придя домой, он не чувствует ни малейшей усталости, а, наоборот, в приливе бодрости готов так шагать и петь еще двадцать вёрст. Наконец, он ложится спать, но в его дремлющем воображении возникают впечатления дня, и он смеётся, засыпая).
—
Как же сумел передать автор весь этот аромат молодости?
(Вся первая глава наполнена весенней свежестью, запахом сирени, ожиданием счастья: и тенистый сад, где «весной поют соловьи и цветут сирени», и весенний праздничный день, и юная девушка, в которой всё «говорит о весне, о настоящей весне», и песни и смех с улицы, и хор песенников в городском саду, и звуки рояля в доме, и чувствительные романсы, и весенняя ночь — всё, что связано с молодостью. Поистине перед нами весна жизни).
— Каким изображен Старцев в начале II главы?
(
Вторую главу отделяет от первой довольно большое временное расстояние:
«Прошло больше года».
«Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве…» Одно то, что Старцев после первого посещения не был у Туркиных все это время («никак не мог выбрать свободного часа»), говорит и о том, что он продолжал быть захваченным своей врачебной деятельностью, и о том, что эта «самая образованная и талантливая» семья не произвела на него столь неотразимого впечатления, как на городских обывателей.
Его работа была так увлекательна
, что трудно было от нее оторваться и жаль пожертвовать хотя бы одним часом ради маленького, личного, своего.
Но молодость брала своё,
одиночество сказывалась, и Старцев посетил Туркиных второй раз лишь после специального приглашения его как врача. И с тех пор он «стал бывать у Туркиных часто, очень часто». Уже в этих эмоционально окрашенных словах передано состояние взволнованности, увлеченности Старцева. Налицо завязка любовного романа с Котиком — начало нового этапа его жизни.
В начале II главы отведено место и восходящей линии благополучия доктора: Вера Иосифовна «всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор». Это было начало его репутации в обществе, верный залог широкой практики в будущем. Старцев поднялся ещё на одну ступень житейского благополучия, автор как бы поставил ещё одну веху на жизненном пути героя: «у него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке»).
— Как изображено развитие чувства Старцева к Котику?
(
Любовь героя расцветает с каждым днём, как расцветает и он сам. Перед нами «земский доктор, умный и солидный человек», делающий большое, нужное дело. Голова его полна высоких стремлений, а сердце полно любви. Он ищет встреч наедине, сердечных разговоров, его язык — язык любви: «умоляю Вас», «заклинаю Вас», «не мучайте меня», «если бы Вы знали, какое это страдание!..»)
— Как течет время на протяжении рассказа о любви Старцева к Котику?
(Взлет чувств молодого человека достигает своего апогея в течение почти двух суток: день в семье Туркиных, ночь в ожидании свиданья, следующий день — вечер у Туркиных, позже в клубе. За этот краткий период мучительно долго тянется для Старцева время. Теперь оно отсчитывается не годами, а минутами. «Дайте мне хоть четверть часа, умоляю Вас!» — говорит доктор Котику. И далее: «Побудьте со мной хоть пять минут!» С провинциальным мирком, где все не знают, чем себя занять, такое «летящее» состояние несовместимо. А однообразный фон, на котором оно возникает, усиливает ощущение этой несовместимости).
— Как Старцев относился к Котику во время своей любви?
(
«Она восхищала его своей свежестью, наивным выражением глаз, щёк. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией…» В пленительном чаду любви Старцев не видел истины и не мог понять, что перед ним самая заурядная, уездная барышня, капризная и избалованная, привлекательная только всепобеждающей прелестью молодости, а не друг и даже не настоящий собеседник, которому можно открыть свою душу. Он не замечал её легкомыслия, расточал перед ней сокровища своего ума и сердца. «С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чём угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей», и, очарованный, слушал её наивный лепет, наслаждаясь больше звуком её голоса, чем смыслом её речей. «Я страстно жажду Вашего голоса. Говорите». Ради одного этого он прощал ей всё: и ее оскорбительную невнимательность («во время серьёзного разговора, случалось, она «вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом»), и её неуместные замечания («а как смешно звали Писемского — Алексей Феофилактыч»). Он страдал, ища свидания наедине, а она продолжала «по три, по четыре часа» играть на рояле и принимала тех же гостей. Именно в это время герой переживает единственный для себя эмоциональный подъем: восторгается природой, любит людей, Екатерину Ивановну наделяет лучшими качествами: «она казалась ему очень умной и развитой не по летам». Словом «казалась» доносится очень важный нюанс в отношениях главных героев. Читатель видит ограниченность Котика, скуку, царящую в ее доме, и понимает, что Старцев заблуждается, надумывает образ девушки. Однако возрастающая влюбленность в Котика еще более отличает Старцева от томительно ординарных людей).
Ученица читает отрывок из II главы «Старцев на кладбище» под аккомпанемент «Осенней песни» П. И. Чайковского «Времена года».
Ученица анализирует эпизод «Старцев на кладбище».
Кладбище издали представляется ему большим садом, залитым мягким лунным светом. Вначале в сознании героя возникает мотив уходящего времени: время бежит неумолимо, человек не успеет оглянуться — а жизнь уже прошла. Затем перед Старцевым мир открылся таким, каким он его никогда не видел: его «поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь колыбель его, где нет жизни… но в каждом тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную». Старцева потрясает эта картина, и в его возбуждённом сознании возникают и, подобно причудливой игре белого и чёрного вокруг него, также причудливо переплетаются мысли о бытии и небытии, о жизни и смерти, о примирении и отчаянии, и все разрешается проникновением в тайну, «обещающую жизнь тихую, прекрасную, вечную», но не «там», где-то в загадочном мире небытия, а «здесь», на земле.
Поэтическая картина ночного кладбища резко контрастирует с любовью Старцева. В этом мире, где все овеяно тайной, вечностью, «прощением, печалью и покоем», Старцев не смог сберечь появившееся у него в первые минуты настроение светлой грусти. Вскоре он почувствовал страх, вообразил себя зарытым, «ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние…». И этот необычный мир вызывает в душе Старцева бурю чувств, страстных, земных, не желающих мириться с покоем умерших. В сущности, это бунт против скучной и одинокой его жизни. Мысли о вечном покое сменяются картинами страстной любви, поцелуев, объятий, возникающих в разгоряченном воображении героя. И Старцеву начинает казаться, что всё кругом оживает: загорается давно угасшая лампадка на могиле Деметти, пустынный мир населяется очаровательными призраками, а из-за ветвей «кто-то смотрит на него», им овладевает жажда земной любви, «точно лунный свет подогревал в нём эту страсть». В Старцеве, истомлённом быстрой и мучительной сменой надежд и сомнений, пробудилась страсть, словно подогретая лунным светом (ведь он приехал на свидание!): он «рисовал в воображении поцелуи, объятия», «ему хотелось закричать, что он хочет, что ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела». В этой страсти, томившей Старцева среди могил, нет ничего предосудительного. Но она здесь так же неуместна, как его шаги, которые раздавались «так резко и некстати». В сущности, перед нами человек с недостаточно чуткой душой, способный на кладбище воображать страстные объятия.
Но слаб и недолговечен этот порыв. Эта вспышка, взлёт чувств угасает вместе с лунным светом, всё исчезает, становится приземленным, пошлым. Проходят минуты, Котика, конечно, нет, все, что ему привиделось, примечталось на кладбище, исчезает, как мираж: «И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом». Эта строка заключает прямой смысл: луна спряталась, вокруг потемнело; и вместе с этим прямым смыслом мы улавливаем и другой: не только кругом, но в душе самого Ионыча потемнело, угас какой-то светлый огонек. Слова «точно опустился занавес» имеют еще один образно-смысловой оттенок: все, о чем мечтал Ионыч, кончилось, как представление, как спектакль. Теперь огни рампы выключены, герой возвращается к жизни, как она есть, без затей, с кучером Пантелеймоном в бархатной жилетке и коляской, в которой сидеть так же удобно, как и в гостиной Туркиных. Любовь, привидевшаяся, словно даже приснившаяся Ионычу ночью на кладбище, — что-то хрупкое, ненадежное, ненастоящее и быстро исчезающее. В ней что-то от представления, от неправдоподобного искусства. Иллюзия окончилась, закрылась самая вдохновенная страница жизни Старцева, и действительность вступила в свои права. «Уже было темно, как в осеннюю ночь», и Старцев «часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей». Он, только что переживший прекрасные, неповторимые в жизни минуты, с наслаждением сел в коляску! И каким диссонансом звучат его трезвые, такие прозаические слова и мысли: «Я устал…» — сказал он и подумал: «Ох, не надо бы полнеть». И читателю становится грустно, обидно и жаль того Старцева, который еще так недавно, в прекрасную весеннею ночь бодрой походкой шагал в Дялиж, беззаботно улыбаясь и напевая всю дорогу. И не хочется прощать ему ни его рассудительности, ни его солидности, и становится досадно при мысли, что он утратил прежнюю свежесть и непосредственность.
-Каким изображен Старцев в начале III главы?
(
Одни только сутки («На другой день вечером») отделяют события третьей главы от второй. Но эта новая глава в новелле — новый и переломный момент в жизни Старцева: начало заката его молодости, крах его веры в свое счастье («он не ожидал отказа»), охлаждение к своему делу, первые признаки душевной лени. Читателю уже ясно, что недалеко то время, когда серая действительность потушит его огонь, усыпит его совесть, озлобит и опустошит его душу. И сам Старцев новый — он полон противоречий, у него двоятся мысли и чувства. И композиция всей главы построена на быстрой смене настроений героя в столкновениях с мелочными препятствиями нудной, подчас пошлой и грубой действительности. Причём и в большом, и в малом Старцев без борьбы сдаёт свои позиции).
-Что в начале III главы мешает Старцеву сделать предложение Котику?
(«На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение», он горел нетерпением, но встретил самое неожиданное и странное препятствие: «Екатерину Ивановну причёсывал парикмахер» (?!). И «пришлось опять (как и вчера) долго сидеть в столовой, пить чай» и слушать вздор, который плёл Иван Петрович. Какая проза!)
— О чем думает в это время Старцев? Как это его характеризует?
(
Старцев думает о своём, но и его думы становятся серы и прозаичны. «А приданого они дадут, должно быть, не мало». Кто бы мог подумать, что после всего пережитого в эту ночь в голову Старцева забредут такие мысли? «После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал: «Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач… К тому же, если ты женишься на ней, то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе». «Ну, что ж? — думал он. — В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку…» В его душе спорят два голоса: но если раньше, перед поездкой на свидание, любовь помогала ему отбросить рассудительно-трезвенные доводы, то теперь голос любви звучит глуше, его перебивает голос рассудка).
— Какой изображена Екатерина Ивановна в сцене отказа Старцеву? Какие черты характера проявляет она здесь?
(
Наивная, горячая исповедь Екатерины Ивановны, повторяющей мысли, внушённые ей самим же Старцевым в долгих задушевных беседах под старым клёном, звучит гораздо сердечнее его любовных излияний. И сама она «с очень серьёзным выражением» лица, со слезами на глазах как-то вырастает перед нами. «Человек должен стремиться к высшей блестящей цели», — вдохновенно восклицает она, — «а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима». Эта молоденькая, наивная барышня, как мы узнаём дальше, действительно нашла в себе силы, несмотря на «припадки» матери и увещевания отца, уехать в консерваторию, чтобы посвятить свою жизнь любимому искусству. Правда, она ошиблась, но все-таки свершила решительный шаг, а Старцев остался. «Вы поймёте…», — заканчивает она, уверенная в полном единодушии. Она далека и от мысли, что Старцев способен на компромисс, она и не подозревает, какие мысли бродили в его голове несколько часов тому назад. «Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех», — искренне, убеждённо говорит она. Такой он и был когда-то, в первые дни знакомства, а она видела его таким и сейчас, таким он и останется в её воспоминаниях. Она одна пронесёт в своём сердце его образ высоким и чистым, каким бы хотел видеть его автор, и одна из всех так и не заметит в нём тех ужасных разрушений, которые произведёт время).
— Что
случилось со Старцевым после отказа Котика?
(
Екатерина Ивановна не принимает предложения Старцева. И что же? А ничего — характерное, чисто чеховское «ничего».
Герой не пытается отстаивать свою любовь
, он возвращается к прежнему обычному существованию. «У Старцева перестало беспокойно биться сердце». «Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено», — вот и все. Но где же протест? Где борьба за счастье? Нельзя же считать выражением протеста то, что «он прежде всего сорвал с себя жёсткий галстук и вздохнул всей грудью…»)
— Как относится Чехов к поведению Старцева после отказа Котика?
(Автор не может скрыть своей затаённой досады на своего героя, она проглядывает даже сквозь тёплые лирические строки горестных размышлений Старцева: «И не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле». Что-то мелкое, жалкое слышится в этом сравнении: «И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона». Не оскорбительно ли звучит это совершенно неожиданное сопоставление — «зарыдал» или «хватил»! Его объяснение проходит на фоне грубой, неуютной жизни города С., от которой негде укрыться. Олицетворением этой непробиваемой тупости, сытости и благополучия для молодого врача является кучер Пантелеймон, и в то же время Пантелеймон — это частичка его собственного «я», в которой сосредоточено всё, что было в ней мелкого и пошлого. Хватить его зонтиком по спине — всё равно что ударить по самому себе, попытаться нарушить устоявшийся уклад собственной жизни. Но на это Старцев не способен: время взяло своё).
— Долго ли переживал Старцев после отказа Котика?
(
«Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал…» Только три дня! Не он ли только что говорил: «Любовь моя безгранична» (?!). А когда до него дошёл слух (видимо, сам он не пытался непосредственно узнать о ней), что Екатерина Ивановна уехала в Москву, он успокоился и зажил по-прежнему).
Что же из пережитого в этот тревожный и знаменательный в его жизни день сохранилось в памяти Старцева? И часто ли он вспоминал этот день
?
(
«Иногда, вспоминая, как он бродил по кладбищу, или как он ездил по городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил: «Сколько хлопот, однако!» Память сохранила только хлопоты, а всё пережитое ночью на кладбище больше не шевелилось ни в его ленивом мозгу, ни в его опустевшем сердце. Всё это вместе с молодостью ушло навсегда в невозвратное прошлое. Старцев вступил в новую фазу).
— Почему не состоялась любовь Ионыча и Котика?
(
Любовь Ионыча и Котика, двух интеллигентных людей, чувствовавших симпатию друг к другу, не состоялась в начале повести потому, что героиня боялась обычной семейной жизни, хотела чего-то другого, необыкновенного. Она высокомерно отвергла предложение Старцева, мотивируя это тем, что создана для искусства, что хочет быть артисткой, хочет славы, успехов, свободы и не представляет себя в качестве жены. Среда мельчила, опошляла человеческие чувства. Воспитание в семье Туркиных не могло не внушить Котику легкомыслия, необоснованных претензий и т. п. Нравственная слабость Старцева, трусость загубили любовь еще в самом начале, а стремительное опошление довершило губительный процесс, — оно отразилось и на судьбе Екатерины Ивановны).
—
Но что бы приобрела Екатерина Ивановна, выйдя замуж за Старцева?
(Мы не можем, конечно, знать, как сложилась бы жизнь супругов Старцевых. Но любовь, которой «пылал» Ионыч, не сулит ничего хорошего. Любовь, соединенная с размышлениями о размере приданого, с сомнениями: «Что скажут товарищи, когда узнают?», сердечное страдание, утихающее за три дня, — все это выглядит чуть-чуть смешно, чуть-чуть убого и свидетельствует о ненастоящем чувстве Ионыча).
— Каким изображен Старцев в IV главе?
(Через четыре года Старцев «выезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками», пополнел, раздобрел, неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. «Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже [это дело второстепенное], потом уезжал к городским больным [это главное!]». Старцев все дальше отходит от земской больницы. Его внимание поглощает большая частная практика и подсчет дневного гонорара. Свои свободные часы он уже отдает еде, картам и деньгам).
-Как характеризует Старцева его увлечение — рассматривание и подсчет денежных купюр, заработанных за день?
(
Это увлечение — рассматривание и подсчет денежных купюр, заработанных за день, — говорит и о расширившейся частной практике Старцева, и о его равнодушии к тому, откуда именно стекаются деньги в его карманы (без разбора от людей разных профессий и положений — из дворянских, купеческих домов или изб городской бедноты), и о невнимательности Ионыча как врача, торопливости, с которой объезжает он своих пациентов).
— Как Старцев относится к обывателям в IV главе? Как это его характеризует?
(За четыре года Старцев растерял все, что отличало его от обывателей города С. Старцев не выделяется среди горожан, хотя они «своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его». Он ни с кем не сходился близко, избегал бесед о «чем-нибудь несъедобном» с обывателями, избегал таких развлечений, как театр и концерты, только молча закусывал и с удовольствием играл в винт. Старцев с отвращением слушал тупые и злые речи обывателей, «и всё было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но всегда сурово молчал и глядел в тарелку», и за это «его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был» (злость обывателей всегда ищет националистического оправдания). Конечно, выступать с гневными речами в кругу тупых и злобных мещан было бессмысленно. Но вся беда в том, что Старцев терпел, свыкался, смирялся. Постепенно растёт его озлобление против мира обывательской пошлости, правда, оно не вырастает в открытый протест, а оседает в глубине его души, делая Старцева угрюмым и нелюдимым. Все это время его угнетала обывательская тупость, ограниченность, пошлость. Теперь Старцев сознательно противопоставляет себя провинциальному обществу, потому что стремится отгородиться от любых влияний, жить «одним развлечением» — считать полученные от клиентов деньги. Возмущение обывательщиной толкает его в объятия той же среды. Мещанские потребности между тем сближают его с обывателями. Жалуясь на окружающую среду, он мирится с нею. Его интересы становятся такими же, как и интересы других обывателей: он охотно играет по вечерам в карты, а придя домой, с удовольствием считает деньги, полученные от больных).
— Что же осталось от прежнего Старцева и что изменилось в нем за прошедшие четыре года?
(
Остался прежде всего его трезвый ум, укреплённый годами и жизненным опытом, тот ум, который так высоко ценила Котик. Ум, как и прежде, ставил его намного выше окружающей среды обывателей, но не толкал его на протест, на борьбу с их «тупой и злой» философией, а только озлоблял против людей, вызывал презрение к ним и охлаждал к жизни. И Старцев потерял вкус к жизни!
Остались и его убеждения, так пленившие Котика, но они ни в ком больше не встречали ни отклика, ни сочувствия — и он похоронил их в глубоких тайниках души и не любил заглядывать туда. Старцев на все стал смотреть равнодушно.
Осталось и его трудолюбие, за которое так уважала его Котик, но оно стимулировалось теперь не возвышенными стремлениями быть полезным людям, а низменными интересами наживы от этих людей. И Старцев охладел к настоящему делу.
Осталась и его энергия, которая заражала Котика, но она была пущена теперь на холостой ход, обратившись в лихорадочную суету в погоне за наживой.
Осталась у него и способность «наслаждаться», но чем? В молодости он наслаждался природой, беседами с Котиком, любовью к ней, позднее — удобствами, а теперь пороками: обжорством, игрой в карты и накоплением денег).
Вот каким предстал Старцев перед Котиком после четырёхлетней разлуки. За все четыре года Старцев не видел Екатерину Ивановну ни разу, хотя она каждое лето приезжала домой, но как-то не случалось встретиться. Очевидно, что Старцев и не искал этого случая. «Но вот прошло четыре года», — повторяет автор, возвращаясь к изложению событий. «В одно тихое, тёплое утро в больницу принесли письмо», в котором Вера Иосифовна просила «облегчить её страдания», совсем как когда-то давно. Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.
— Что увидел Ионыч у Туркиных спустя четыре года?
(
Когда после долгого перерыва он снова посетил Туркиных, то нашел все то же, зато воспринял это с досадливой скукой и неприязнью: «А, здравствуйте, пожалуйста!» — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. «Бонжурте» — совсем как тогда.
Потом, манерно вздохнув, пошутила Вера Иосифовна: «Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной», — словно продолжила вчерашний разговор. Потом «пили чай со сладким пирогом», а тогда «с вареньем, мёдом и конфетами». «Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.
«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».
— Недурственно, — сказал Иван Петрович.
Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею. «А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев».
А на прощанье «изображал» Пава, теперь уже «молодой человек с усами».
Читаешь эти повторяющиеся «потом», «потом», и начинает казаться, что перечитываешь вновь уже прочитанные страницы, что события вернулись назад и будут повторяться в том же порядке. Неужели время ничего не сделало с семьёй Туркиных? «Самая талантливая семья» Туркиных изменилась лишь внешне. Вера Иосифовна, к концу повествования «сильно постаревшая, с белыми волосами…». Лакей Павел (Пава), которого не устает демонстрировать гостям хозяин, из 14-летнего мальчика превратился в усатого мужчину. Котик сначала потеряла «прежнюю свежесть и выражение детской наивности», а затем «заметно постарела». Но в течение долгих лет все они продолжают жить по-прежнему. Почти символом этой общей неподвижности воспринимается неизменно бравый вид главы семьи Ивана Петровича, произносящего одни и те же плоские шутки. Но программа жизни в доме Туркиных осталась та же, словно давно надоевшая граммофонная пластинка. Она повторяется и, что всего ужаснее, так и будет повторяться, пока не кончится сама жизнь в этом доме).
— Как изменилась Екатерина Ивановна?
(
«А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она не чувствовала себя дома». Да, это не балованный Котик, а женщина, уже испившая «слез из чаши бытия», если вспомнить наивный романс, который пел молодой Старцев, и вносящая свой, горький, но искренний человеческий звук в монотонное стрекотание механизма этого игрушечного дома. Она стала более зрелой, серьезной, поняла, что пианисткой ей не быть, на этот счет она уже перестанет заблуждаться: «Я такая же пианистка, как мама писательница…» Но вместе с крахом мечты об искусстве, о славе, в ее душе пробудился тот интерес, влечение, симпатия к Ионычу, которые раньше она, упоенная мыслями о музыке, в себе заглушала. У Екатерины Ивановны осталась лишь одна иллюзия, с которой ей тоже приходится расстаться, — это любовь Старцева. Когда они снова встречаются, она «пристально, с любопытством» смотрит ему в лицо, словно пытаясь разглядеть того, прежнего Ионыча, который умолял ее выйти с ним в сад и так доверчиво понесся на свидание. Но перед нею уже другой человек, которому «не нравились ее бледность, новое выражение лица, слабая улыбка». Старцев же сразу почувствовал, что перед ним не прежняя Котик, а совсем новая: это была уже Екатерина Ивановна. И хотя она ему и теперь нравилась, но «чего-то недоставало в ней, или что-то было лишнее», что-то «мешало ему чувствовать, как прежде». Он недоумевал, не находя оправдания своей холодности, и переносил свою досаду на бледность её лица, на её голос, потом на платье, на кресло и, наконец, на всё, что её окружало. Старцеву было не по себе от воспоминаний «о своей любви, о мечтах и надеждах», которые когда-то волновали его, и он опасливо ограждал себя от них: «А хорошо, что я на ней не женился». И он молчал, упорно молчал).
— Как изменились роли героев во время их последнего свидания?
(
Теперь Екатерина Ивановна и Дмитрий Ионыч как будто переменились ролями. Прежде отвергнувшая его Екатерина Ивановна, вернувшись домой после краха своих несбывшихся артистических надежд, полна благодарных воспоминаний о том, кем прежде с эгоизмом юности пренебрегала. Екатерина Ивановна волновалась, пытливо смотрела ему в глаза, «ждала, что он предложит ей пойти в сад», продолжить прерванный четыре года назад разговор, и она опять услышит последние волшебные слова: «любовь моя безгранична… Прошу, умоляю вас — будьте моей женою!» Эти слова всё ещё звучали в её сердце, и ни время, ни жизненные разочарования не заглушили их. В горестные минуты сомнений и одиночества они будили смутную надежду на счастье. Екатерина Ивановна часто думала о Старцеве и в Москве, и, приехав домой, она все дни думала о нём, и волновалась, и хотела сама поехать к нему, и хотела послать ему письмо. Екатерина Ивановна томилась, страдала, она хотела говорить с ним наедине, но Старцев молчал. И она сама позвала его в сад, позвала теми же словами, какими звал её он четыре года назад: «Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!.. Я не видел вас целую неделю… Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться…», — говорил «весенний» Старцев. И, как эхо этих признаний, слышит он теперь почти дословно повторенные свои прежние влюбленные мольбы: «Я все эти дни думала о вас… Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад… Мне необходимо поговорить с вами». Она пропустила пять слов: «Умоляю вас, не мучайте меня», но её взгляд досказал их).
— В чем сходство и отличие этого пейзажа с пейзажем во II главе?
(В этом пейзаже — снова отголосок былого, пережитого и в то же время отчетливое ощущение совершившейся перемены: когда-то была «весна», потом «рано смеркалось», теперь — «темно». Темно и в душе Ионыча. Кладбище, залитое лунным светом, представлялось влюбленному Старцеву большим садом. А теперь, когда они вышли в сад, сели на любимую скамью — все для него мертво и уже сад кажется кладбищем).
Волна воспоминаний о лучших днях нахлынула на Старцева. «И он вспомнил всё, что было, все малейшие подробности».
О чем вспомнил Старцев во время последнего свидания с Котиком?
(В темноте он разглядел её «блестящие глаза», почувствовал её близость, и перед ним предстала прежняя Котик с «детским выражением лица». Перед ним, так близко к нему, снова была его милая собеседница, его лучший друг, единственный человек, которому он мог открыть свою душу. Воображение живо нарисовало ему картину их прощального вечера: и Котика в бальном платье, и его восторг, и её испуг, и его поцелуи и её внезапное исчезновение, он даже вспомнил, что тогда шёл дождь и было темно, как сейчас. «Огонёк всё разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь», на людей, совсем как тогда. И вначале Котик нравилась ему тем, что он мог «жаловаться ей на жизнь, на людей». Чехов незаметно подчеркивает в своем герое одну внешне малозначительную, а на самом деле решающую черту: Ионыч все жаловался, все только жаловался. А теперь, во время их последнего разговора, вместе с разгорающимся «огоньком» приходит чувство недовольства жизнью как она есть, как она течет изо дня в день: «Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь, — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?»)
— Как Екатерина Ивановна отнеслась к словам Старцева? Каким он представлялся ей в мечтах?
(
Екатерина Ивановна теперь яснее, чем прежде, понимала его слова, внимательнее слушала его, была полна сочувствия и тревоги за любимого человека; ей и в голову не приходило сливать Старцева с грубой, пошлой, мелочной средой, на которую он жаловался. Он, как и прежде, в ее глазах был выше этой среды, и его слова звучали для неё как протест серой обывательщине).
— На какой-то миг герои нашли общий язык, испытали общее чувство
: она захотела любви, которую прежде оттолкнула, а он вспомнил о прошлом. Она освободилась от самогипноза артистической карьеры, а в его душе, очерствевшей и сытой, вдруг затеплился тревожный и радостный огонек. Казалось, ещё одно слово — и они поймут друг друга, простят и пойдут рука об руку работать, забыв навсегда «пустую, бесполезную жизнь в этом городе». Любовь и радостный, созидательный труд искупят их ошибки, заблуждения и даже пороки, очистят их и сделают достойными того большого, настоящего счастья, о котором всегда мечтал Чехов, картины которого четыре года назад с таким увлечением рисовал Старцев и в возможность которого с таким же увлечением верила Котик тогда и продолжала верить Екатерина Ивановна — теперь.
— Что говорит Екатерина Ивановна Ионычу? Как это ее характеризует?
(
Екатерина Ивановна возражает Ионычу, его горьким жалобам на жизнь: «Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице». Перед нами как будто бы уже совсем другой человек, многое понявший, прозревший. У нее хватило трезвости и силы понять, что она не пианистка, как мама не писательница. Но она не в силах освободиться от слепой наивности, думая об Ионыче. Ведь эти со слова об идеальном служении, помощи «страдальцам» — почти цитата из того же маминого романа, где молодая графиня устраивала у себя в деревне «школы, больницы, библиотеки». Прозревшая Екатерина Ивановна все равно осталась милым, бедным Котиком, дочкой своих родителей, порождением своей среды. Она гордилась своим избранником и с увлечением рисовала eгo идеальный портрет: «Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным…»)
— Почему Старцев отвергает любовь Екатерины Ивановны?
(
Старцев не мог больше оставаться с Екатериной Ивановной наедине: её слова тревожили его совесть, побуждали к какому-то действию и хуже всяких упрёков разоблачали бессилие его воли, его душевное опустошение, его моральное падение… И когда Старцев «увидел при вечернем освещении её лицо и грустные, благодарные глаза», он опять ничего не мог сказать, он только подумал: «А хорошо, что я тогда не женился». Его охватило беспокойство, он смутно понимал, что перед ним голос его совести, его судья, который призывает его к решительному ответу. Он не мог выдержать этого испытания и «стал прощаться» — прощаться навсегда. Его беспокойство перешло в раздражение на всех и на все, и даже прощальный взгляд на «тёмный сад и дом, которые были ему так милы и дороги когда-то», не смягчил его горечи и не успокоил его.
Старцев оскорбляет чувство Екатерины Ивановны своим невниманием: не отвечает на записку, передает небрежно через лакея: «Приеду, скажи, так дня через три». И не выполняет своего обещания. Он перестает бывать у Туркиных, несмотря на настойчивые приглашения бывшей возлюбленной: они теперь только раздражают его).
«И больше уж он никогда не бывал у Туркиных». Так закончил автор последнюю страницу романа Старцева с Котиком и четвёртую главу новеллы. В ней подведены все итоги, но в ней же поставлены и все вопросы. Но почему развязка романа не привела к желанному концу? Почему Старцев разлюбил свое дело? Что было причиной оскудения мысли у чувств Старцева? На все эти вопросы автор ответил в пятой главе — эпилоге новеллы.
Прослушивание в аудиозаписи отрывка из V главы рассказа «Ионыч»: «Прошло еще несколько лет… — …Вот и все, что можно сказать про него».
— Каким изображен Ионыч в V главе?
(Пятая глава, как и предыдущая, начинается с указания срока: «Прошло ещё несколько лет», и дальше автор подводит итог жизни Ионыча — это «глухая тоска небытия», медленное умирание. Примерно к 35-36 годам герой превратился из Дмитрия Старцева в Ионыча — ожирел, потерял совесть и стал похож не на человека, а на языческого бога.
Жизнь Ионыча окончательно опустошена и обеднена, лишена событий. Он разбогател, располнел и обрюзг. «Старцев ещё больше пополнел, ожирел, тяжело дышит… вытирает пот со лба… ходит, откинув назад голову… вероятно, оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким, резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжёлым, раздражительным». Свои способности и энергию он направляет на бессмысленное накопление денег и приобретение домов, которые ему совершенно не нужны («уже есть имение и два дома в городе, он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее»). Увлечение в молодости любимым делом, желание приносить общественную пользу вырождается в эгоистические хлопоты, интерес к людям — в полную нечувствительность.
Важность, жадность и грубость развились в нем до уродливых размеров. «У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там». Бесцеремонно, не обращая внимания на людей, входит он в квартиры покупаемых домов, раздраженно кричит на своих пациентов. Поэзия почти совершенно исчезает из его жизни, единственной радостью в которой за все это время была ставшая воспоминанием любовь к Екатерине Ивановне. «Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует». «По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает». То, что Ионыч — «один за большим столом» — это воплощение его жадности, одиночества, мизантропии. «И возвращается домой поздно ночью». Таков уклад его жизни.
Старцев приобрёл для себя богатство, но потерял в себе человека, а вместе с этим утратил и своё имя: «В Дялиже и в гoродe eгo зовут просто «Ионычем». Какая бездна падения человека! С каждой главой становится всё яснее и яснее, что жизнь героя должна будет завершиться неизбежным роковым финалом. Чем выше поднимался он вверх — к обогащению кармана, тем ниже опускался вниз к обнищанию духа
Рассказ завершается картиной полного падения Ионыча. Раньше его пугала и коробила грубость окружающей жизни. Теперь он сам олицетворение этой грубости. Характерная деталь: мы помним, как после поцелуя в коляске раздался «отвратительный голос» городового, кричавшего на кучера Пантелеймона. Теперь сам Пантелеймон, как Ионыч, пухлый, красный, грубо кричит встречным: «Прррава держи!» Постепенно Ионыч потерял человеческий облик: когда он, «пухлый, красный», едет на своей тройке, «кажется, что едет не человек, а языческий бог».
Старцев всю жизнь работает («У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть»). Но деятельность, лишенная высокой цели, оказывается пагубной и для труженика-интеллигента. Он гибнет, сохраняя понимание происходящего. И как опытный врач, наверное, мог бы поставить себе диагноз: разрушение личности в результате утраты светлых жизненных целей, смысла, высокой цели жизни.
Ионыч гибнет, опускается, но он сам знает о своей трагедии. И как бы подводя окончательный итог его жизни, Чехов пишет: «Вот и всё, что можно сказать про него»).
—
Вспоминает ли Ионыч о своей любви к Котику?
(«За все время, пока он живёт в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней». Но и она не смогла оставить в его душе светлого, отрадного следа, он не смог уберечь в памяти неприкосновенным даже этого «единственного» и неповторимого в жизни чувства — он опошлил и его: «Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепианах?» Не то у него и память, как горло, заплыла жиром и не сохранила самую драгоценную страницу жизни, не то он хочет злобно высмеять эту страницу, унизить и само это воспоминание, и героиню своего молодого романа).
Так автор замыкает круг жизни своего героя. Она прошла среди утомительной работы и мелких дел, среди скуки и пошлой повседневной суеты. Город встретил Дмитрия Ионыча молодым, полным сил, опутал его тиной мелочей, из которой нет возврата, превратил просто в Ионыча.
И Навсегда прощаясь со своим героем, Чехов заканчивает рассказ упоминанием о Туркиных: «А Туркины?» Эта грустная и добрая интонация нам уже знакома: «А Котик?» И тут и там она — преддверие иного отношения, переоценки.
«Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:
— Прощайте, пожалуйста! И машет платком».
— Каким изображен Иван Петрович в конце рассказа? Как Чехов относится к Туркиным в этом эпизоде?
(Даже в Иване Петровиче с его привычно-обкатанной речью, однообразно смеющимися глазами, надоедливыми словечками есть какой-то человеческий просвет. Он любит своих родных; провожая жену и дочь на вокзале, «когда трогается поезд, утирает слезы и кричит: — Прощайте, пожалуйста! И машет платком». Конечно, это в чем-то по-прежнему смешно, но еще более — страшно: жизнь разбита — а из груди все рвется гаерское «Прощайте, пожалуйста!», приросшее, как маска к лицу в страшном рассказе, и только слезы вдруг смывают «грим» и обнаруживают живое, страдающее человеческое лицо, лицо жизни, искаженное болью, а не скованное мертвым покоем или машинальной звериною алчностью. В этих последних словах повести не только насмешка, но даже какая-то тень авторского сочувствия, соболезнования персонажу, который мог бы быть человеком, если бы не тусклая, однообразная обывательская жизнь).
— Можно ли сказать, что Ионыч опустился до туркинской среды?
(Нет, он хуже Туркиных. Иван Петрович Туркин каким был, таким и остался. Он, если можно так сказать, равен самому себе. А Ионыч отрекся от своей культурности, интеллигентности, от своего дела и от своей любви).
—
Как менялось отношение Чехова к Ионычу на протяжении рассказа?
(В рассказе среда наступала на героя, и, чем больше он мирился с ней, тем больше отступался от него автор, тем резче судил его. Чехов беспощаден к Ионычу — уже не человеку, а распухшему существу с горлом, заплывшим жиром, уже не помнящему ни о чем, кроме денег. По отзывам современников, Чехов как врач чутко и внимательно относился к больным. Поэтому он так сурово осуждает грубость Старцева по отношению к пациентам).
Вывод учителя:
итак, внимательное чтение текста убеждает нас, читателей, в том, что художественная мысль Чухова движестя в рассказе от частного к общему: судьба Старцева, превратившегося в Ионыча, — проявление общей неустроенности. Писатель показывает, что решение неустроенности, личных проблем невозможно без решения проблем общественных. Автор мастерски изображает нравственное изображение человека. А началось все, казалось бы, с незначительных недостатков в характере героя: стремление к выгоде в любви, недостаточная чуткость к людям, раздражительность, непоследовательность в своих убеждения, неспособность их отстаивать, лень и нежелание бороться с пошлостью.
Бездуховная жизнь, на которую сознательно обрек себя Старцев, исключила его из числа живых людей, лишила способности думать и чувствовать. Из рассказа следует вывод: если человек подменяется сила обстоятельств и в нем постепенно гаснет способность к сопротивлению, приходит омертвление человеческой души – самое страшное возмездие, которое жизнь воздает за приспособленчество. Ограждение себя от активной жизни оборачивается для Старцева катастрофой: отступал перед действительностью, он всем своим существом врастает в зло, приходит к тем, от кого в начале уходит и кого ненавидит. В финале рассказа Старцев и Туркины откровенно поставлены рядом,уравнены между собой как люди, у которых одинаково не удалась жизнь: бессмыслены и безнравственны праздные затеи Туркиных, безнравственно и омерзительно бездушное стяжательство Ионыча.
Но все же создавая образ Старцева, Чехов ставит проблему личной ответственности человека за свою жизнь: ведь среда, воспитавшая и сформировавшая Ионыча, выдвинула и других людей, как врачи Кириллов (“Враги”) и Дымов (“Попрыгунья”). Образ Ионыча показывает, каким становится человек, если нет сопротивления пошлости, лени, мещанству, эгоизму.
5. Рефлексия:
Какие выразительные средства несут в рассказе “Ионыч” наибольшую художественно-эстетическую нагрузку и рассказывают основную мысль произведения?
Как используются художественные детали в раскрытии образа Старцева?
С помощью, каких изобразительных средств создается автором собирательный образ жителей города С.
Почему рассказ является протестом против разрушения человеческой личности?
Как вы понимете призыв: “Берегите в себе человека!”?
Как вы считаете: превращение Старцева в Ионыча является трагедией интеллигентного человека, не справившегося с окружающей обывательщиной, или же этого сатира, которая разоблачает слабого и безвольного героя?
6. Домашнее задание:
Написать сочинение-миниатюру на тему “Есть ли настоящая жизнь в рассказе “Ионыч”.
Проведите сравнительный анализ двух эпизодов: первое и последнее свидание Екатерины Ивановны и Старцева. На основе анализа докажите, что развитие Екатарины Ивановны шло по восходящей, а Старцева – по нисходящей линии. (Задания 1,2 на выбор).
Рассказ А.П. Чехова «Ионыч» опубликовали в «Ежемесячных литературных приложениях» к журналу «Нива» в том же 1898году, в котором он был написан. Это произведение нельзя отнести к определенной теме. В нем одновременно говорится о развитии человека и деградации его души. С одной стороны, Ионыч становится значительным человеком в городе, он состоятелен и обладает особым авторитетом, но, с другой – материальный достаток негативно сказывается на духовном становлении героя. В зависимости от того, какой вопрос при прочтении данного рассказа задаст себе читатель, его можно будет отнести к социальной теме (какую роль сыграло общество в становлении характера Ионыча?), психологии (может ли человек сопротивляться обществу?) или философии (почему герой избирает такой жизненный путь, не продолжает бороться?).
Из записных книжек и дневников автора литературоведы смогли воссоздать изначальный замысел писателя, который с опубликованным текстом имел как различия, так и сходства. Какова же изначальная мысль автора? Какие изменения претерпела его идея в процессе работы? Насколько кардинально она отличается от исходного материала? Что было, а что стало?
Изначально Чехов хотел написать рассказ, центром которого стала бы семья Филимоновых. Нетрудно понять, что это своеобразный прототип будущих Туркиных. В итоговой редакции были сохранены и главные черты членов этой семьи. В чем же тогда отличие? Оно заключается в том, что сначала в рассказе не было главного героя, то есть самого Ионыча. Что же это меняет? На первый взгляд тематика рассказа не претерпевает изменений: духовная нищета семьи Филимоновых (Туркиных). Но появление в произведении Старцева влечет за собой перемену в главной мысли произведения. Если изначально речь шла о душевной бедности одной конкретной семьи, то в конечной версии Туркины показаны лучшими в городе, что заставляет задуматься о том, какими же тогда являются остальные жители, и как общество этих людей изменило жизнь главного героя.
Смысл названия
Начиная читать рассказ Чехова, вы предполагаете, что в центре его внимания будет находиться семья Туркиных: дается подробное описание каждого ее члена с характером и привычками. Лишь позже читатель понимает, что название связано с главным героем. Ионыч – отчество Дмитрия. В его грубоватом звучании автор передает суть метаморфозы, которую претерпел врач. По отчеству люди фамильярно обращаются к тем, кого знают, но не больно-то уважают. Обычно так о человеке говорят за спиной, желая подчеркнуть короткое знакомство с ним или даже принизить. Все обитатели города интуитивно поняли, что перспективный молодой человек стал одним из них, мещанином и обывателем, который замкнулся в рутине дней, обрюзг и потерял свое предназначение. Если раньше он пользовался уважением, то к финалу стал рядовым жителем уездного города, серым и безликим.
Ионычем является Дмитрий Ионович Старцев. Выбранное заглавие делает акцент на прозвище героя, которое дается ему в конце рассказа. Именно в этом заключается смысл произведения. Выбрав рассказу данный заголовок, Чехов ставит перед читателем вопрос: «Как земский врач Старцев превратился в Ионыча?». Только о том читателе можно говорить, что он понял суть произведения, который смог найти в тексте ответ на данный вопрос.
Жанр, композиция, направление
Антон Павлович Чехов известен как автор пьес и малой прозы. Его произведение «Ионыч»- реалистический рассказ. Яркой чертой данного направления и главной темой «Ионыча» являются социальные проблемы, поднимаемые автором. Также о принадлежности к реализму свидетельствуют объективное описание и наличие типических характеров.
В произведении все всегда следует одной цели – воплощению мысли автора. Этому следует и композиция. Данный рассказ Чехова состоит из пяти глав. Таким образом, золотым сечением является третья глава. Она оказывается переломной для главного героя. В ней Старцев делает Кити предложение и оказывается отвергнутым. С этого момента начинается духовное падение героя.
Суть
Это рассказ о земском враче, который ходил пешком, занимался практикой и верил в любовь, но за несколько лет он превратился в «идола», владеющего собственной тройкой, располневшего обывателя, любимыми занятиями которого стали игры и пересчет денег.
Автор повествует о том, как при отсутствии возможности развития и желания самосовершенствования человек быстро привыкает к новому, более простому темпу жизни – деградации. Начав с амбициозных планов и благих намерений, герой опускает планку и упрощает жизнь, становясь обыкновенным мещанином с банальным набором ценностей: азартные игры, личное обогащение, хорошая репутация. Чехов размышляет и над причинами этого превращения. Сильное влияние на Старцева имела Котик. Возможно, если бы она не поступила с влюбленным Дмитрием Старцевым так жестоко, не стала бы насмехаться над его любовью, то все сложилось бы по-другому. Но это только догадки и предположения…
Главные герои и их характеристика
- Туркины
– «самая образованная семья». Живут они на главной улице губернского города С.. Все члены семьи обладают статичными характерами. Туркин Иван Петрович любит острить и рассказывать анекдоты. Он говорит на собственном языке, чтобы развлечь гостей. Его жена, Вера Иосифовна, пишет любовные романы и вечерами читает их гостям. Дочь Туркина, Екатерина Ивановна, или Котик, как ласково в кругу семьи ее называют, играет на фортепьяно. Она даже хотела поступить в консерваторию, но ничего не вышло. В доме Туркиных есть еще лакей Пава, который для поднятия настроения гостей театрально вскрикивает: «Умри, несчастная!». - Дмитрий Ионович Старцев
– талантливый доктор, который направился работать в город С после учебы. Это образованный, чуткий и стеснительный молодой человек, склонный все идеализировать. Он живет не в самом городе, а в нескольких верстах от него. Он влюбляется в Катерину, делает предложение, но получает отказ. Постепенно он меняется, становясь раздражительным, чёрствым и равнодушным ко всему. При описании этого героя важной чертой является деградация его характера на протяжении произведения. Она показана через несколько постоянных деталей: способ передвижения (пешком, пара, а затем тройка коней с бубенчиками), полнота, отношение к обществу и любовь к деньгам. Внешний облик героя является наглядным отображением обнищания его души.
Темы и проблемы
- Пошлость в «Ионыче»
— одно из основным тем. Старцев, привыкая к жизни в городе, только молча играл, пил, ел и пересчитывал дома деньги, он стал далек от своих бывших идеалов. Его жизненные цели опустились до ежедневных рутинных забот и стремления накопить капитал. Внутренняя деградация героя подчеркивается его внешними изменениями: «Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову». - Жизнь города.
Описание быта и нравов в городе, и, в частности, семьи Туркиных, связано с поднятием темы душевной нищеты людей. Какими нам представлены горожане? Как они коротают досуг? Об этом говорит сам главный герой. Ионыч рассказывает о своем времяпровождении Екатерине Ивановне. Из его слов об обычном дне мы можем ясно представить, как жители проводили свободное от работы время. Все однообразно, «жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей»: клуб, игра в карты, алкоголь. - Любовь.
О том, что было бы, если Котик согласилась выйти замуж за Старцева, можно только предполагать. Этого не случилось, и сам герой при последней встрече с Екатериной Ивановной был этому рад. Исходя из этого, можно говорить о том, что в его душе отмерло все, и даже столь сильное чувство, как любовь, не смогло пробудить его к жизни. Но если посмотреть иначе, то Екатерину Ивановну нельзя назвать необычной девушкой, способной пробудить великое чувство. В конце рассказа уже наученный жизнью Ионыч это понимает.
Идея
Несмотря на наличие нескольких тем в рассказе, в центре внимания стоит один вопрос — о взаимоотношении человека и общества. Никто не станет спорить, что Старцев к концу романа становится таким же бесцветным обывателем, как и любой гражданин города. При сравнении портрета героя, представленного в начале книги, с образом жизни и обликом Старцева в конце, становятся очевидными оскудение его души и исчезновение высоких стремлений. Если раньше в его планах фигурировало призвание, выражающееся в интересе к медицине, то к финалу стало ясно, что свое предназначение Дмитрий не выполнил. По Чехову, именно увлеченный, осознанный труд очищает и возвышает нас, выдергивая людей из суеты и пошлости мира вещей, быта и рутины. Теряя любовь к делу всей своей жизни, ленясь и смешиваясь с толпой никчемных зевак, Старцев изменяет своей мечте и теряет себя.
Автор подчеркивает пошлость героя при помощи деталей. Усиливает также это впечатление наличие у Старцева двойника – кучера Пантелеймона. Дополняя характеристики и описания Дмитрия Ионыча и изменений его образа жизни, это помогает создать в воображении читателя законченную картину.
Критика
Свое мнение о рассказе А.П. Чехова «Ионыч» высказали многие литературоведы, писатели и критики. Его довольно сложно обобщить, так как оно не является однозначным. Дмитрий Овсянико- Куликовский, литературовед и лингвист, написавший свой отзыв одним из первых, в «Этюдах о творчестве Чехова» отмечал необычность героя: он не противостоит обществу, а поддается его влиянию.
На таких писателей, как Киреев и Солженицын, большее впечатление произвел эпизод объяснения героев на кладбище, а не основная сюжетная линия. В связи с данной сценой, по их мнению, в рассказе поднимается тема отношения человека к смерти.
Встречаются также негативные отзывы на это произведение, в которых подчеркивается простота образов героев, их недостаточная открытость и детализация. Не меньше об этом рассказе и положительных рецензий. Слова Р. И. Сементковского отражают их общую мысль:
Прочтите последние произведения г. Чехова, и вы ужаснетесь той картине современного поколения, которую он нарисовал с свойственным ему мастерством.
Интересно? Сохрани у себя на стенке!
Тема: Деградация личности в произведении А. П.Чехова «Ионыч» (1898)
Цель:
раскрыть трагизм повседневно-будничного мещанского существования и духовного оскудения личности в рассказе «Ионыч».
Задачи:
Образовательная:
рассмотреть композицию рассказа, выявить эпизоды, показывающие этапы гибели души главного героя; проанализировать причины духовной гибели доктора Старцева; раскрыть позицию автора, его отношение к главному герою.
Развивающая:
обучение комментированному чтению в сочетании с эвристическим методом; развитие умения анализировать, сопоставлять факты, эпизоды текста.
Воспитательная:
способствовать развитию активной жизненной позиции учащихся, формированию у учащихся таких нравственных качеств, как доброта, сострадание.
Методы:
эвристический, проблемный, частично — поисковый.
Формы работы
: беседа, работа в парах, работа с опорными схемами, таблицами, анализ текста, творческая работа.
Технология:
технология развития критического мышления
Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких
юношеских лет в суровое ожесточайшее мужество,
забирайте с собою все человеческие движения, не
оставляйте их на дороге, не подымете потом.
Н.В.Гоголь
А.Чехов.
Жизнь дается один раз, и надо её прожить
бодро, осмысленно, красиво.
А.Чехов
Ход урока
Организационный момент.
Определение темы, постановка цели урока.
Определить связь эпиграфа с темой урока.
II. Актуализация знаний.
1. Презентация «А.П.Чехов. История жизни» (выступление учащихся)
А.П.Чехов – русский писатель, импрессионист. Рассказ А.П. Чехова
– известнейшее произведение, и даже имя героя давно стало нарицательным. «Ионыч» был написан на рубеже XIX и XX веков.
Чеховская манера повествования отличается лаконичностью, простотой. Писатель сразу вводит читателя не только в ход событий, но и одним-двумя предложениями рисует обстановку. Чехов редко выражает свою точку зрения, давая, обычно, читателям домыслить то, на что лишь сделан намёк.
В рассказе можно выделить несколько важных проблем: человек и повседневность, личность и среда, мечта и действительность. В основе сюжета рассказа – изменения, постепенно происходящие с главным героем, Дмитрием Ионовичем Старцевым. Завязкой можно считать приезд Старцева в губернский город С. и знакомство с семьёй Туркиных. Кульминациейстановится эпизод на кладбище – внезапно нахлынувшее непонятное чувство, овладевшее героем. Развязкой служит решение Ионыча не общаться больше с Туркиными, а повествование о дальнейшей жизни персонажей играет роль эпилога. Как мы видим, композиция рассказа (и даже наличие мини-эпилога) напоминает роман в миниатюре.
Проблематика рассказа поддерживается художественными приёмами, среди которых самым главным является повтор. Кольцевая композиция усиливает ощущение замкнутости мира вокруг героя и жизненного тупика.
«Ионыч» — это рассказ о том, как неимоверно трудно оставаться человеком, о соотношении иллюзий и подлинной жизни…
2. Индивидуальная работа
Составить простой (цитатный) план (по выбору учащихся) и охарактеризовать композицию рассказа «Ионыч»
Простой план
1.Д.И.Старцев знакомится с семьёй Туркиных.
2. «Любовь» Дмитрия к Екатерине Ивановне.
3.Разлука.
4.Последняя встреча Дмитрия с Екатериной.
5.Жизнь нового обывателя Ионыча.
Цитатный план рассказа (слайд 4)
1. «Когда ещё я не пил слёз из чаши бытия…» (А.Дельвиг).
2. «…ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждёт любви во что бы то ни стало…».
3. «И жаль было своего чувства, этой своей любви…».
4. «…и огонёк в душе погас».
5. «Куда это Ионыч едет?»
КОМПОЗИЦИЯ – КОЛЬЦЕВАЯ (линейная, зеркальная).
ПРИЁМ — СТЯЖЕНИЕ (сжатие времени), ПОВТОР.
3. Лексическая работа: обывательщина, мещанство, деградация.
Старцев Ионыч Мещанин
Мещане
– люди с узким жизненным кругозором и мелкими интересами, духовно, нравственно и интеллектуально ограниченные, давно остановившиеся в своем развитии.
Обывательщина
– мещанство, филистерство (кн.), ограниченность.
Деградация
– постепенное ухудшение, вырождение, упадок, движение назад.
4. Анализ текста с целью характеристики героя, происходящих в нём изменений.
Заполнение таблицы (работа в парах).
Каким предстает герой в каждой из этих глав?
Развитие образа доктора Старцева идет по нисходящей. Герой постепенно деградирует.
Назови
причину, которая побудила автора изобразить семью Туркиных как обычных мещан в их духовном и нравственном значении.
Предложи
пути исцеления Старцева?
Зачем
Екатерина Ивановна признается в любви Старцеву во второй части рассказа, на что она надеется?
Почему
Старцев предпочёл своей «любви» «жизнь тусклую, без впечатлений, без мыслей» ? (Почему Старцева можно назвать мещанином?)
Придумай
новый финал рассказа «Ионыч».
5. «Цитатная паутина»
(К каждому герою подобрать цитату, обосновать свой выбор)
Герои рассказа «Ионыч»
Цитаты
Иван Петрович Туркин
Страшно подумать, сколько хороших,
только слабых волею людей, губит пошлость…
А.Чехов.
Вера Иосифовна Туркина
Каков век, таков и человек.
А.Нурпеисов.
Екатерина Ивановна Туркина
Каждому надежда греет сердце.
Вакхилид
Дмитрий Ионыч Старцев
Жизнь дается один раз, и надо её прожить бодро, осмысленно, красиво.
А.Чехов
6. Слово учителя:
А.П.Чехов в рассказе “Ионыч” исследует процесс духовной капитуляции человека перед темными силами жизни. Тема духовного оскудения была одна из самых острых социальных и политических проблем его времени.
Чем объяснить такое пристальное внимание Чехова к вопросу о деградации человека? А. П. Чехов обострённо воспринимал новые веяния и предчувствовал зреющие в стране перемены. Как и в любом классическом произведении в чеховском рассказе затронуты проблемы, которые не лежат на поверхности и для понимания которых требуется неоднократное обращение к тексту. ПОЧЕМУ СТАРЦЕВ ПРЕВРАТИЛСЯ В ИОНЫЧА?
7. Кластер «Путь от Старцева к Ионычу»
Звучит вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»
СТАРЦЕВ
«шел пешком,
не спеша»
«а у него уже была
своя пара лошадей»
«Ох, не надо
бы полнеть!»
«выезжал уже не на паре,
а на тройке с
бубенчиками… Он пополнел,
неохотно ходил пешком…
Обирал больных…»
«ещё больше пополнел,
ожирел…
Когда он, пухлый и красный,
едет на тройке с
бубенчиками…кажется
едет не человек, а
языческий бог»…
ИОНЫЧ
ВЫВОД:
События в рассказе излагаются в хронологической последовательности — от молодости героя к зрелости. В глубинном содержании — движение вспять, потеря Старцевым всего человеческого, постепенное его опустошение, превращение в равнодушное, эгоистическое существо. Ионыч проходит свой жизненный путь, как по ступеням лестницы, быстро поднимаясь вверх — к материальному благосостоянию и ещё быстрее спускаясь вниз — к моральному опустошению. Все повествование развертывается так, чтобы показать постепенное превращение интеллигента в обывателя, доктора Дмитрия Ионыча Старцева в бездушного Ионыча, потерявшего вместе с именем и фамилией свою душу. В раскрытии содержания этапов жизни Старцева Чехов лаконично демонстрирует постепенное обнищание духа героя, ослабление его воли, силы сопротивления, потерю активности, живой человеческой реакции. Каждый новый этап жизни героя раскрывает его моральное падение.
III.Рефлексия
Актуален ли рассказ в наше время?
Как вы думаете, для чего Чехов рассказал нам эту историю? К чему он нас призывает? (Призывает не поддаваться обстоятельствам, бороться и оставаться человеком).
IV. Итоги урока
Рассказ «Два волка». Цитата «Каждый человек решает, какого волка он будет кормить».
Вывод:
Создавая образ Старцева, Чехов ставит проблему личной ответственности человека за свою жизнь. Образ Ионыча показывает, каким становится человек, если нет сопротивления пошлости, лени, мещанству, эгоизму…
Чехов А. П.
Сочинение по произведению на тему: Духовная деградация личности в рассказе А. П. Чехова «Ионыч»
Великий русский писатель-реалист, обличитель мира пошлости, мещанства и обывательщины, А. П. Чехов сказал свое новое слово в драматургии и поднял на недосягаемую высоту жанр рассказа-новеллы. Главными врагами человека писатель всегда считал ложь, лицемерие, произвол, жажду обогащения. Поэтому все свое творчество он посвятил решительной борьбе с этими пороками. Рассказ «Ионыч», как и многие другие его произведения, стал откликом на самые насущные и острые вопросы современности.
В рассказе «Ионыч» перед нами открывается типичная картина обывательской жизни губернского города, в котором всех приезжих угнетали скука и однообразие существования. Однако недовольных уверяли, что в городе хорошо, много приятных, интеллигентных людей. А в качестве примера интересной и образованной семьи всегда приводили Туркиных. Однако, вглядываясь в образ жизни, внутренний мир и нравы этих персонажей, мы видим что на самом деле это мелкие, ограниченные, ничтожные и пошлые люди. Под их губительное влияние и попадает Старцев, постепенно превращаясь из интеллигентного и талантливого врача в обывателя и стяжателя.
В начале повествования Дмитрий Ионыч Старцев предстает перед нами милым и приятным молодым человеком, ищущим интересного общества. Он потянулся к семье Туркиных, потому что с ними можно поговорить об искусстве, о свободе, о роли труда в жизни человека. Да и внешне в этой семье все выглядело привлекательно и оригинально: хозяйка читала свой роман, Туркин повторял излюбленные шутки и рассказывал анекдоты, а их дочь играла на фортепьяно. Но все это хорошо, ново и оригинально в первый раз, на самом же деле у Туркиных ничего не выходит дальше этого однообразного и лишенного какого бы то ни было смысла, времяпрепровождения.
По мере развития сюжета, мы все больше погружаемся в обывательскую пошлость общества, в которое попадает чеховский герой. Автор шаг за шагом раскрывает перед нами историю жизни молодого талантливого врача, выбравшего ложный путь материального обогащения. Этот выбор стал началом его духовного обнищания. Главным объектом критического анализа писателя становится не только мертвящая сила пошлости и обывательщины, под влиянием которой превращается в отвратительного Ионыча, но и сам герой.
Внутренняя эволюция героя наглядно раскрывается в его любви к Екатерине Ивановне Туркиной. Старцев действительно полюбил Екатерину Ивановну. Однако в его чувстве нет жизни, нет души. Романтика любви, ее поэзия оказываются совершенно чуждыми ему. «И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки.», — размышляет он. И мы видим, как очерствело его сердце, как он духовно и физически состарился.
Показательно и отношение героя к труду. Мы слышим из его уст хорошие и правильные речи «о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя.». И сам Ионыч трудится постоянно, каждый день. Однако его труд не одухотворен «общей идеей», он имеет целью лишь одно — «по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой» и периодически отвозить их в банк.
Чехов наглядно дает понять, что духовное развитие героя остановилось и пошло в обратном направлении. У Ионыча есть прошлое, настоящее, но нет будущего. Он много ездит, но по одному и тому же маршруту, постепенно возвращающему его к исходно
точке. Все его существование теперь определяется лишь жаждой обогащения и накопительства. Он отгораживается и от пространства, и от людей. И это ведет его к нравственной гибели. Всего за несколько лет герой оказался полностью побежденным той обывательской пошлостью, которую так ненавидел и презирал в начале. По сути, Старцев даже не сопротивляется этим губительным обстоятельствам. Он не борется, не мучается, не переживает, а просто с легкостью уступает. Теряя человеческий облик, душу, Ионыч перестает быть и хорошим специалистом.
Так, постепенно в Старцеве погибает человек, личность, талант. В финале рассказа даже Туркины, бездарность и ограниченность которых автор все время высмеивает, оказываются духовно выше Ионыча. В них, несмотря на всю пошлость и мелочность их интересов, осталось еще что-то человеческое, они хотя бы вызывают жалость. В Старцеве же не осталось ровным счетом ничего положительного. «Кажется, что едет не человек, а языческий бог», — говорит о нем автор, подводя итог его полной нравственной деградации.
Антон Павлович Чехов вошел в русскую литературу в самом начале 80-х годов XIX века. Эта эпоха была бедна крупными историческими событиями и даже стала называться “застойными временами”. Поэтому в творчестве писателя отразились и разочарование в спасении и обновлении России, и переосмысление системы духовных ценностей. Вся художественная деятельность Чехова – призыв к духовному освобождению и раскрепощению человека. Голос внутренней свободы, а не попытка найти истину звучит практически в каждом его произведении. Писатель пишет просто и ясно, совсем не так, как Достоевский и Толстой. Эта оригинальная особенность отразилась не только на языке рассказов и повестей, но и на сюжете его произведений. У Чехова они, как правило, развертываются спокойно, плавно и четко. В его прозе нет внешнего конфликта между героями, энергичной и ожесточенной борьбы или рокового стечения обстоятельств. Мастерство Чехова – это искусство больших обобщений в малой форме. Он показывает жизнь не в полном варианте, как Гончаров или Тургенев, а в миниатюре, учитывая все штрихи и детали. Юмор, особенно в изображении характеров людей, – одна из ведущих особенностей чеховского стиля.
Он высмеивает тупость, бескультурье, пошлость, обывательщину, карьеризм, сочувствует “маленьким людям” и т. д.
С конца 80-х годов начинается второй период творчества А. П. Чехова, отмеченный значительным углублением проблематики его произведений (появляются такие темы, как “футлярная” жизнь интеллигенции, проблемы общественного значения, прозревающие и деградирующие герои). В этих “серьезных эпизодах” юмор, который присутствовал в ранних произведениях, сохранился, только приобрел другие оттенки, соединяясь с новыми темами. Здесь писатель критически изображает общественную пассивность, пошлость, равнодушие, отсутствие общественных запросов в среде интеллигенции и т. д. Герои большинства этих произведений относятся к среднему социальному слою. Это врачи, учителя, студенты, чиновники и меньше – помещики. Но Чехова теперь больше интересуют человеческие качества персонажей, чем их социальная принадлежность. Автор не концентрирует особого внимания на конфликте героя с обществом, представляя его частью этой среды. Чехов исследовал внутренний мир человека, влияние быта и обстоятельств на сознание и психологию обывателя. Именно в этот период творчества появляются такие известные рассказы, как “Анна на шее”, “Маленькая трилогия” (“Человек в футляре”, “Крыжовник”, “О любви”), “Учитель словесности”, “Скучная история”, “Дом с мезонином”, “Дама с собачкой”, “Палата №6”, “Ионыч” и многие, многие другие.
Аня – главная героиня рассказа “Анна на шее”. Это вовсе не бездействующий человек, которому ни до чего нет дела. Напротив, она активно участвует и жизни общества, наслаждаясь удовольствиями и развлечениями света.
В начале рассказа эта молоденькая девушка выходит замуж за богатого старика Модеста Алексеича, чтобы помочь нуждающимся и голодным братьям. Этот эпизод даже вызывает сочувствие, потому что перед нами типичный “неравный” брак. Аня измучилась, вынужденная “ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки и ходить на рынок”. Ради своих родных она готова на все, даже стать женой грубого, пошлого и ненавистного ей Модеста Алексеича. Но изменится ли ее жизнь? У скаредного мужа ей еще труднее, чем дома, где было весело и она чувствовала себя свободной. Да и семье помогать оказалось невозможно. Теперь Аня была богата: муж дарил ей “кольца, браслеты, броши”, тогда как недавно она стыдилась своей “дешевой шляпки и дырочек на ботинках, замазанных чернилами”. И вот героиня первый раз появляется в высшем свете. Этот эпизод является кульминационным, переломным моментом в структуре рассказа, в котором можно выделить две основные части: замужество главной героини я жизнь л светском обществе. На балу Аня из “забитой”, робкой девушки преображается в даму, “гордую и самоуверенную”: “И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее…”. Понравившись начальнику мужа, Аня приобрела власть над Модестом Алексеичем. Она, так боявшаяся даже звука его шагов, теперь отчетливо выговаривает ему в лицо: “Подите прочь, болван!”. Теперь она живет как хочет, в роскоши, в ней появляются уверенность в себе и самодовольство. Да, действительно, Аня весело смеется, флиртуя с влиятельными лицами, она взяла верх над мужем, но эта победа ей далась очень дорогой ценой – ценой потери собственной души. Это отчетливо видно в финале рассказа, когда героиня, катаясь на лошадях, не замечает родного отца и братьев. Этой сценой автор завершает повествование. Процесс духовной деградации, По мысли автора, предотвратить невозможно. Аню поглотило светское общество, она потеряла способность искренне чувствовать, любить. “Анна на шее” – это история оскудения человеческой души, потери духовных качеств, являющихся главным богатством человека.
Важным для Чехова является способность остановиться, оглянуться, прервать череду повторяющихся событий, открыть себя для восприятия духовного мира. Именно в этой способности залог победы над пошлостью, но этого не понимала героиня рассказа.
Рассмотрим эволюцию характера главного героя рассказа “Ионыч”, Дмитрия Ионыча Старцева. Можно выделить четыре этапа жизненного пути доктора Старцева, в раскрытии содержания которых Чехов лаконично демонстрирует постепенное обнищание духа героя, ослабление его воли, силы сопротивления, потерю активности, живой человеческой реакции.
На первом этапе Дмитрий Старцев – молодой человек, только что назначенный земским врачом и поселившийся в Дялиже, недалеко от губернского города С. Это юноша с идеалами и желанием чего-то высокого. Он полон сил, энергии (“… Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости”), увлечен работой настолько, что даже в праздники не имеет свободного времени. Его интересуют литература, искусство, он чувствует себя чужим среди обывателей. Доктор Старцев знакомится с семьей Туркиных, “самой образованной и талантливой” в городе. Уклад их дома наталкивает на мысль о том, что даже жизнь семьи Туркиных на удивление монотонна (одни и те же шутки, развлечения, занятия), заурядна, типична.
И это – лучшая семья в городе. А если лучшие люди таковы, то каковы же остальные? Здесь Чехов точно подмечает явление обывательщины на примере одной семьи. Вот в эту жизнь окунается молодой врач Старцев. Он пытается бороться с ней, влюблен в Котика, полон надежд и т. п.
Но на втором этапе Дмитрий Ионыч, сделав неудачное предложение Котику и получив отказ, уже не пытается сопротивляться обстоятельствам, он понимает, в какую трясину погружается, но не пытается ничего предпринять; тем самым Старцев прячется в “футляр”, отгораживается от всего мира.
Он перестает ходить пешком, страдает одышкой, любит закусить. Ездит на паре лошадей. У него нет пока близких друзей, обыватели раздражают его своими взглядами на жизнь все меньше и меньше. Главным развлечением доктора, в которое “он втянулся незаметно, мало-помалу”, было по вечерам вынимать из карманов добытые практикой белые и зеленые бумажки.
Уже на третьем этапе Старцев отходит от земской больницы, его внимание поглощает большая частная практика. Теперь он еще больше полнеет, еще сильнее страдает одышкой: “Выезжал он уже не на паре лошадей, а на тройке с бубенцами”.
Наконец, на четвертом этапе жизнь Дмитрия Старцева окончательно опустошена и обеднена, он заражен накопительством, у него имение и два дома в городе, но на этом он не останавливается, с удовольствием вспоминает про бумажки, которые по вечерам доставал из карманов и с благоговением перебирал их. Старцев всю жизнь работал, но деятельность, лишенная цели, оказывается пагубной. И мы видим, как в результате утраты смысла, цели жизни разрушается личность. Постепенно доктор Старцев превратился в Ионыча. Жизненный путь на этом завершен…
Можно сделать вывод, что Старцев, все прекрасно понимая, ничего не попытался изменить. В этом его винит и сам Чехов.
Показывая эволюцию Старцева от молодого врача, живого и эмоционального человека, до ожиревшего пухлого Ионыча, который на своей тройке с бубенцами кажется не человеком, а “языческим богом”, А. П. Чехов разоблачает, таким образом, и среду, оказавшую на главного героя рассказа тлетворное воздействие, и его самого.
На примере доктора Старцева в рассказе показаны взаимодействие слабого и пассивного характера с духовно обнищавшим обществом и влияние этого общества на человека, не способного к сопротивлению и отстаиванию в себе положительных начал.
Умение показать малое в большом, сочетание юмора с сарказмом – главные приемы, посредством которых в рассказах Чехова раскрываются пошлость и обывательщина, способные загубить даже умных, образованных людей…
В своих произведениях Антон Павлович Чехов обращается к читателям с призывом не поддаваться влиянию обывательской среды, сопротивляться обстоятельствам, не предавать вечные идеалы и любовь, беречь в себе человеческое.
Сочинение по литературе на тему: Проблема деградации личности в рассказах А. П. Чехова “Анна на шее” и “Ионыч”
Другие сочинения:
- Главная тема произведений выдающегося русского писателя и драматурга А. П. Чехова – это жизнь обычных людей, его современников, которых автор изображает с сочувствием к ним и с негодованием против условий, в которых они вынуждены жить. Жизнь в обществе, устройство которого Read More ……
- Главная тема произведений выдающегося русского писателя и драматурга А. П. Чехова – это жизнь обычных людей, его современников, которое автор изображает с сочувствием к ним и с негодованием против условий, за которые они вынуждены жить. Жизнь в обществе, устройство которого Read More ……
- В русской литературе довольно часто писатели затрагивали такие темы, которые были актуальны для любой эпохи. Такие проблемы, затронутые классиками, как понятие о добре и зле, поиски смысла жизни, влияние окружающей среды на личность Человека и другие, всегда стояли в центре Read More ……
- Одна из главных тем творчества Чехова – разоблачение “пошлости пошлого человека”, особенно в быту и настроениях интеллигенции. Тема “Ионыча” – изображение мертвенной силы обывательщины и пошлости. Чехов рассматривает историю образованного, дельного врача Дмитрия Ионыча Старцева, превратившегося в провинциальной глуши в Read More ……
- Мастерство Чехова – рассказчика особенно проявляется в композиции “Ионыча” Композиция рассказа подчиняется одной общей цели – показать постепенное духовное обнищание героя и убогую жизнь города. Но как рассказать о жизни героя и целого города на протяжении нескольких страниц? Чехов добивается Read More ……
- Школьное сочинение на примерах рассказов “Любовь” и “Дочь”. Фабула произведения “Дочь” предельно проста, и в этом скрывается глубокий смысл: очень уж просто и нелепо погибает человек, который верит только деньгам. Мать героини рассказа жертвует собой ради дочери: застраховав свою жизнь, Read More ……
- В русской литературе существовало немало писателей, которые исследовали в своих произведениях проблему формирования личности человека. Она всегда представляла особый интерес для русских писателей. Одним из таких писателей, посвятивших проблеме личности человека большинство своих творений, был Антон Павлович Чехов. Этот незаурядный Read More ……
- Чехов – мастер короткого рассказа, и предметом исследования в них чаще всего для писателя становится внутренний мир человека. Он был непримиримым врагом пошлости и мещанства, ненавидел и презирал обывателей, их пустую и бесцельную жизнь, лишенную высоких стремлений и идеалов. Главный Read More ……
Проблема деградации личности в рассказах А. П. Чехова “Анна на шее” и “Ионыч”

