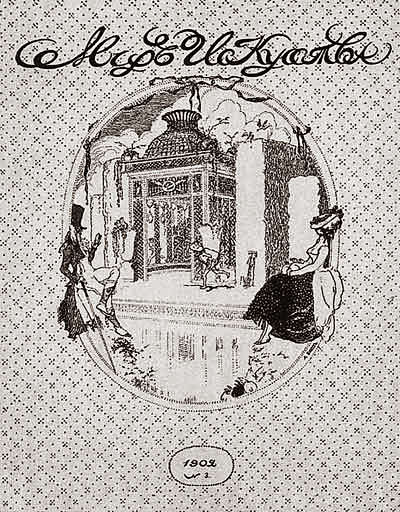Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Цифры укажите в порядке возрастания.
На углу Гороховой — единстве(1)ый извозчик, старик, в армяке, подпояса(2)ом обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей овчи(3)ой шапке, из которой султаном торчит кусок пакли; пузатая мохнатая лошадёнка его запряже(4)а в низкие лубочные санки.
Пояснение (см. также Правило ниже).
Приведем верное написание.
На углу Гороховой — единствеННый извозчик, старик, в армяке, подпоясаННом обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей овчиННой шапке, из которой султаном торчит кусок пакли; пузатая мохнатая лошадёнка его запряжеНа в низкие лубочные санки.
В этом предложении:
единствеННый — прилагательное, образованное с помощью суффикса -ЕНН-;
подпоясаННом — причастие, образованное от глагола совершенного вида ПОДПОЯСАТЬ;
овчиННой — прилагательное, образованное от существительного ОВЧИНА с помощью суффикса -Н-;
запряжеНа — краткое причастие пишем с Н.
Ответ:
123.
Ответ: 123
Правило: Задание 15. Написание Н и НН в словах разных частей речи
ПРАВОПИСАНИЕ -Н-/-НН- В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ.
Традиционно является самой сложной темой для учащихся, так как обоснованное написание Н или НН возможно лишь при знании морфологических и словообразовательных законов. Материал «Справки» обобщает и систематизирует все правила темы Н и НН из школьных учебников и даёт дополнительную информацию из справочников В.В. Лопатина и Д.Э Розенталя в том объеме, что необходим для выполнения заданий ЕГЭ.
14.1 Н и НН в отыменных прилагательных (образованных от имён существительных).
14.1.1 Две НН в суффиксах
В суффиксах прилагательных пишется НН,
если:
1) прилагательное образовано от существительного с основой на Н при помощи суффикса Н: тумаН+ Н → тумаННый; кармаН+Н → кармаННый, картоН+Н → картоННый
старинный (от стариНа+Н), картинный (от картиНа+Н), глубинный (от глубиНа+Н), диковинный (от диковиНа+Н), недюжинный (от дюжиНа+Н), истинный (от истиНа+Н), барщинный (от барщиНа+Н), общинный (от общиНа+Н), длинный (от длиНа+Н)
Обратите внимание
: слово «странный»
с точки зрения современного языка не имеет в своём составе суффикса Н и не является родственным к слову «страна». Но исторически объяснить НН можно: человека из чужой страны считали инакомыслящим, чужим, посторонним.
Этимологически объяснить можно и написание слова «подлинный»
: подлинной в Древней Руси называлась та правда, которую подсудимый говорил «под длинниками» — особыми длинными палками или кнутами.
2) прилагательное образовано от имени существительного путём добавлением суффикса -ЕНН-, -ОНН: клюквЕННый (клюква), революциОННый (революция), торжествЕННый (торжество).
Исключение: ветрЕНый (но: безветрЕННый).
Обратите внимание:
Встречаются слова-имена прилагательные, в которых Н является частью корня. Эти слова надо запомнить.Они не образовывались от имён существительных:
багряный, зелёный, пряный, пьяный, свиной, рдяный, румяный, юный.
14.1.2. В суффиксах прилагательных пишется Н
В суффиксах прилагательных пишется Н
, если:
1) прилагательное имеет суффикс -ИН- (голубИНый, мышИНый, соловьИНый, тигрИНый
). Слов с этим суффиксом зачастую имеет значение «чей»: голубя, мыши, соловья, тигра.
2) прилагательное имеет суффиксы -АН-, -ЯН- (песчАный, кожАНый, овсЯНый, землЯНой
). Слова с этим суффиксом часто имеет значение «сделан из чего»: из песка, из кожи, из овса, из земли.
Исключения: стеклЯННый, оловЯННый, деревЯННый.
14.2. Н и НН в суффиксах слов, образованных от глаголов. Полные формы.
Как известно, от глаголов могут быть образованы и причастия, и имена прилагательные (=отглагольные прилагательные). Правила написания Н и НН в этих словах различны.
14.2.1 НН в суффиксах полных причастий и отглагольных прилагательных
В суффиксах полных причастий и отглагольных прилагательных пишется НН, если соблюдается ХОТЯ БЫ ОДНО из условий:
1) слово образовано от глагола совершенного вида
, С ПРИСТАВКОЙ ИЛИ БЕЗ, например:
от глаголов купить, выкупить (что сделать?, совершенный вид): куплЕННый, выкуплЕННый
;
от глаголов бросить, забросить (что сделать?, совершенный вид): брошЕННый-заброшЕННый
.
Приставка НЕ не меняет вид причастия и не влияет на написание суффикса. Любая другая приставка придаёт слову совершенный вид
2) в слове есть суффиксы -ОВА-, -ЕВА- даже в словах несовершенного вида (маринОВАННый, асфальтирОВАННый, автоматизирОВАННый
).
3) при слове, образованном от глагола, есть зависимое слово, то есть оно образует причастный оборот, например: морожЕННое в холодильнике, варЕННые в бульоне
).
ПРИМЕЧАНИЕ
: В случаях, когда полное причастие переходит в конкретном
предложении в имя прилагательное, написание не меняется. Например: ВзволноваННый
этим сообщением, отец говорил громко и не сдерживал эмоций. Выделенное слово — причастие в причастном обороте, взволнованный
чем? этим сообщением
. Меняем предложение: Его лицо было взволноваННым
, и уже нет причастия, нет оборота, ибо лицо нельзя «взволновать», и это — имя прилагательное. В таких случаях говорят о переходе причастий в прилагательные, но на написание НН данный факт никак не влияет.
Ещё примеры: Девушка была очень организоваННой
и воспитаННой
. Здесь оба слова — имена прилагательные. Девушку не «образовывали», да и воспитанная она всегда, это постоянные признаки. Изменим предложения: Мы спешили на встречу, организоваННую партнёрами.
Мама, воспитаННая в строгости, и нас воспитывала так же строго
. А теперь выделенные слова — причастия.
В таких случаях в пояснении к заданию мы пишем: прилагательное, образованное от причастия
или прилагательное, перешедшее из причастия.
Исключения: нежданный, негаданный, невиданный, неслыханный, нечаянный, медленный, отчаянный, священный, желанный.
.
Обратите внимание
на то, что из ряда исключений ушли слова считаНые (минуты), делаНое (равнодушие)
. Эти слова пишутся по общему правилу.
Добавляем сюда ещё слова:
кованый, клёваный, жёваный
ева/ова входят в состав корня, это не суффиксы, чтобы писать НН. Но при появлении приставок пишутся по общему правилу: изжёваННый, подковаННый, исклёваННый.
раненый
пишется одна Н. Сравните: ранЕННый в бою
(две Н, потому что появилось зависимое слово); изранЕННый
, вид совершенный, есть приставка).
смышлёный
определить вид слова сложно.
14.2. 2 Одна Н в отглагольных прилагательных
В суффиксах отглагольных прилагательных пишется Н, если:
слово образовано от глагола несовершенного вида
, то есть отвечает на вопрос что с предметом делали?
и при слове в предложении нет зависимых слов
.
тушЕНое
(его тушили) мясо,
стрижЕНые
(их стригли) волосы,
варЕНый
(его варили) картофель,
ломаНая
(её ломали) линия,
морЁНый
(его морили) дуб (тёмный в результате специальной обработки),
НО: как только у этих слов- прилагательных появляется зависимое слово, они тут же переходят в разряд причастий и пишутся с двумя Н.
тушЕННое в духовке
(его тушили) мясо,
стрижЕННые недавно
(их стригли) волосы,
варЕННый на пару
(его варили) картофель.
РАЗЛИЧАЙТЕ: у причастий (справа) и у прилагательных (слева) разные значения! Большими буквами выделены ударные гласные.
назвАный брат, назвАная сестра
— человек, не состоящий в биологическом родстве с данным человеком, но согласившийся на братские (сестринские) отношения добровольно.- нАзванный
мною адрес;
посажЁный отец
(исполняющий роль родителя жениха или невесты при свадебном обряде). — посАженный
за стол;
придАное
(имущество, даваемое невесте её семьёй для жизни в замужестве) — прИданный
шикарный вид;
сУженый
(так называют жениха, от слова судьба) — сУженная
юбка, от слова сУзить, сделать узкой)
ПрощЁное
воскресенье (религиозный праздник)- прощЁнный
мною;
пИсаная красавица
(эпитет, фразеологизм)- пИсанная
маслом картина.
14.2.3. Написание Н и НН в сложных прилагательных
В составе сложного слова написание отглагольного прилагательного не меняется
:
а) первая часть образована от глаголов несовершенного вида, значит, пишем Н
: гладкокрашЕНый (красить), горячекатаНый, домоткаНый, пестроткаНый, златоткаНый (ткать); цельнокроЕНый кроить), златоковаНый (ковать), малоезжЕНый (ездить), малохожЕНый (ходить), малоношЕНый (носить), малосолЁНый (солить), мелкодроблЁНый (дробить), свежегашЁНый (гасить), свежеморожЕНый (морозить)
и другие.
б) вторая часть сложного слова образована от приставочного глагола совершенного вида, значит, пишем НН
: гладкоо
крашЕННый (о
красить), свежеза
морожЕННый (за
морозить) и др.).
Во второй части сложных образований пишется Н, хотя есть приставка ПЕРЕ-: глажеНые-переглажеНые, латаНые-перелатаНые, ношеНый-переношеНый, стираНое-перестираНое, стреляНый-перестреляНый, штопаНое-перештопаНое.
Таким образом, выполнять задания можно по алгоритму:
14.3. Н и НН в кратких прилагательных и кратких причастиях
И причастия, и прилагательные имеют не только полные, но и краткие формы.
Правило: В кратких причастиях всегда пишется одна Н.
Правило: В кратких прилагательных пишется столько же Н, сколько в полной форме.
Но, чтобы применить правила, нужно различать прилагательные и причастия.
РАЗЛИЧАЙТЕ краткие прилагательные и причастия:
1) по вопросу
: краткие прилагательные — каков? какова? каковы? каково? каковы?, краткие причастие — что сделан? что сделана? что сделано? что сделаны?
2) по значению
(краткое причастие имеет отношение к действию, можно заменить глаголом; краткое прилагательное даёт характеристику определяемому слову, о действии не сообщает);
3) по наличию зависимого слова
(краткие прилагательные не имеют и не могут иметь, краткие причастия имеют).
| Краткие причастия | Краткие прилагательные |
|---|---|
| написан (рассказ) м. род; что сделан? кем? | мальчик образован (каков?) -от полной формы образованный (какой?) |
| написана (книга) ж.род; что сделана? кем? | девочка образованна (какова?)-от полной формы образованная (какая?) |
| написано (сочинение) ср.род; что сделано?кем? | дитя образованно (каково?) -от полной формы образованное (какое?) |
| работы написаны, мн. число; что сделаны? кем? | дети образованны (каковы?) -от полной формы образованные (какие?) |
14.4. Одна или две Н могут писаться и в наречиях.
В наречиях на -О/-Е пишется столько же Н, сколько их в исходном слове
, например: спокойно
с одной Н, так как в прилагательном спокойНый
суфффикс Н; медленно
с НН, так как в прилагательном медлЕННый
НН; увлечённо
с НН, так как в причастии увлечЁННый
НН.
При кажущейся несложности этого правила существует проблема разграничения наречий, кратких причастий и кратких прилагательных. К примеру, в слове сосредоточе(Н, НН)о невозможно выбрать то или иное написание БЕЗ знания того, чем это слово является в предложении или словосочетании.
РАЗЛИЧАЙТЕ краткие прилагательные, краткие причастия и наречия.
1) по вопросу
: краткие прилагательные — каков? какова? каковы? каково? каковы?, краткие причастие — что сделан? что сделана? что сделано? что сделаны? наречия: как?
2) по значению
(краткое причастие имеет отношение к действию, можно заменить глаголом; краткое прилагательное даёт характеристику определяемому слову, о действии не сообщает); наречие обозначает признак действия, как оно происходит)
3) по роли в предложении:
(краткие прилагательные и краткие причастия зачастую являются сказуемыми, наречие же
относится к глаголу и является обстоятельством)
14.5. Н и НН в именах существительных
1.В существительных (как и в кратких прилагательных и наречиях) пишется столько же Н, сколько в прилагательных (причастиях), от которых они образованы:
| НН | Н |
|---|---|
| пленник (пленный) | нефтяник (нефтяной) |
| образованность (образованный) | гостиница (гостиный) |
| изгнанник (изгнанный) | ветреник (ветреный) |
| лиственница (лиственный) | путаница (путаный) |
| воспитанник (воспитанный) | пряность (пряный) |
| гуманность (гуманный) | песчаник (песчаный) |
| возвышенность (возвышенный) | копчёность (копчёный) |
| уравновешенность (уравновешенный) | вкусное мороженое (мороженый) |
| преданность (преданный) | торфяник (торфяной) |
От имён прилагательных образованы и слова
родственн/ик от родственный, сторонн/ик от сторонний, единомышленн/ик от единомышленный, (злоумышленн/ик, соумышленн/ик),ставленн/ик от ставленный, утопленн/ик от утопленный, численн/ик от численный, соотечественн/ик от соотечественный)
и многие другие.
2. Существительные могут также образовываться от глаголов и других имён существительных.
| Пишется НН, одна Н входит в корень, а другая в суффикс. | Н* |
|---|---|
| мошен/ник (от мошна, что значило сумка, кошелёк) | труж/еник (от трудиться) |
| дружин/ник (от дружина) | муч/еник (от мучить) |
| малин/ник (малина) | пудр/еница (от пудрить) |
| именин/ник (именины) | рож/еница (родить) |
| измен/ник (измена) | своя́ч/е/ниц/а |
| племян/ник | вар/еник (варить) |
| беспридан/ница | НО: приданое (от придать) |
| бессон/ница | уч/е/ник |
| осин/ник | бессребр/еник |
| звон/ница | сребре/ник |
Примечание к таблице
: *Слова, которые пишутся с Н и при этом не образованы от прилагательных (причастий) в русском языке единичны.Их нужно выучить наизусть.
Пишется НН и в словах путешеств/енник
(от путешествовать), предшеств/енник
(предшествовать)
Владимир Алексеевич Гиляровский родился 26 ноября (8 декабря) 1855 года в семье помощника управляющего лесным имением графа Олсуфьева в Вологодской губернии.
Учился Владимир Алексеевич в Вологодской гимназии, где замечен был в написании «пакостей на наставников» — стихов и эпиграмм,изучал акробатику и джигитовку, второгодник…
Гимназии не окончил, после очередного неуда сбежал из дома… Водился с ссыльными…
Попробовал стать юнкером — уже через месяц был отчислен за несоблюдение дисциплины. Когда с учебой было покончено, решил поработать бурлаком, пожарником, истопником, табунщиком, наездником в цирке, и даже актером в театре.. между делом писал стихи…
А с началом русско-турецкой войны пошёл в армию, служил на Кавказе в 161-м Александропольском полку в 12-й роте, после перешёл в охотничью команду, был награждён Знаком Отличия Военного ордена святого Георгия IV степени, светлобронзовой медалью «За русско-турецкую войну 1877—1878», медалью «В память 300-летия дома Романовых». Вот такой непростой был этот журналист и писатель Владимир Алексеевич Гиляровский.
Писал для «Русских ведомостей» репортажи с Дона, из Албании, статьи о Русско-японской войне.
В 1887 году Гиляровский подготовил для печати свою книгу «Трущобные люди». Все рассказы и очерки, вошедшие в книгу, уже были однажды напечатаны в разных газетах и журналах за исключением очерка из рабочей жизни «Обречённые». Однако весь тираж, ещё не сброшюрованный, в листах, был изъят ночью в ходе обыска в типографии инспектором по делам печати. Гранки набора было приказано рассыпать прямо в типографии. Цензурным комитетом книга была запрещена, и листы были сожжены в Сущевской полицейской части Москвы. Ах, как это нам знакомо. Хорошо хоть не посадили, не выслали, не объявили врагом народа или американским прихвостнем… И даже с работы не уволили
В 1915 году был написан его «Марш сибирских стрелков».
«…Ни усталости, ни страха;
Бьются ночь и бьются день,
Только серая папаха
Лихо сбита набекрень…»
В 1902 году Гиляровский издал книгу «На родине Гоголя»

В 1900 и в 1909 гг. вышли сборники рассказов Владимира Алексеевича.
В 1922 году Гиляровский издаёт поэму «Стенька Разин». Выходят его книги : «От Английского клуба к музею Революции» (1926 год), «Москва и москвичи» (1926 год), «Мои скитания» (1928 год), «Записки москвича» (1931 год), «Друзья и встречи» (1934 год). «Люди театра» были напечатаны только после смерти Владимира Алексеевича — в 1941 году.
Скончался в 1935 году в Москве.

А каким видели Гиляровского его современники?
Илья Ефимович Репин увидел Владимира Алексеевича вот таким:

И поместил его среди своих запорожцев:
Скульптор Андреев изобразил Гиляровского на фризе памятника Н.В.Гоголю вот таким:

Так увидел Гиляровского скульптор И.Д.Шадр.:

А таким — С. Малютин в 1915 г.

Портрет работы С. Малютина (1915)
А таким Н.А.Клодт:

Антон Павлович Чехов описывал Дядю Гиляя так:
«Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел.»
А еще Чехов сказал как-то Владимиру Алексеевичу: — Тебя не опишешь, ты все рамки ломаешь. Мы с вами убедились в этом, читая его (Дяди Гиляя) биографию.
Сергей Викторович Яблоновский (Потресов Сергей Викторович) так описывал Гиляровского: «Оригинален сам Гиляровский как личность. Медвежья сила в душе, такой мягкой, такой ласковой, как у ребенка. Если как у писателя у него есть талант, то как у человека имеется гений, гений любви.» О чем это Яблоновский? А вот, наверное, о чем.
Жена И.Е.Репина вспоминала, как ехала однажды с Гиляровским в трамвае. Вдруг тот выскакивает из вагона и вновь возвращается. Оказывается, увидел в окно своего опекаемого и выскочил, чтобы сунуть ему в руку деньги. Или как он остановил совсем незнакомого актера и дал ему денег на обед. «Оригинал» говорят про него, потому что его действия выходили за общепринятые рамки.
Но не только о Гиляровском оставлены воспоминания, но и сам Владимир Алексеевич вспоминал своих современников.
Мне нравится его эпиграмма, посвященная скульптору С.Т.Конёнкову
«Каким путем художник мог
Такого счастия добиться:
Ни головы, ни рук, ни ног,
А хочется молиться…»
Но не всегда его воспоминания были лицеприятны.
Вот, например, его рассказ о Саврасове
Владимир Гиляровский
«Грачи прилетели»
На Моховой, бок о бок с Румянцевским музеем — ныне Ленинской библиотекой, — у входа в меблированные комнаты остановился извозчик, из саней вылез мой приятель, художник Н. В. Неврев. Мы, так сказать, столкнулись.
— Зайдем к Саврасову, возьмем его с собой и пойдем завтракать в «Петергоф».
Я не был знаком с Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, но преклонялся перед его талантом. Слышал, что он пьет запоем и продает по трешнице свои произведения подворотным букинистам или украшает за водку и обед стены отдельных кабинетов в трактирах.
Поднимаясь в третий этаж, Неврев рассказал мне, что друзья приодели Саврасова, сняли ему номер, и вот он уже неделю не пьет, а работает на магазины этюды…
— Я вчера к нему заходил — прекрасную вещь кончает… Пишет с натуры через окно сад и грачиные гнезда… Нарочно сейчас приехал к нему посмотреть.
Дверь была чуть приотворена. Мы вошли. Два небольших окна глядят в старинный сад, где между голых ветвей, на фоне весеннего неба, чернеют гнезда грачей.
Мне вспомнились слова И. И. Левитана:
— Я ученик Алексея Кондратьевича.
В комнате никого не было. Неврев пошел за перегородку, а я остановился перед мольбертом и замер от восторга: свежими, яркими красками заря румянила снежную крышу, что была передо мною за окном, исчерченную сетью голых ветвей берез с темными пятнами грачиных гнезд, около которых хлопочут черные белоносые птицы, как живые на голубом и розовом фоне картины.
За перегородкой раздался громкий голос Неврева:
— Да вставай же, Алеша! Пойдем в трактир… Ну же, вставай!
Никакого ответа не было слышно.
Я прошел за перегородку. На кровати, подогнув ноги, так как кровать была коротка для огромного роста, лежал на спине с закрытыми глазами большой человек с седыми волосами и седой бородой, как у библейского пророка. В «каютке» этой пахло винным перегаром. На столе стояли две пустые бутылки водки и чайный стакан. По столу и на полу была рассыпана клюква.
— Алеша, — тормошил Неврев.
— Никаких! — хрипел пьяным голосом старик. — Никаких! — повторил он и повернулся к стене.
— Пойдем, — обратился ко мне Неврев, — делать нечего. Вдребезги. Видишь, клюквой закусывает, значит, надолго запил… Уж я знаю, ничего не ест, только водка да клюква.
Потормошил еще — ответа не было. Вынул из кошелька два двугривенных и положил на столик рядом с бутылками:
— Чтобы опохмелиться было на что.
Но больше всего в творчестве Гиляровского восоминаний об уголках Москвы, исхоженных и изъезженных…
«Москва и москвичи»
«Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.»
Ярославский вокзал. Архитектор Ф.О.Шехтель, 1902—1904
,
«Во, это Рязанский вокзал! — указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.»
Казанский (быв.Рязанский) вокзал. Арх. Щусев.
«Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки… Темь, тишина, сои беспробудный.
Вдали два раза ударил колокол — два часа!
— Это на Басманной.»
Старая Басманная
«На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки.»
Боев Сергей. Лефортово.
«А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.
На углу Гороховой — единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни — низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.
— Дедушка, в Хамовники!
— Кое место?
— В Теплый переулок.»
Теплый переулок Тимура Фрунзе ул. д.20 Фотография 1913
«Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара — от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозчичьего трактира, стояли сплошь — мордами на площадь, а экипажами к тротуарам — запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес.»

Увы, Участок, где стоит известный всей стране Большой дом на Лубянке, до конца XIX в. занимал трёхэтажный дом Мосолова, где преимущественно сдавались внаём меблированные комнаты. В 1894 г. Мосолов продал участок за полмиллиона петербургской страховой компании «Россия». В 1897-1900 гг. страховое Общество построило на этом месте 2 великолепных доходных дома с квартирами, конторами и магазинами. Архитекторами зданий на Лубянской площади стали А.В. Иванов (дом № 2) и Н.М. Проскурнин (дом № 1)
И так можно долго цитировать текст, подбирать фотографмм, и сьтарые, и новые… У каждого из нас свой Гиляровский — у меня такой, у кого-то он с Хитровки, у кото-то — изгоняющий лихорадку скаканием на лошади…
Памятрик Гиляровскому во дворе Провиантских складов, 2012 г
Столешников переулок, дом 9
Пожарники
Николай Струнников Портрет В.А.Гиляровского 1924 г.
Николай Струнников Портрет В. А. Гиляровского на коне. 1900 г.
А что Вас значит Гиляровский, какого его Вы люб
ите? Поэта? Репортера? Бытописца (смешное слово)? Или автора путеводителя по Москве?
На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.
На углу Гороховой — единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни — низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.
Дедушка, в Хамовники!
Кое место?
В Теплый переулок.
Двоегривенный.
Мне показалось это очень дорого.
Гривенник.
Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной.
Последнее слово — пятиалтынный? Без почину стою…
Шагов через десять он опять:
Последнее слово — двенадцать копеек…
Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.
Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:
А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота — юрк!
Куда мне сбежать- я первый день в Москве…
То-то! Жалуется на дорогу:
Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели…
На чем? — спрашиваю.
На гитаре?
Ну да, на колибере… вон на таком, гляди.
Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди — сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.
Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.
Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:
Эту лошадь — завтра в деревню. Вчера на Конной у Илюшина взял за сорок рублей киргизку… Добрая. Четыре года. Износу ей не будет… На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут…
Переезжаем Садовую. У Земляного вала — вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.
Вдали звенят колокольчики. Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:
Кульеры! Гляди! Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.
Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройка в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой — разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.
Из Лефортова в Хамовники
На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.
На углу Гороховой — единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей, овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни — низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.
Дедушка, в Хамовники!
Кое место?
В Теплый переулок.
Двоегривенный.
Мне показалось это очень дорого.
Гривенник.
Ему показалось это очень дешево.
Я пошел. Он двинулся за мной.
Последнее слово — пятиалтынный? Без почину стою…
Шагов через десять он опять:
Последнее слово — двенадцать копеек…
Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.
Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:
А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота — юрк!
Куда мне сбежать — я первый день в Москве…
Жалуется на дорогу:
Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели…
На чем? — спрашиваю. — На гитаре?
Ну да, на колибере… вон на таком, гляди.
Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди — сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.
Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.
Мы ехали по Немецкой. Извозчик разговорился:
Эту лошадь — завтра в деревню. Вчера на Конной у Илюшина взял за сорок рублей киргизку… Добрая. Четыре года. Износу ей не будет… На той неделе обоз с рыбой из-за Волги пришел. Ну, барышники у них лошадей укупили, а с нас вдвое берут. Зато в долг. Каждый понедельник трешку плати. Легко разве? Так все извозчики обзаводятся. Сибиряки привезут товар в Москву и половину лошадей распродадут…
Переезжаем Садовую. У Земляного вала — вдруг суматоха. По всем улицам извозчики, кучера, ломовики нахлестывают лошадей и жмутся к самым тротуарам. Мой возница остановился на углу Садовой.
Вдали звенят колокольчики.
Извозчик обернулся ко мне и испуганно шепчет:
Кульеры! Гляди!
Колокольцы заливаются близко, слышны топот и окрики.
Вдоль Садовой, со стороны Сухаревки, бешено мчатся одна за другой две прекрасные одинаковые рыжие тройки в одинаковых новых коротеньких тележках. На той и на другой — разудалые ямщики, в шляпенках с павлиньими перьями, с гиканьем и свистом машут кнутами. В каждой тройке по два одинаковых пассажира: слева жандарм в серой шинели, а справа молодой человек в штатском.
Промелькнули бешеные тройки, и улица приняла обычный вид.
Кто это? — спрашиваю.
Жандармы. Из Питера в Сибирь везут. Должно, важнеющих каких. Новиков-сын на первой сам едет. Это его самолучшая тройка. Кульерская. Я рядом с Новиковым на дворе стою, нагляделся.
…Жандарм с усищами в аршин. А рядом с ним какой-то бледный Лет в девятнадцать господин… — вспоминаю Некрасова, глядя на живую иллюстрацию его стихов.
В Сибирь на каторгу везут: это — которые супротив царя идут, — пояснил полушепотом старик, оборачиваясь и наклоняясь ко мне.
У Ильинских ворот он указал на широкую площадь. На ней стояли десятки линеек с облезлыми крупными лошадьми. Оборванные кучера и хозяева линеек суетились. Кто торговался с нанимателями, кто усаживал пассажиров: в Останкино, за Крестовскую заставу, в Петровский парк, куда линейки совершали правильные рейсы. Одну линейку занимал синодальный хор, певчие переругивались басами и дискантами на всю площадь.
Я исполнил его требование.
Вот проклятущие! Чужих со своим ведром не пущают к фанталу, а за ихнее копейку выплачивай сторожу в будке. А тот с начальством делится.
Лубянская площадь — один из центров города. Против дома Мосолова (на углу Большой Лубянки) была биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали покойников. Там же стояло несколько более приличных карет; баре и дельцы, не имевшие собственных выездов, нанимали их для визитов. Вдоль всего тротуара — от Мясницкой до Лубянки, против «Гусенковского» извозчичьего трактира, стояли сплошь — мордами на площадь, а экипажами к тротуарам — запряжки легковых извозчиков. На морды лошадей были надеты торбы или висели на оглобле веревочные мешки, из которых торчало сено. Лошади кормились, пока их хозяева пили чай. Тысячи воробьев и голубей, шныряя безбоязненно под ногами, подбирали овес.
Из трактира выбегали извозчики — в расстегнутых синих халатах, с ведром в руке — к фонтану, платили копейку сторожу, черпали грязными ведрами воду и поили лошадей. Набрасывались на прохожих с предложением услуг, каждый хваля свою лошадь, величая каждого, судя по одежде, — кого «ваше степенство», кого «ваше здоровье», кого «ваше благородие», а кого «вась-сиясь!»
Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжающих по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков и водовозных бочек.
Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан, и, взмахивая черпаками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки.
Против Проломных ворот десятки ломовиков то сидели идолами на своих полках, то вдруг, будто по команде, бросались и окружали какого-нибудь нанимателя, явившегося за подводой. Кричали, ругались. Наконец по общему соглашению устанавливалась цена, хотя нанимали одного извозчика и в один конец. Но для нанимателя дело еще не было кончено, и он не мог взять возчика, который брал подходящую цену. Все ломовые собирались в круг, и в чью-нибудь шапку каждый бросал медную копейку, как-нибудь меченную. Наниматель вынимал на чье-то «счастье» монету и с обладателем ее уезжал.
Пока мой извозчик добивался ведра в очереди, я на все успел насмотреться, поражаясь суете, шуму и беспорядочности этой самой тогда проезжей площади Москвы… Кстати сказать, и самой зловонной от стоянки лошадей.
Спустились к Театральной площади, «окружили» ее по канату. Проехали Охотный, Моховую. Поднялись в гору по Воздвиженке. У Арбата прогромыхала карета на высоких рессорах, с гербом на дверцах. В ней сидела седая дама. На козлах, рядом с кучером, — выездной лакей с баками, в цилиндре с позументом и в ливрее с большими светлыми пуговицами. А сзади кареты, на запятках, стояли два бритых лакея в длинных ливреях, тоже в цилиндрах и с галунами.
За каретой на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт, в шинели с бобром и в треуголке с плюмажем, едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тогда называли эгоисткой…
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Из книги
Все о Москве (сборник)
автора
Из книги
По землям московских сел и слобод
автора
Романюк Сергей Константинович
Хамовники
ХАМОВНИКИС обрывистого холмистого правого берега Москвы-реки — Воробьевых гор — далеко видно низменное пространство по левому берегу, заключенное в большой излучине, покрытой когда-то лугами, заливаемыми при половодьях. Появление слободского населения на
Из книги
Москва и москвичи
автора
Гиляровский Владимир Алексеевич
Из Лефортова в Хамовники
На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег
Я – москвич! Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая в него всего себя. Я – москвич!
…Минувшее проходит предо мною…
Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пестром фоне хорошо знакомого мне прошлого, где уже умирающего, где окончательно исчезнувшего, я вижу растущую не по дням, а по часам новую Москву. Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу и в подземные глубины метро, освещенные электричеством, сверкающие мрамором чудесных зал.
…В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. От них сбегают широкие каменные лестницы. Скоро они омоются новыми волнами: Волга с каждым днем приближается к Москве.
Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, стояла на шесте голова Степана Разина, казненного здесь. Там, где недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь – асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы – эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготовляют себя к геройским подвигам и во льдах Арктики, и в мертвой пустыне Кара-Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа.
Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы…
Это стало возможно только в стране, где Советская власть.
Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах.
…Грядущее проходит предо мною…
И минувшее проходит предо мной. Уже теперь во многом оно непонятно для молодежи, а скоро исчезнет совсем. И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была старая Москва, как и какие люди бытовали в ней.
И вот «на старости я сызнова живу» двумя жизнями: «старой» и «новой». Старая – фон новой, который должен отразить величие второй. И моя работа делает меня молодым и счастливым – меня, прожившего и живущего
На грани двух столетий,
На переломе двух миров.
Вл. Гиляровский
Москва, декабрь 1934 г.
Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.
Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути – Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, «Лафортово».
– Во, это Рязанский вокзал! – указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.
Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желтокрасным пятнышком лампадки… Темь, тишина, сон беспробудный.
Вдали два раза ударил колокол – два часа!
– Это на Басманной. А это Ольховцы… – пояснил вожатый. И вдруг запел петухом: – Ку-ка-ре-ку!..
Мы оторопели: что он, с ума спятил?
А он еще…
И вдруг – сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»
Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.
Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.
– Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, – пояснил Костя.
Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года.
Из Лефортова в Хамовники
На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортова отправиться в Хамовники, в Теплый переулок. Денег в кармане в обрез: два двугривенных да медяки. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищеные тротуары да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась.
На углу Гороховой – единственный извозчик, старик, в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошевни – низкие лубочные санки с низким сиденьем для пассажиров и перекинутой в передней части дощечкой для извозчика. Сбруя и вожжи веревочные. За подпояской кнут.
– Дедушка, в Хамовники!
– Кое место?
– В Теплый переулок.
– Двоегривенный.
Мне показалось это очень дорого.
– Гривенник.
Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной.
– Последнее слово – пятиалтынный? Без почину стою…
Шагов через десять он опять:
– Последнее слово – двенадцать копеек…
Извозчик бьет кнутом лошаденку. Скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они скользят, а не режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней.
Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня:
– А ты не сбежишь у меня? А то бывает: везешь, везешь, а он в проходные ворота – юрк!
– Куда мне сбежать – я первый день в Москве…
Жалуется на дорогу:
– Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели…
– На чем? – спрашиваю. – На гитаре?
– Ну да, на колибере… вон на таком, гляди.
Из переулка поворачивал на такой же, как и наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди – сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха в салопе с куньим воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой, с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом.
Так я в первый раз увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.
«Сильные тексты» — это «виртуальный филфак», цикл открытых семинаров, в которых происходит свободное обсуждение канонических стихотворений русской литературы. Нам интересно рассмотреть, как живут и воспринимаются знакомые многим со школьных времен стихотворения XIX и ХХ века сегодня, что делает эти тексты «сильными», и как меняется литературный канон.
Бессменные ведущие семинаров: Олег Лекманов и Роман Лейбов.
В разговоре участвовали филологи Александр Жолковский и Владимир Новиков, поэт Дмитрий Быков, музыкант Дмитрий Шумилов, а также юные читатели.
Лейбов: Я сейчас поставлю эту песню. Я искал самое раннее исполнение. Оно не совсем такое, как, может быть, вам помнится, потому что вы помните более позднее. Но зато оно такое, как оно запомнилось мне с детства. Это запись года моего рождения, поэтому для меня это имеет особый сентиментальный смысл. Немножко другая мелодия, впрочем, не очень отличающаяся от более поздних записей.
ГЛАВНАЯ ПЕСЕНКА
Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.
Она еще очень неспетая.
Она зелена как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог,
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.
(1962)
Лейбов: Аплодируют зрители ленинградского Дома кино. И мы приступаем к нашему разговору. И первой поговорит о Окуджаве Настя. Пожалуйста.
Аникина: Всем добрый вечер, дорогие коллеги и слушатели, я очень рада быть на этом семинаре и рада поделиться каким-то своим юным, студенческим, возможно, в чем-то наивным впечатлением от этого стихотворения и в целом от творчества Окуджавы. Мне особенно радостно быть на этом семинаре, потому что Окуджава для меня — поэт детства, под которого мы собирались всей семьей и пели песни под гитару, и восприятие его творчества у меня началось с чего-то очень чувственного, и поэтому сейчас очень сложно предать какому-то анализу его стихотворение. Мне будет очень интересно послушать эту дискуссию. У меня создается такое ощущение, что в этом стихотворении действительно как будто бы собирается «оркестрик» надежды, простоты, чего-то очень важного и человечного, и происходит какой-то возврат к чему-то очень человечному, к тому, что есть у каждого, — какой-то мечте о том, что хочется поймать и не отпускать. И для меня интересно то, что даже без музыки, когда читаешь это стихотворение, создается это ощущение особого ритма движения, и эти все образы — образ трубача, краски, мелодий — всё это уже есть музыка.
И хочу поделиться двумя ощущениями, двумя чувствами и впечатлениями, которые у меня появились во время прочтения этого стихотворения. Первое — это чувство хорошо прожитой жизни, но как будто бы не своей, потому что песенку лирический герой спеть так и не смог. И на фоне этой светлой тоски создается еще ощущение какого-то счастья и рождения, вот у меня создалась такая ассоциация, что возникает предчувствие невыразимого, такое душевное состояние, которое бывает ранней весной, когда ты идешь по городу, солнце бьет в глаза, и начинается абсолютно разное движение: звуки машин, запевающие птицы, всё сливается во что-то одно, и от этого безумно радостно и в то же время отчего-то немного грустно. И, наверное, грустно от того, что не все счастливы от какой-то простоты, о которой как раз говорит лирический герой здесь. Мое впечатление такое, я была очень рада им поделиться, и будет интересно послушать вас всех. Передаю слово Лизе.
Лейбов: Интересно, Настя, изменится ли что-нибудь после нашего разговора. Но мы сможем поделиться своими впечатлениями в тайном нашем чате, общем для руководителей семинара и младшей части. Лиза, пожалуйста.
Уфимцева: Добрый вечер! Я очень рада участвовать в этом семинаре, спасибо за такую возможность. Прежде всего, меня зацепил факт двух грамматических неточностей, которые, как мне кажется, отражают какие-то главные мотивы стихотворения, песни: это «самая лучшая» (но это такая грамматическая неточность, которую довольно часто Окуджава допускает и которая акцентирует внимание на важности песни, несмотря на то, что рядом стоит «наверное», такая амбивалентность), и «очень неспетая». Важен тот факт, что песня по сути так и не была спета, произнесена. И с этим связывается мотив какого-то неделания или пассивного действия, которое характерно именно для лирического героя, потому что он слушает, слышит, либо не проходит («мною не пройдено»), либо не может спеть. И активной здесь является как раз песенка, она сама шевелится, «слова» сами «ложатся». И трубач также, в отличие от лирического героя, что-то выводит и что-то совершает. И герой словно ждет чего-то извне, какого-то действия, и это встречается не только в этом стихотворении, но и, например, в стихотворении «На белый бал берез не соберу…», где лирический герой «ждет из тишины каких-то слов», и они так же ему важны, как в стихотворении, которое мы разбираем. Другое сопоставление — это в стихотворении «Мастер Гриша», здесь тоже нужно на кого-то надеяться, и это человек извне, который «придет и всё наладит», но здесь параллель, уже не столько связанная с поэзией, но всё равно характерная для Окуджавы.
И у меня появилась версия о том, что существует фигура музыканта и фигура поэта, и музыкант — это тот, кто творит, кто может творить. В том же «Городском саду» музыкант играет, и он что-то делает руками, его руки делают так, что звуки извлекаются. А поэт, скорее, смотрит на это и надеется понять, как это сделать и как это произнести. Несмотря на то, что музыкант сам не знает, о чем он как будто говорит, — что «нет печальных и больных», — но он знает, как это сделать.
И также важно, что в той же «Песенке о моей душе» не только поэт не может сказать какие-то главные слова, но и человек часто сам не может сказать о своей душе, не может поделиться с кем-то. «Он томится, он хочет со мной поделиться, / Очень важное слово готово пролиться», но он не может этого сделать, и всё остается как будто в музыке. А музыка — что-то, что внутри человека. «Каждый волен играть, что горазд, на трубе… / Каждый сам по себе: я — себе, он — себе». То есть как будто музыка — это что-то внутреннее и первоначальное. И это напомнило мне «Silentium» Мандельштама, а именно строчку «И, слово, в музыку вернись», как будто слово изначально исходит из музыки, но не всегда может появиться.
Лейбов: Лиза, огромное спасибо. Можно продолжать в разные стороны, и я надеюсь, что мы вернемся к каким-то темам, о которых здесь шла речь. Очень здорово. Сейчас мы скажем с Олегом тоже какие-то свои очень короткие слова, а потом перейдем к основной части. Пожалуйста, Олег.
Лекманов: Есть такой способ прояснения текста: берем значимое слово из него и смотрим, в какие контексты оно попадает в других произведениях автора. Сегодня я чуть-чуть поговорю о «трубачах» и «трубе» в песнях и стихотворениях Окуджавы. Моя цель — попытаться объяснить, почему «мелодию» так и не написанной окуджавской «главной песенки» «выводит» именно «грядущий трубач». Разумеется, я не буду претендовать на то, чтобы процитировать все окуджавские стихотворения и песни, содержащие упоминания об этом музыкальном инструменте.
Первый контекст, в который труба и трубач попадают у раннего Окуджавы, — это важный для него тогда революционный контекст. Напомню, что отец и мать поэта были репрессированы, в 1956 году после реабилитации обоих родителей Окуджава вступил в партию, так что пафос возвращения к идеалам досталинского коммунизма был для него в 1962 году, в котором была написана эта песня, еще очень актуален. Об этом в 1957 году был написан программный окуджавский «Сентиментальный марш», в первых стихах которого возникает образ трубы и трубача: «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, / Когда трубу к губам приблизит и острый локоть отведет». И далее: «Но если целый век пройдет и ты надеяться устанешь, / Надежда, если надо мною смерть распахнет свои крыла, / Ты прикажи, пускай тогда трубач израненный привстанет, / Чтобы последняя граната меня прикончить не могла».
Соединение образа трубача с гражданской войной и революцией до Окуджавы встречалось у важного для него Михаила Светлова, а вслед за Окуджавой оно начало часто использоваться в бардовских песнях: в «Песне о маленьком трубаче» Сергея Никитина и Сергея Крылова, «Песне о трубаче» Бориса Вахнюка и Григория Остера, «Трубачах» Виктора Берковского и Натана Злотникова.
Второй, еще более значимый контекст — это стихотворения и песни Окуджавы о той войне, в которой ему пришлось принять участие самому. Маршевая труба звучит в зачине его песни 1959 года: «Ах, трубы медные гремят, / Кружится воинский парад — / За рядом ряд, за рядом ряд идут в строю солдаты». И далее: «Ведь нынче музыка — тебе, / Трубач играет на трубе, / Мундштук трясется на губе, трясется он, трясется».
Сквозь весь текст проведен мотив трубы в военном стихотворении Окуджавы 1982 года:
Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами,
и лежали как снопы.
Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот;
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.
Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и всё, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.
Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?
С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.
И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я — пятидесятилетний,
искушенный и слепой.
Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?..
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..
Поскольку трубач (обычно — мужчина) обнимает трубу, как женщину, и при этом прижимается к ней губами, труба органично становится одним из важных образов в любовной лирике Окуджавы (третий контекст). Процитирую здесь стихотворение «Ночь после войны» 1955 года: «Холодное тело трубы обхватив, / трубит музыкант забытый мотив» и несколько строк из знаменитой песни Окуджавы 1975 года (наверняка мы к ней еще сегодня обратимся): «Заезжий музыкант целуется с трубою, / пассажи по утрам, так просто, ни о чем… / Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою. / Прижмись ко мне плечом, / прижмись ко мне плечом».
Но ведь губы в мировой литературе традиционно связаны не только с темой любви, но и с темой поэзии, с темой проговаривания строчек сочиняемых стихотворений (вспомним хотя бы мандельштамовское: «Губ шевелящихся отнять вы не могли»). В соединении с музыкой, которая порождается губами трубача и небом, в которое уносится эта музыка (ведь раструб трубы, как правило, направлен вверх), образ губ создает четвертый и, пожалуй, самый важный для Окуджавы контекст. Музыка трубы часто предстает у него метафорой поэтического творчества. К этой метафоре Окуджава прибегает, описывая рождение вдохновения в «Песенке о ночной Москве»: «Когда внезапно возникает / еще неясный голос труб, / слова, как ястребы ночные, / срываются с горячих губ» (обратим особое внимание на рифму «труб — губ»). Упоминается о звучании трубы в окуджавском стихотворении «Музыка» 1962 года, описывающем, как искусство воздействует на людей: «…Вот сила музыки. Едва ли / поспоришь с ней бездумно и легко /, как будто трубы медные зазвали / куда-то горячо и далеко…» А в песне 1986 года Окуджава демонстративно и прямо соединил свою поэзию со звучанием трубы, на которой играет его сын: «В день рождения подарок преподнес я сам себе. / Сын потом возьмет — озвучит и сыграет на трубе. / Сочинилось как-то так, само собою, / что-то среднее меж песней и судьбою».
Сегодня я не успею ничего сказать ни о краковском трубаче из песни Окуджавы «Прощание с Польшей», ни о «картонных трубах» из, по-моему, лучшей просто песни Окуджавы «Прощание с новогодней елкой», ни о трубе в ранней окуджавской «Песенке о судьбе» (которая сегодня тоже уже цитировалась Лизой), но и сказанного, надеюсь, достаточно, чтобы резюмировать: образ трубы органично встраивается в важнейшие для Окуджавы биографические контексты, поэтому неудивительно, что мелодию «главной песенки» ему должен был подсказать не пианист, не кларнетист (вспомним стихотворение «Круглы у радости глаза…») и даже не часто упоминающийся в стихах и песнях Окуджавы флейтист, а именно трубач.
Лейбов: Спасибо большое, Олег, я подумал, что здорово было бы, если бы мы договорились, что все стихотворения Окуджавы, которые мы можем в цитатах пропеть, мы пропеваем. Но я так делать не буду. Да у меня, впрочем, кажется, и цитат там не будет.
Олег замечательно рассказал об одном слове, которое у Окуджавы приобретает особое расширенное значение, не полностью совпадающее со словарным и скрытое для внешнего наблюдателя, то есть человека, который впервые знакомится с текстами Окуджавы, но очевидное тому, кто знает весь корпус Окуджавы более или менее полно. Это вовсе не специфичное для поэзии ХХ века явление, но, конечно, после Блока и Мандельштама оно начинает связываться именно с поэтической культурой модернизма. Мне бы хотелось поговорить о другом слове, это ключевое слово повторяется в этой песенке много раз, и оно много раз повторяется в других песнях, чаще всего — в заглавиях, но в этой не только в заглавии. Это само слово «песенка».
Если вы откроете собрание стихов Окуджавы из серии «Библиотека поэта» и посмотрите там на алфавитный указатель текстов, вы увидите, что почти сорок стихотворений в заглавии содержат это слово как жанровое определение: песенка о том-то или песенка про то-то; но надо сказать, что в этом издании не совсем адекватно отражена авторская практика, и некоторые песни, которые Окуджава представлял аудитории именно как песенки, здесь помещены под другими заглавиями.
Мы можем проследить историческую судьбу этого слова как жанрового определения и просто как слова, чтобы лучше понять, почему используется именно оно. Для этого нам надо обратиться к началу новой русской литературы (и русского литературного языка) — XVIII столетию. Вообще говоря, «песня» — это метонимическое обозначение любой поэтической речи (исторически верное, но давно ослабившее прямую связь с реальным бытованием поэзии). Для русского классицизма с его тремя стилевыми регистрами существенно, что для этого термина имеется три однокоренных слова: высокое «песнь», среднее «песня» (они не всегда различаются в косвенных падежах) и низкое «песенка». Песнь — это гимн или ода. Песенка — это мир частного лиризма. Одну из первых песенок в истории русской литературы находим у Тредиаковского (1726), причем еще до рождения новой русской литературы:
ПЕСЕНКА, КОТОРУЮ Я СОЧИНИЛ, ЕЩЕ БУДУЧИ В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ, НА МОЙ ВЫЕЗД В ЧУЖИЕ КРАИ
Весна катит,
Зиму валит,
И уж листик с древом шумит.
Поют птички
Со синички,
Хвостом машут и лисички.
Это, так сказать, биографически-бытовая песенка, но есть у раннего Тредиаковского и песенка любовная, с рефреном «Люблю, драгая, тя, сам весь тая». Позже такую песенку сочинит герой Пушкина Петруша Гринёв, и он будет ее описывать именно как песенку, для него это жанровое определение — «песенка любовная»:
Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:
Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышлю вольность получить!
Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.
Ты, узнав мои напасти,
Сжалься, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.
В XIX столетии «песнь» и «песенка» как обозначение стихов (не обязательно положенных на музыку) вытесняется средним вариантом (песня): «Умолкли звуки чудных песен, / Не раздаваться им опять». Слово «песенка» уже на рубеже XVIII и XIX веков в качестве обозначения жанра стихотворения становится смешным анахронизмом (в функции части заглавия оно в XX веке воскреснет у Кузмина и Ахматовой). В целом в стихах значение слова «песенка» сдвигается в сторону названия именно вокального жанра, и внутри него — так сказать, в сторону позднего руссоизма: по направлению к птицам, детям и веселящемуся простонародью. Интересно посмотреть с этой стороны на поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: у него есть и «песни», и «песенки». Покуда народ стонет, это такие протяжные песни. А как начинает веселиться, так «Удалась мне песенка! — / Молвил Гриша, прыгая». На празднике — «песенка».
Однако обращение Окуджавы к этому жанровому определению, в первую очередь, конечно, связано не с этой занимательной историей, а с непосредственным историческим контекстом. В советской песне, на фоне которой и по контрасту с которой воспринимался мир песенок Окуджавы, песня — одна из главных сквозных тем, один из главных героев вообще. Есть замечательная статья Евгения Добренко о том, как режиссер Александров целый фильм посвятил песне («Волга-Волга» имеется в виду). Вся советская массовая песня — начиная с «Марша веселых ребят» и «Катюши» (где, впрочем, есть «песня», но и «песенка девичья») — это метапесня, песня о песне. А «песенка» в этом мире — это даже не пионерский, а дошкольный этап жизни советского человека: «Нам весело живется, мы песенку поем…» (С. Михалков).
На этом фоне авторское название жанра Окуджавы выглядит намеренно сниженным, но это снижение, которое возвращает высокие права частному человеческому чувству, сентиментальному слову, минорной мелодии, вырывающее слушателя (хотя бы на одно счастливое мгновение) из цепких объятий исторической детерминации («Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается…»).
Замечательно, что найденное спонтанно для жанра вокальной поэзии под гитару, это жанровое определение у Окуджавы возвращает себе статус поэтического тропа, обозначения поэзии вообще, точнее — обозначения особого типа текстов. Мы насчитали семь стихотворений, которые, насколько нам известно, никогда не исполнялись Окуджавой под гитару, но в заглавии которых значится «Песенка…». Примечательно, что первые стихотворения с такими заглавиями («Песенка о Фонтанке», «Песенка о художнике Пиросмани», «Песенка о белых дворниках»), если судить по изданию «Библиотеки поэта» (не весьма надежному, впрочем), встречаются в рубежном для Окуджавы (и не только для него) 1964 году, в год сорокалетия поэта, когда выходит наконец сборник «Веселый барабанщик», принципиально важный для него, когда стихов пишется много, а песен среди них — мало (тогда же начинается сотрудничество Окуджавы с И. Шварцем).
Вот я сказал всё, что я имел сказать, и теперь с удовольствием предоставляю слово Александру Константиновичу Жолковскому.
Жолковский: Последнее время, куда бы я ни пришел, я самый старший, даже среди коллег, которые много ближе, чем я, были знакомы с самим Окуджавой. Боюсь, что я один помню время, когда его песен еще не было, не говоря уже о научном их исследовании.
Начать хочу с покаянной благодарности ведущим, которые не только пригласили меня к участию, но и настояли на выборе именно этого текста как сильного, вопреки моим упорным возражениям (как я теперь вижу, ошибочным). Сильные тексты требуют сильных разборов, и я изо всех сил постарался загладить свою недооценку главной песенки. И мне будет легче говорить, потому что многое уже было замечательно сказано предыдущими ораторами. Я смогу бегло на это ссылаться или просто пропускать.
Относительно того, что текст не такой уж какой-то потрясающе особенный: он типично окуджавовский и вроде бы непритязательный. Он, как обычно, о попытках, надеждах, проблематичности удач, о «наверное», в нередком у Окуджавы трехсложном размере, который хорошо поется, с типичным мотивом начинательности — «шевельнулась», в других случаях — «пальцы тонкие прикоснулись к кобуре» («Песенка о комсомольской богине»), «в руки палочки кленовые берет» («Песенка о веселом барабанщике»), «возносится с трубою» («Прощание с Польшей») и так далее, с привычным хождением, кружением, дорогами, с вписанностью в природу («зелена, как трава»), с присяганием главному, самому лучшему, светлому, строгому (пока довольно-таки по-советски, лишь позднее появится ирония по адресу главного — скажем, начальства, и т. д.), с характерным сочетанием смеха и плача при подчеркнутой короткости именно смеха, и с типовой двусмысленной концовкой — «спеть я не смог», но текст налицо.
Однако поражает представительная густота этих инвариантов в сравнительно коротком тексте, а также его систематическая амбивалентность, начиная с заглавия (ведь «главная песенка» — это такой же оксюморон, как «командовал маленький оркестрик»), скороговоркой вброшенное и уже вовсе не советское двоемирие — «на этой земной стороне», изощренная поэзия грамматики, о которой речь впереди и о которой немножко заговорила Лиза сегодня, своеобразная фольклорно простенькая интертекстуальность (заметим, что слова не просто сами ложатся на музыку, но и безотчетно заимствуются — возможно, у Ахматовой: «И просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь»), и, наконец, прокламируемая, загадочная, но убедительная легкость, необычность и веселость — очевидный вызов для исследователя.
Заметьте, это не просто Окуджава, а Окуджава метапоэтический. Согласно его любимому поэту Пастернаку, «лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении» («Охранная грамота»). Тем более лучше стихи, непосредственно посвященные такому рождению. В собрании Окуджавы — 724 стихотворения, из них об искусстве трактуют, я посчитал, примерно 200 с лишним, а о собственно творческом процессе — около сотни, то есть примерно каждое седьмое. Согласно тому же Пастернаку, «искусство — не фонтан, а губка, орган восприятия, ему следует всегда быть в зрителях, а оно показывается с эстрады». Хотя Окуджава неизбежно показывается с эстрады, его метапоэтические тексты чаще всего не о сочинении стихов самим поэтом, а о восприятии (опять-таки, Лиза была совершенно права): Моцарта, Баха, тихого дирижера, заезжего музыканта, трубача, маленького оркестрика, шарманки, портного, природы, жизни — всего. Так и в «Главной песенке», которую «я» не поет, а слушает.
Метапоэтическая тема обычно дается поэтами с некоторым полуоборотом, контрастом, отказом, иной раз — драматизмом, даже если всё вроде бы беспроблемно. Так, на Фета отовсюду «весельем веет» и «песня зреет», хотя он и не знает сам, что будет петь. Ахматова строит свой творческий автопортрет на неожиданном признании, что она подслушивает всё у кого-то, «налево» берет «иль направо» и лишь потом выдает, шутя, за свое. Пастернак осознает, что «стихи слагаются навзрыд», и «чем случайней, тем верней». Частое осложнение — вообще неспособность творить.
Риторический, еще античный прием рекузации состоит в том, что поэт (Анакреон, Овидий, Гораций) заявляет, что неспособен воспеть героические подвиги и готов взяться лишь за скромные лирические темы любви, сельской жизни и т. п. Более мягкий вариант рекузации — обращение за адекватными средствами к великим мастерам, как в изображении Фелицы Державина и «Сталинской оде» Мандельштама («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…»).
Иногда поэт отказывается от следования одним образцам в пользу других, как в зачине «Слова…» (а не по замышлению Боянию), и в разговоре, скажем, с Анакреоном Ломоносова. Подобные отказные ходы типичны для классицистической и — шире — всякой рассудочной поэзии, сознательно занятой решением поставленных задач. Сюда можно отнести даже «А это — хулиганская, — сказала…» Кузмина, о которой шла речь в прошлый раз, где поэт методично перебирает подходящие способы и материалы для работы. Обычно получаются длинные прозаизированные тексты.
Противоположный им тип — романтический, импровизационный, краткий, как в примерах из Ахматовой, Фета, Пастернака. Но и ему не противопоказаны рекузационные жесты, вроде зачинов типа «Где слог найду, чтоб описать прогулку…» Кузмина, за которыми следует успешное описание.
Есть, конечно, промежуточные случаи, например очень дискурсивное «Невыразимое» Жуковского. Неспособность, эффектно оборачивающаяся фактическим созданием предъявляемого читателю текста, может быть и подлинной, а не риторической — как у Ахмадулиной:
Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешить не смогла.
<…>
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
(«Это я»)
В таких случаях неспособность констатируется обычно не в начале, а в середине или в конце стихотворения, к ней текст приходит. «Главная песенка» ближе всего к этому подтипу, если не считать ее загадочной легкости и некоторых других оригинальных поворотов темы. Пока что констатирую знакомый набор окуджавовских метапоэтических мотивов. Это импровизационность, неспособность («неспетая», «не смог»), слушание, приверженность чудесам («чудится»), трубач, музыка и фольклорная безличность творчества. «Песенка» написана трехстопным амфибрахием. Гаспаров очертил для него целый круг ореолов: установки на заздравную песнь, на балладу, на гейнеобразность, на романтическую интонацию и, наконец, на торжественные стихи и их особую подгруппу: стихи о поэзии. Начало им положил Брюсов своим «Поэту» («Ты должен быть гордым, как знамя…»), и Михаил Леонович приводит набор текстов, включая ахматовского «Поэта» («Подумаешь, тоже работа…», которое я цитировал уже). Я бы добавил еще два подтипа, восходящие к «Нас мало, нас, может быть, трое…» Пастернака и к мандельштамовским восьмистишиям: «Люблю появление ткани…» и «Когда, уничтожив набросок…». Правда, Гаспаров рассматривает только формы с женскими и мужскими окончаниями, а у Окуджавы здесь длинные окончания не женские, а дактилические: «лучшую — слушаю». Но это отклонение вполне допустимое. Так, в кульминации «Баллады (Сижу, освещаемый сверху…)» В. Ходасевича вместо женской однажды появляется дактилическая рифма:
И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,
И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие.
А Вознесенский в своем отклике на «Нас мало…» вообще рифмует женские окончания с дактилическими: «Нас много, нас, может быть, четверо, / Несемся в машине, как черти».
У самого Окуджавы десяток стихотворений написан трехстопным амфибрахием, в основном метапоэтических, с как женскими, так и дактилическими окончаниями. Об одном стихотворении — «Я в Кельне живу. Возле Копелева…» (1992) — дактилические окончания чередуются с гипердактилическими, причем начинается с того, что они рифмуются друг с другом: «Копелева — топлива».
Оставляя в стороне общее следование Окуджавой метапоэтической ветви трехстопного амфибрахия и соответствующей текстуальной переклички, остановлюсь на вероятном неожиданном непосредственном подтексте «Песенки». В фильме «Испытание верности» Ивана Пырьева (1954) с экрана прозвучала песня «Поручение» (музыка И. Дунаевского на стихи М. Матусовского):
В Москве, в отдаленном районе,
Двенадцатый дом от угла,
Чудесная девушка Тоня
Согласно прописке жила.
У этого дома по тропке
Бродил я, не чувствуя ног.
И парень был в общем не робкий,
А вот объясниться не мог.
И как я додумался, братцы,
И сам до сих пор не пойму,
В любви перед нею признаться
Доверить дружку своему.
Под вечер запели гармони,
И стал небосвод голубым,
Тогда и отправился к Тоне
Мой друг с порученьем моим.
Но долго стоял я в обиде,
Себя проклиная тайком,
Когда я их вместе увидел
На танцах в саду заводском.
И сердце забилось неровно,
И с горечью вымолвил я:
— Прощай, Антонина Петровна, —
Неспетая песня моя!..
В любви надо действовать смело,
Задачи решать самому,
И это серьезное дело
Нельзя поручать никому!
Лейбов: А я не знаю, кто это исполняет здесь. В фильме поет артист С. Чекан.
Жолковский: Я думаю, что Доронин. Ну, знаменитое исполнение Доронина.
Обратим внимание на метапоэтические аспекты этой шуточной любовной баллады: ее трехстопный амфибрахий, ее сирано-де-бержераковский сюжет с акцентом на передоверяемом слове, мотивы музыки и пения («запели гармони») и, разумеется, словесный кластер «бродил я, не чувствуя ног», «объясниться не мог» и «неспетая песня моя». Говоря очень кратко, Окуджава в духе эволюции семантических ореолов этого метра отбрасывает собственно любовную тематику и сосредотачивается на метапоэтической, каковую переворачивает: серьезное любовное дело, может, и «нельзя доверять никому», а легкое и веселое поэтическое почему бы и не отдать грядущему трубачу.
Любопытная отсылка к поручению этой песни есть в книге Быкова, но об этом потом, если останется время и мы к этому вернемся.
Само «Поручение» Матусовского, в свою очередь, игриво откликается на традицию размера, в частности на «Хорошую девочку Лиду» Смелякова, особенно строчкой «чудесная девушка Тоня» и еще многим другим (про «Лиду» можно долго говорить). Гаспаров относит «Лиду» к любовной ветви гейнеобразных амфибрахиев. Замечает он и «Поручение» Матусовского, а именно его зачин: «В Москве, в отдаленном районе…» мы находим в его списке обстоятельственных зачинов а-ля «По синим волнам океана» (это заглавие статьи Гаспарова), типичных для балладной ветви этого размера. И ведь смеляковская «Лида» не просто любовно-балладна, но и метапоэтична. Ее герой на всем, чем можно, пишет имя героини в течение длиннейшей второй половины текста, а о напряженных профессиональных и интертекстуальных отношениях Окуджавы со Смеляковым я узнал много полезного из книги Дмитрия Быкова. «Песенка» Окуджавы интересно связана и с «Лидой».
Тема стихотворения развертывается по трем линиям: возникновение песенки, ее авторства и модуса существования. И по всем трем она двусмысленно развертывается. Песенка то ли поется, то ли нет, то ли лирическим «я», то ли нет, то ли в реальном настоящем, то ли в виртуальном будущем. Эта тройственная амбивалентность пронизывает структуру вещи, в частности ее разнообразные неграмматичности. Первая строфа строится на инверсии: прилагательному «лучшую» приходится ждать своего существительного «песенку» в течение почти трех строк, да еще между ними грамматически непроективно вставляется часть сказуемого, причем не та: «хожу», а не «слушаю». Эти инверсии как бы подрывают нормальный ход времени, но с грамматическими временами всё здесь пока что в порядке.
Во второй строфе неграмматично сочетание «еще очень неспетая», отмеченное сразу же Лизой, тоже подрывающее ход времени и предвещающее финальную неспетость. Кстати, такой наивный нажим на внутреннюю форму слова — излюбленный прием Окуджавы: «А женщину зовут Дорога… / Какая дальняя она!» Слово «зелена» двусмысленно, оно означает «незрелость» применительно к плодам и (переносное) к людям, но никак не к траве, так что сочинению песенки как бы обещается и успех. «Чудится» подает надежду на чудесный контакт с виртуальным будущим, но всё еще в грамматических рамках настоящего.
В третьей строфе «я» переносится во время, которое им не пройдено, подхватывая «хожу» из первой строфы, и слышит исполнение мелодий виртуальным «каким-то грядущим трубачом». (У Ахматовой: «Мне чудятся и жалобы, и стоны, / сужается какой-то тайный круг».) Но грамматика всё еще соблюдается, если «слышу» понимать в смысле «слышу внутренним слухом», как в первой строфе.
В четвертой строфе, построчно повторяющей и варьирующей первую, оксюморонно замыкаются все сюжетные линии. Точка зрения аграмматически переносится в будущее, которое стало настоящим («кружит»), из которого взгляд бросается в былое настоящее, а ныне в прошлое («не смог»). Сравним у Пастернака:
Я вижу сквозь его пролеты
Bсю будущую жизнь насквозь.
Bсё до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.
(«Всё сбылось»)
Только у Пастернака «всё сбылось», а здесь наоборот — «спеть я не смог».
Остается вопрос: что же тут так «легко, необычно и весело»? Он только согласен расстаться с ней, отдав ее какому-то трубачу, грядущему, фольклору, читателю, что, конечно, немного странно, но не выдавать же ее в конце концов за свое?.. А «кружа над скрещеньем дорог», она уже оказывается как бы на полпути с нашей «земной стороны» к той, про которую в позднейшем тексте будет сказано: «В Иерусалиме небо близко». И не исключено, что я все-таки сочинил ее, только вот спеть не смог.
Лейбов: Спасибо большое. Я хотел показать сейчас текст, который для Смелякова — не уверен, хотя вполне возможно, для Матусовского — очень возможно, а для Окуджавы — скорее всего в том же смысле, как тексты Матусовского и Смелякова, а мелодически (особенно для того варианта, между прочим, который я ставил) в рефрене довольно важный. Я его сейчас нашел быстро и так же быстро его поставлю, чтобы просто вы его вспомнили.
Вертинский
«Мадам, уже падают листья»
На солнечном пляже в июне
В своих голубых пижама
Девчонка — звезда и шалунья —
Она меня сводит с ума.
Под синий berceuse океана
На желто-лимонном песке
Настойчиво, нежно и рьяно
Я ей напеваю в тоске:
«Мадам, уже песни пропеты!
Мне нечего больше сказать!
В такое волшебное лето
Не надо так долго терзать!
Я жду Вас, как сна голубого!
Я гибну в любовном огне!
Когда же Вы скажете слово,
Когда Вы придете ко мне?»
<…>
1930
И мы помним, что завершается это тем, что «Я к Вам… никогда не приду».
Новиков: Дорогие коллеги, я хочу поделиться прежде всего чувством глубокого удовлетворения, говоря лексикой 1970-х годов, от сегодняшней нашей встречи, от того, что об Окуджаве идет речь в контексте высокой русской поэзии, поэтической классики, и он между Жуковским и Некрасовым в плане семинара стоит. Так было не всегда. Я, прежде чем что-то говорить и писать об Окуджаве, был просто его болельщиком и, подобно Александру Константиновичу, многие песни (во всяком случае после 1957 года) воспринимал по мере их появления. Да и текст Матусовского про Антонину Петровну тоже, по-моему, синхронно, по мере появления как зритель фильма этого слышал. Но мне вспоминается и другое: мне вспоминается примерно того времени, когда писалась «Главная песенка», статья Лисочкина в «Комсомольской правде», которую я в руках держал и читал с соответствующими эмоциями, — «Цена шумного успеха».
Коллега Роман Лейбов замечательно рассказал о контексте слова «песенка» как обозначения жанра, так вот, в то время «песенка» приобрело ещё и несколько криминальное значение. Один из администраторов нашего факультета, филфака, говорил, что «студенты в общежитии должны учиться, а не слушать сомнительные песенки». Ну, вы знаете, что тогда как раз все у магнитофонов собирались. Когда вышел энциклопедический словарь, такой голубой двухтомный, и там появилась статья об Окуджаве благодаря кому-то из энтузиастов, в прессе (не помню, в какой именно газете, «Правде» или «Известиях») саркастически цитировалось, что Окуджава — это «поэт», над этим издевались; что он также «поет песни и исполнитель в сопровождении гитары». Это считалось невероятно смешно. И должен сказать, что отталкивание такое наблюдалось не только в реакционных кругах, но Окуджава столкнулся со снобизмом в значительной мере и интеллигентной публики. Радостно сейчас видеть, как молодые филологи говорят об Окуджаве как о классике, но в те времена такой разговор еще был невозможен. Я вспоминаю, как один из замечательных поэтов примерно поколения Окуджавы мне говорил: «Ну Окуджава, какой он поэт? Он песенник!» Ну, я как человек учтивый и моложе его не мог ему сказать: «А что Ваше одно произведение известно в основном благодаря музыке Эшпая и исполнению Марка Бернеса?», но вот ярлык песенника сопровождал репутацию Окуджавы, такое было.
По моим наблюдениям, русский язык всё решает примерно за полвека, и вот эти полвека прошли. А тогда произведения Окуджавы воспринимались… один из возможных упреков был в банальности. Я это слово как-то на одной из окуджавских конференций привел, и одна коллега очень недовольна была, что я по отношению к Булату употребил такое слово. Я стал оправдываться, говоря: «Это может быть нужная банальность, как говорил Тынянов о Блоке, Есенине и так далее». Но действительно, если посмотреть на поверхностный смысловой слой, ну что там? Поэт недоволен тем, что он еще не сочинил какую-то главную песенку. Это вполне советский канон: стремиться надо к каким-то высоким целям, а к себе относиться самокритично.
Поэтому «Главная песенка» немножко ставила меня в тупик, потому что легко заниматься интерпретацией стихотворного текста, который никто, кроме тебя, не понимает, и ты выступаешь его неким толмачом. А тут, когда все и так лучше тебя понимают, что остается сказать? Остается только всем пойти к дому № 43 на Арбате… Я смотрел разные фонограммы «Главной песенки», и там замечательная компания во главе с Владимиром Альтшуллером, который держит гитару, просто хором поет. И больше не нужно никаких объяснений. Но все-таки хочется. Окуджава работал в жанре мотивированного искусства, говоря термином Тынянова. Но я с давних пор ищу какие-то семантические сдвиги в нем, и здесь сдвиг обнаруживается вот на каком, может быть, уровне: такая легкая ироничность. Должен сказать, что ироничность у Окуджавы не в каких-то специально для этого отведенных местах, а она глубоко пронизывает все его лучшие тексты, вот именно песенки. Как наш коллега Н. А. Богомолов довольно смело написал, что шедевры Окуджавы — это именно то, что он обозначал словом «песенка», а стихотворения письменные — они, в общем, вторичны по отношению к этим песенкам, и там Окуджава не уникален. Я долго с этим внутренне спорил, но в конце концов согласился.
Так вот, у Окуджавы сдвиг где-то есть, но он всегда гармонизирован. Где он происходит? В своей речи Окуджава (все-таки довелось с ним немного общаться) был постоянно ироничен. Абсолютно не обидно для собеседника, потому что его ироничность, во-первых, была такой тотальной, вселенской, по отношению ко всему; во-вторых, это была самоирония. Самоиронии было всегда больше, чем ироничности по отношению к собеседнику. В этом смысле он был собеседником необыкновенно комфортным. И возможно, что здесь не только метапоэтическая тематика, не только разговор о поэте и поэзии, но и другой.
Потом, какое есть легкое противоречие: «та самая главная песенка», которую что — обещает Окуджава сочинить такую песню, собирается? Ну, вот расцвет его творчества я отмеряю до 1988 года, последний шедевр — это «Совесть, благородство и достоинство», то, что и, кстати, имеет название простое: «песенка». Но уже и «Главная песенка», в общем-то, недурна, у Окуджавы есть некоторая совокупность шедевров, и мы бы наверное все ее туда включили. То есть здесь такая мягкая ироничная возможна интерпретация: я говорю о том, что не смог спеть песенку, а вы что, не догадались, что я вам ее только что спел? Что это и есть вполне та самая чаемая главная песенка, но это уже скажу не я сам, это уже должны признать вы, если, конечно, вы так считаете. Это одно расширение смысла. А другое расширение смысла (это уже, по-моему, немножечко в нашем полилоге где-то возникало) в том, что песенка — это даже не поэзия, это даже не искусство, это нечто большее. Это, может быть, жизнь (что, в общем, опирается на фольклорное сознание, «неспетая песенка» и поговорка «Его песенка спета», то есть для фольклорного сознания тождество «песенки» и «жизни» совершенно органично). И — апеллирую к внетекстовой реальности — где-то в 70-е годы какой-то день рождения или юбилей человека, такого типичного интеллигента той эпохи, далекого от литературы, не писавшего никогда стихов и не собиравшегося их писать, и он в такой дружеской компании, где он уверен в хорошем отношении всех окружающих, говорит: «А вот главную песенку спеть я не смог». Как бы присваивая себе окуджавскую таинственность. Что он имеет в виду под этой главной песенкой? То есть какая-то жизненная цель, мечта, которая не сбылась, и это, конечно, необыкновенно демократизует этот текст и делает его… Наши юные коллеги упоминали понятие лирического героя, крайне рискованное, но, я думаю, здесь оправданное, я для простоты говорю, что лирический герой — это то, где в авторское «я» человек может поставить себя. Так вот, здесь может поставить себя в это «я» не только поэт, не только творец художественных ценностей, но и любой простой человек.
Еще я сравнил несколько фонограмм этой песни. Мы послушали замечательную раннюю фонограмму, и она, наверное, лучшая, но есть где пожилой Окуджава поет. И что там необычно: последние два стиха («Та самая главная песенка, / Которую спеть я не смог») он повторяет почему-то очень много раз, больше, чем принято. Я не считал, сколько именно. Мне кажется, что это горизонт жизни он этим исполнением как-то обрисовывает.
Касаясь текстологии и трубача, о котором Олег Андершанович говорил, не могу не вспомнить еще и такой, так сказать, misuse этой песни. В кинофильме. Мало кто его помнит: в 1975-м году был фильм под названием «На ясный огонь». Этот фильм весь прошит Окуджавой. Он использует самое неудачное произведение Михаила Зощенко, малоизвестное, на тему Гражданской войны. И там песню поет Доронина. И интересно, что ее останавливают на «грядущем трубаче» (конец цитаты), и звучит это с патетической интонацией, то есть этой песне придается такое романтико-героическое звучание, которое, впрочем, ее смысла не подрывает. Потому что потенциально здесь и это содержится, как правильно Олег Андершанович говорил: опора на контексты раннего Окуджавы с мотивом трубача.
Значительная часть здесь присутствующих так или иначе в своих выступлениях касалась темы «Окуджава и Блок». И действительно здесь и на микро-, и на макроуровне эта связь присутствует. На словесном уровне — «сквозь смех наш короткий и плач» — диалектика плача и смеха: «В заколдованной области плача, / В тайне смеха — позорного нет!» И в целом ирония по отношению к искусству как таковому, которое всегда уступает жизни: «Ведь я — сочинитель, / Человек, называющий всё по имени, / Отнимающий аромат у живого цветка» (Блок «Когда вы стоите на моем пути…») — это тоже Окуджаве не было чуждо. Так что я опять повторю свою любимую мысль о связи трех главных бардов с тремя школами русского модернизма: Галича — с акмеистической, Высоцкого — с футуристической, а Окуджава, который в молодости опирался на какие-то формальные достижения Маяковского, в конце концов пришел к блоковской символичности.
Лейбов: Спасибо большое, Владимир Иванович. Я позволю себе одно замечание: помимо действительно этих странных повторов в позднем исполнении, еще нужно отметить, что по крайней мере два записанных концерта есть, где Окуджава нарочито ставит эту песню в конец. Один минский, второй московский. У него была такая идея завершать этой песней концерт.
Олег что-то хотел нам сказать…
Лекманов: Да, я хотел очень коротко, уже по ходу просто того, что было сказано. Во-первых, тоже про «песенку» хотел буквально два слова, про жанр, потому что это важно. Просто, не развивая этого, хотел бы заметить, что «песенка» окуджавская — это отчасти как «стишки» Бродского, такое сознательное как бы снижение. И это позволено, мне кажется, самому Окуджаве и самому Бродскому. Вот если бы кто-то другой сказал: «Ваши песенки, Булат Шалвович…» — я, при всей самоироничности Окуджавы, не уверен, что он бы обрадовался. Ахматова тоже такие штуки любила.
А второе, что я хотел сказать, тема, мне кажется очень важная, к тому, что говорил Александр Константинович… А именно: все-таки насколько наша бардовская песня (ну, Окуджава и Галич, например, я про Высоцкого не говорю) связана, помимо всего прочего, с песнями из кинофильмов, которые потом у них перетекли в совершенно другое. Потому что песня Матусовского, которую ставил Алик, — она ведь тоже на Галича похожа немножко, правда? Вот это «Прощай, Антонина Петровна…» — это же почти из Галича, даже больше, мне кажется, чем из Окуджавы.
Лейбов: Спасибо большое. Я остановлю себя и передам слово Дмитрию Львовичу, которого я представил как поэта, но, естественно, когда мы приглашали его, мы не забывали о том, что он автор большой монографии о жизни и творчестве Окуджавы. Пожалуйста, Дмитрий Львович.
Быков: Здравствуйте, дорогие друзья! Я счастлив вас видеть и слышать. У меня три небогатых соображения, потому что я не очень люблю эту вещь и, конечно, считаю ее достаточно проходной для Окуджавы, тем более что она знаменует собой, в общем, кризис: это момент переезда в Ленинград, момент довольно резкого биографического перелома и ощущения некоторой исчерпанности. Если в 1956–1959-м он почти каждое новое стихотворение по крайней мере один раз пытался спеть, то в 1962-м у него появляется ощущение некоторой исчерпанности прежнего жанра и его, скажем так, недостаточности. И, кстати, книга «Веселый барабанщик» переполнена довольно кризисными стихотворениями, такими как «Как я сидел в кресле царя» со своими богатыми диалогами с современниками и т. д. То есть это ощущение исчерпанности «оттепели» еще до того, как в 1963 году она закончится практически на глазах у Окуджавы разносом его ближайших друзей в Кремле.
С точки зрения любимого семантического ореола, с которого всегда, в общем, начинается разговор о конкретном стихотворении, я не обнаружил, честно говоря, большого количества текстов вот с этим дактилическим хвостом. Потому что, как ни странно, огромное количество трехстопных амфибрахиев дают нам совершенно другой семантический ореол. А вот этот хвост обнаружил я только в одном стихотворении Окуджавы, я хорошо помню, как в 1984-м Богомолов нам на семинаре его зачитал:
Вот музыка та, под которую
мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
и дробь барабанов, и медь.
Возьмите себе их в союзники
легко, до скончания дней…
Оставьте меня с моей музыкой:
Мне как-то спокойнее с ней.
Опубликован был другой, смягченный вариант. Видимо, этот:
Меня же оставьте с той музыкой:
мы будем беседовать с ней.
Это такой своеобразный ответ на всю комсомольскую, партийную романтику ранней «оттепели».
И второе стихотворение, как ни странно, единственный текст, который хорошо поется на мелодию «Главной песенки» и на мелодию которого хорошо ложится она, — это «С чего начинается Родина». И я даже могу примерно подсказать или предположить тот путь, которым к Бернесу пришла эта идея. В 1967 году Окуджава работал с Бернсом над «Женей, Женечкой и «Катюшей»», много ему пел. И когда Бернес давал Матусовскому вот эту идею «С чего начинается Родина», не исключено, что он этот вот дактилический хвост ему как-то подсказал. Вот сами заметьте, как это хорошо на самом деле ложится. Попробуйте спеть текст «С чего начинается Родина» на мотив «Главной песенки»: получится, как писали в советской прозе, «раздумчиво». И семантический ореол здесь как раз наличествует, потому что как для главного героя предметом такой патриотической философской рефлексии является чувство Родины, так для Окуджавы всегда, в общем, предметом непонимания и некоторой загадкой являлось то, «с чего начинается песенка». Это общее понимание для большинства бардов: все решительно, кто имел отношение к авторской песне, признавались, что когда не пишутся песни — это состояние невероятно тяжелое. Не просто мандельштамовского «удушья», а состояние собственной неполноценности: вот я мог это делать — и вдруг по каким-то таинственным причинам не могу. Матвеева задавалась этим же вопросом:
Как сложилась песня у меня?
И сама не знаю, что сказать!
Я сама пытаюсь у огня
По частям снежинку разобрать!
И Окуджава, который последнюю свою прозу, написанную уже в Париже, в набросках, посвящал именно этому феномену: как вести себя в состоянии песни. Вот это «с чего начинается песенка», условно говоря, — это и есть тема «Главной песни», которая, как мне кажется, остается для него неразрешенной. Он не понимает, откуда это берется и каким образом это превращается в фольклорное явление. Из моих собственных (не очень многочисленных, но довольно важных для меня) разговоров с Окуджавой я хорошо помню, что он был сильно озадачен феноменом, почему одна вещь поется, а другая не поется. Например, «Мой почтальон» — хорошая песня! — никто ее не поет. А «А как первая любовь…» — дурацкая песня, но все ее поют! Вот это было для него некоторой загадкой. Хотя, естественно, он иронически снижал отношение к «Песенке о моей жизни», а она на самом деле одна из ключевых. Но серьезные вещи — такие, например, как моя любимая «Товарищ Надежда по фамилии Чернова», которую вот бы нам проанализировать, вот где глубины! — ее не пели практически, а пели ее два с половиной человека.
Вот эта загадочность жанра — такая же, как загадочность чувства Родины, — я думаю, Окуджаву занимала. Не случайно он говорил, что, например, понятие Родины он не может для себя сформулировать, он может рассказать только восточную сказку: посадили в клетку сойку и волка. Сойка в клетке поет: «Ах, луга, поля, леса!» А волк — умер. Вот я не могу без этого жить, но почему я это люблю, я объяснить не могу и говорить о чувстве Родины считаю неприличным: как публично о любви.
Вот здесь как бы Родина и песенка становятся двумя такими непроизносимыми публично вещами.
Второй подтекст, который мне здесь важен, — это именно неспетость: «она еще очень неспетая». И она и не будет спета, как мы узнаем в финале: «… которую спеть я не смог». Я думаю, что здесь — понимание недостаточности того творческого метода, с которым романтики-шестидесятники-оттепельники подходят к жизни. Еще Лев Александрович Аннинский, говоря о поэзии 60-х, сказал, что совершенно отчетливый кризис там начался с поэм. Поэма — жанр ретардации. Лирическое усилие закончилось, все стали писать поэмы: начиная с Евтушенко с «Братской ГЭС», кончая «Озой» Вознесенского. Это отказ от лирики. Потому что лирике стало некуда развиваться, и это произошло не из-за снятия Хрущева и не из-за хрущевского ора в 1963 году, а потому что «оттепель» была неглубока. Или, как сказал Иоселиани, она была метафизически неграмотна. Она не содержала, может быть, религиозного прорыва, она не содержала серьезного отношения к советскому, серьезной рефлексии по этому поводу. Она ограничивалась довольно поверхностной и довольно розовой романтикой. И чувство этого кризиса пронизывает позднюю «оттепель»: оно пронизывает и хуциевскую картину, известную как «Застава Ильича», оно пронизывает и всего Шпаликова, насыщенного ощущениями тревоги, и всю Рязанцеву — это, прежде всего, весь кинематограф. Это ощущение, что мы с нашими потугами «главную песенку» не споем, о главном мы не скажем. Для того чтобы говорить о главном, нужно другое чувство истории, другая метафизическая культура, другое понимание веры, если угодно. В общем, даже, если на то пошло, другой поэтический арсенал.
И вот третий подтекст, который мне кажется наиболее занятным, это уже касается семантическую ореола трехстопного амфибрахия. Потому что, понимаете, то, что «грядущий трубач» выводит эту мелодию, — так я иногда думаю, может быть, и к лучшему, что мы ее не услышим и что эту песенку не споем. Потому что тема «единственной гражданской» — она пронизывает творчество Окуджавы с самого начала. Эпитет, подсказанный Евтушенко, для того чтобы как бы спасти… Сначала было «на той далекой на гражданской». Этот эпитет Окуджаве очень понравился, он в него вцепился. Проблема в том, что «единственная гражданская» в России не прекращается, и очень может быть, что этот «грядущий трубач» нам ничего хорошего не сыграет. Это может обернуться катастрофой, «легко, необычно и весело» — это не всегда хорошо, это может быть взгляд того будущего, которое посмотрит на нас — легко, необычно и весело — и нас смахнет к чертям. Вот сегодня ощущение этой грядущей гражданской носится в воздухе, и очень хорошо, может быть, что «главную-то песенку» мы и не услышим.
Дело в том, что ведь этот амфибрахий — он довольно амбивалентный размер. И чтобы закончить на более-менее веселой ноте, я напомню замечательный коллаж Новеллы Матвеевой, которая именно так объясняла, почему нельзя этим размером писать «Хорошую девочку Лиду».
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.
Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.
Идет — по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой ее бороде.
Вот то, что «хорошая девочка Лида» может обернуться и царицей Тамарой, и воеводой-Морозом, — это подсказывает нам, что самую-то главную песенку, может, и петь иногда не надо. Потому что можно допеться до того, что жить с этим уже не сможешь.
Лейбов: Спасибо, Дмитрий Львович. Такой «грядущий хамоватый трубач»?
Быков: Да, грядущий хамоватый, да… Он уже шагающий.
Лейбов: Я бы хотел сейчас передать все-таки Дмитрию Валерьевичу слово, а потом у нас, может быть, останется время для того, чтобы мы обменялись шутками, а может быть, и не шутками. Пожалуйста, Дмитрий Шумилов.
Шумилов: Я тут один, наверное, такой человек, который вообще с другой стороны смотрит на всё это дело. Потому что я абсолютно не филолог. Я музыкант, я как раз смотрю со стороны той самой трубы, о которой все так долго говорили. И, в принципе, я очень хорошо понимаю эту историю по собственному опыту, потому что это вообще характерно для музыкантов, когда «главная песня» не написана и любое, что ты делаешь, — это какое-то приближение, это какой-то компромисс и какая-то такая попытка. То есть попытка что-то обозначить, но вот всегда это… Я понимаю, почему у меня такое впечатление, почему, может быть, Окуджава ставил эту песню в конец: потому что она такая… открытый финал, скажем так. С другой стороны, надо сказать, что эту песню… забавно, но я почему-то раньше ни разу не слышал эту песню до того, как Олег мне прислал приглашение на этот семинар. При этом Окуджаву я сам пел, слушал очень много. Мне даже мама вот сегодня рассказала, что я родился немножко раньше срока из-за того, что папа очень много ставил моей маме Окуджаву, ей надоело всё это слушать, и она сказала: поехали в больницу. Так что я родился благодаря Окуджаве на месяц раньше.
Тут много говорили про трубу, и я понимаю, почему эта труба… То есть, с точки зрения музыканта, Окуджава удивительно органичен. Он один из немногих людей, который изобрел, получил ли свыше или как-то ещё удивительную интонацию, с которой он пел свои песни, которая была даже действенна, может быть, даже если бы он пел просто без слов. Я как-то раз был в пластиночном магазине где-то в Норвегии, зашел, будучи на гастролях, и смотрю: там продаются диски Окуджавы в обычном магазине. Говорю:
— Вы это слушаете?
— Да, — говорят, — слушаем.
— И вам интересно всё это?
— Да.
— Почему?
— Интонации.
Вот эта интонация, которая дает возможность понять, может быть, не какой-то конкретный смысл, а ощутить музыку, ощутить настроение, ощутить полностью то, что хотел сказать Окуджава. То есть не то, что он хотел сказать, — что он сказал. Не зная, даже не понимая смысл текста.
И, самое интересное, первая ассоциация… Я вот правда неделю назад первый раз послушал «Главную песенку», но не в изначальном — том, что Роман ставил, — варианте, а уже более позднем. Я не знаю, какого года. И самое забавное, что по манере исполнения, по манере голосоведения у меня первая ассоциация, которая ко мне пришла, — это Билли Айлиш. То есть подача текстового материала, кантилена, с которой она ведет свой вокал, этот обязательный вибрато в конце, на конце фразы. И это такой голос практически на уровне субтона. Она прямо вот… Удивительное дело: долго не слушал Окуджавы, много слушал Билли Айлиш — и у меня вот это первая ассоциация была. Ну, вот так.
Лейбов: Спасибо большое. Это прекрасно. Про Билли Айлиш прекрасно. И я не могу не вспомнить: в той песне, которую Дмитрий Львович тоже упомянул, когда Окуджава поет «и два гудка медовых», то, как он это выпевает, — это одновременно иконическое изображение этих «гудков медовых». Но, между прочим, сам Окуджава песню обрезал: последнего куплета не пел, редко очень пел, в ранних записях его нет… И чего он после этого жаловался на других, что ее редко поют? Так-то, конечно, «Первую любовь» проще петь, «Цыганочку» гораздо проще петь. А тут довольно изощренная мелодия. Вообще Окуджава преувеличивал, конечно, свою музыкальную безграмотность.
Шумилов: Дело в том, что, как мне кажется, понятие о каком-то пении меняется со временем. Необходимость громкого пения была порождена тем, что нужно было перекричать оркестр. То есть откуда родилось бельканто? А со временем всё меняется. И поэтому Окуджава, можно сказать, просто опередил время своим пением. Сейчас это не то что общее место, но это более характерно для нынешнего времени. И уже нет этого, когда людей обвиняют в том, что у них нет голоса: как так — нет голоса? Мы же слышим что-то — он поет. Так спеть гораздо сложнее, чем проорать какую-то громкую фразу музыкальную.
Лейбов: Алик, пожалуйста.
Жолковский: Спасибо. Всё очень интересно, просто захватывающе интересно. Если можно, два кратких алаверды к Дмитрию Львовичу, к Диме Быкову. Вы очень здорово проблематизировали это всё. Один вопрос такой… У Окуджавы, значит, проблема: споется или не споется? Большой вопрос! Успешна ли «песенка», если ее обязательно поют все другие? Или достаточно, что ее поет Окуджава и мы хотим слышать ее, как он поет, но не обязательно мы должны ее подхватывать и все петь, так сказать, хоровым образом? Это такой большой вопрос.
А второе — это то, что я обещал сказать, но у меня, как обычно, не было времени. И сейчас я хочу это процитировать. Дима, в Вашей книге есть такое место: вроде бы с опорой на автобиографическую выписку из давно минувшего дела Окуджавы, где фигурирует молодая жена поэта, то есть Ольга, «названная для фольклорности Антонина Петровна» («Прощай, Антонина Петровна, — / Неспетая песня моя!») — добавляет биограф Быков, хотя в тексте окуджавского повествования этого нет. Что это Вы такое проделали, Дима?
Быков: Совершенно не помню. Не помню этого фрагмента. Надо его найти.
Жолковский: Я вам укажу страницы, это не проблема!
Быков: Найду, да. Я вот этого не помню — ну, что вы хотите, прошло двенадцать лет! Найду, конечно.
Жолковский: То есть Вы услышали там эту «Антонину Петровну»?
Быков: Услышал, безусловно, да. Что это не основано никак на биографии автора. А вот что касается частотности исполнения, Окуджава считал это важным критерием успешности и объяснял это так: лучший редактор — фольклор, потому что в фольклоре не застревает, не уцелевает то, что не поется. Это важный критерий отбора. На что, кстати, в своей книге Богомолов довольно успешно возражал. Он говорил: поется то, куда исполнитель может подставить себя, то есть поются более или менее общие, частотные, знакомые, универсальные места. Ничего не поделаешь, в фольклоре действительно остаются те вещи, которые как-то так эмоционально знакомы. Можно еще добавить, что в фольклоре уцелевают вещи, так сказать, скрещенного смысла: когда с одной стороны радость, а с другой — горе. Когда «Степь да степь кругом, / Путь далек лежит. / В той степи глухой / Замерзал ямщик» — это очень трагическое событие, но поется это в застолье, в такой легкой расслабленности. Вот у Окуджавы почти везде мы наблюдаем скрещенный процесс. И в «Главной песенке», как говорила первая наша выступающая, мы тоже наблюдаем скрещенную эмоцию: я не спел, но это, может быть, и к лучшему.
Лейбов: Спасибо. У меня замечание еще. Я пытался там вклиниться: Дмитрий Львович, да, это действительно Матусовский. Поэтому, в определенном смысле, действительно было два Матусовских.
Быков: Да, и это очень симптоматично. Матусовский, да.
Лейбов: И там я не помню истории, но Бернес обычно действительно начинал работать с текстами, это правда.
Быков: Да. Может быть, он им похвалил «Главную песенку».
Лейбов: Непонятно. Олег, пожалуйста.
Лекманов: Я просто хочу сказать, что как раз вхожу в те полтора человека или два, которые тоже очень любят песню…
Лейбов: Значит, мы с тобой полтора человека, получится.
Лекманов: …Действительно она не такая известная, как, например, «Главная песенка». И я хочу просто напомнить хотя бы первый куплет. Можно я тоже коротко совсем спою? Раз я сегодня пою много, то я коротко спою.
Лейбов: Давай-давай.
Лекманов (поет):
Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье,
живите, будто заново, всё начинайте снова!
У порога, как тревога, ждет вас новое житье
и товарищ Надежда по фамилии Чернова.
Лейбов: Жалко, мы заранее не договорились, я бы мог взять гитару.
Быков: Вы, кстати, не поверите, однажды я спросил Окуджаву: кто такая Надежда Чернова? Мне казалось, что это или какой-то партийный функционер, или фамилия Надежды Дуровой в замужестве. На что Окуджава сказал: «Ничего подобного я близко не имел в виду. Это безнадега — русская надежда, черная надежда. Это не женщина, не человек». «Слава КПСС — вообще не человек». Я был абсолютно поражен этой странной логикой.
Лейбов: Спасибо. Олег, есть ли у нас какие-нибудь вопросы?
Лекманов: Вы знаете, я в некоторой растерянности нахожусь: у нас очень в этот раз много реплик, я бы сказал скорее, а не вопросов…
Лейбов: Может быть, мы оставшиеся две минуты посвятим какому-то одному?..
Лекманов: …И весьма интересных. Один вопрос Валентины Шатулович, которая вообще очень активно участвует, спасибо ей. Это вопрос, видимо, к Александру Константиновичу Жолковскому: «Можно ли рекузацию возводить к вежливой форме древнерусских книжников с их самопринижением, признанием своей грешности, недостойности предмета и описания?»
Дальше большая реплика Михаила Васильева, в которой в конце еще один текст неожиданный предложен. А именно песня Алексея Романова из группы «Воскресение» под названием «Мои песни»: «…и самая лучшая песня не спета еще — ну и пусть!»
И еще две реплики. Валентина Шатулович пишет о том, что «неспетая» может ассоциироваться с «неспелая» по звучанию, а «неспелая» очень подходит. Что может еще встраиваться в тему связи с природой: Земля как трава. Действительно, мне кажется, это остроумное, хорошее наблюдение в стиле Бориса Андреевича Успенского, я бы сказал: поем «неспетая» — подразумеваем «неспелая».
И последнее — последнее просто нескромное. Это Валентина Артамонова говорит, что были разные интерпретации, и все очень интересные, и «Главная песенка» обрастает массой смыслов — значит, сильные стихи!
Жолковский: Я думаю, что рекузация, если понимать в широком смысле, в теоретическом, то, конечно, всякого рода попытка отказаться от того чтобы взяться за что-то, все фигуры скромности — это своего рода рекузация, конечно же.
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток…
I.
Оба художника «вышли в люди». Один из них, Серов, уже ушел от нас, еще совсем молодым. Умер от грудной жабы, от той же болезни, что и отец, известный композитор.
Оба они попали в историю русского искусства, а следовательно, сделались «отцами», против которых, сообразно неизменному закону жизни, восстали «дети».
Правы отцы, правы и дети. Дело в том, что дети обыкновенно забывают, что и отцы были в свое время детьми. Я близко знал и дружил с обоими художниками, как раз в период их бунтарства, когда они завоевывали себе место на солнце и, по мере сил, честно боролись с трясиной русской Академии Художеств и с благочестием благонамеренного передвижничества, совершенно забывшего о живописных задачах живописи.
Оба они были в Академии, и оба ее не окончили. Сознательно бросили, как учреждение, полезное исключительно для художников мало даровитых.
В.А.Серов. 1911. Последняя фотография
Но я вовсе не хочу защищать Бакста и Серова как художников. Это не мое дело, да это и совершенно бесполезно. Просто, прочитав милую и беспритязательную книжечку Бакста, написанную «для немногих»2, я невольно отдался воспоминаниям далекой молодости. Живо встали передо мною образы Левушки (Бакста) и Валентина (Серова), которого звали также почему-то «Антоном». Кажется, эту кличку ему дал в свое время Илья Ефимович (Репин).
II.
Характерная черта Бакста — его неискоренимое добродушие и благодушие, соединенные с детской наивностью, которая так и перла из его донельзя близоруких глаз.
Правда, он часто сердился, кипятился. Хлопал дверями, писал друзьям «принципиальные» письма, где пространно излагал мотивы своего разрыва. Обыкновенно эти мотивы сводились к спорам о том, о чем спорить нельзя, о «вкусе». Достаточно было сказать что-нибудь непочтительное о Клоде Моне или признать хоть какие-нибудь заслуги за Виктором Васнецовым, чтобы Левушка лез на стену, хлопал дверями и писал «принципиальные» письма. Еще он был страшно рассеян. Теперь уже доказано, что именно рассеянные люди не рассеяны. Они думают об одном и не замечают многое другое. Т.е., другими словами, они рассеяны, потому что сосредоточены. Как-то вечером, в редакции «Мира Искусства», Бакст, за чайным столом, рисовал какую-то карикатуру. Тогда вся редакция этим занималась, и даже скульптор «Паоло» Трубецкой, этот русский итальянец, сделал очень удачную карикатуру на своего друга Валентина. Талантливый Паоло был очень милое, но часто невыносимое существо. Настоящее дитя природы, он не признавал абсолютно никаких «светских условностей». Условности эти, в большинстве случаев, действительно, тягостны, но соблюдение хоть какого-нибудь минимума условностей для общежития все-таки необходимо. Впоследствии «Паоло» женился, остепенился, стал парижской знаменитостью. Но в ту эпоху это было что-то неистовое.
Он тогда работал над памятником Александру III. Около Александро-Невской Лавры для него была выстроена громадная мастерская.
Бывало, придешь к нему — на козлах, изображающих лошадь, сидит дородный мужик, до поразительности напоминающий Александра III. Мужик этот в военной форме, с андреевской лентой через плечо.
А кругом — настоящий зверинец. Медвежата, лиса, волчонок и куча лаек. Как-то зимой, южанин итальянец потрясся на Неве юртой самоеда с оленями и лайками. Тогда еще бывали на Неве самоеды, и детвора с упоением каталась на оленях. Самоед в каком-то бабьем халате тыкал оленей длинным шестом и искусно управлял ими. Трубецкой прельстился лайками и купил у самоеда кобеля и суку. Это собачье супружество стало невероятно плодиться и множиться в мастерской, на Старом Невском. Хозяин дарил или, вернее, навязывал щенков всем своим знакомым. Вторгался в гостиные в сопровождении собачьего семейства и в пять минут превращал гостиную в хлев. Медвежата же его бегали по Невскому, он гнался за ними, вмешивалась полиция, составляла протокол, но, конечно, это ни к чему не приводило. Впрочем, любовь Трубецкого к животным была очень трогательна. Спокойный, тихий, несуетливый Серов их тоже очень любил. Общая любовь к зверям содействовала дружбе столь разных людей. Серов, как личность, был куда выше и значительнее своего таланта. Трубецкой, наоборот, был весь во власти своего таланта и умел как-то с ним справиться.
III.
Так вот, рассеянный и сосредоточенный, Бакст рисовал карикатуру. Может быть, даже на меня. Тогда был в моде Ницше. Левушка изобразил меня в виде верстового столба и подписал «Оберменш». А рядом стоял маленький-маленький Бакст, с подписью «Унтер-Менш». Кругом же, как всегда, острили, болтали, ссорились. Не то Валентин, не то Шура Бенуа обратился к Левушке с каким-то вопросом.
Левушка долго не отвечал, потом осмотрел всех своими добрыми, наивными, близорукими глазами и ни с того ни с сего как-то вопросительно сказал:
— Египет?
Причем он выговаривал это слово через «э» оборотное:
— Эгипет.
Дягилев начал гоготать на всю комнату. Откуда появился этот Эгипет, что думал в эту минуту Бакст — осталось для всех тайной. Но «Эгипет» вошел у нас в поговорку, и, когда кто-нибудь отвечал невпопад, припоминался пресловутый «Эгипет», что было не всегда приятно незлобивому Левушке.
В противоположность Серову, который вырос в художественной и культурной среде села Абрамцева, Левушка пробивался на свет Божий долго, и долго не мог найти себя. Его пригрел, как художника, Альберт Бенуа, старший брат Александра. Альберт был одним из основателей общества акварелистов, столь популярного среди невзыскательной, в художественном отношении, публики.
Л.С.Бакст в своей мастерской. 1908
В числе столпов этого сладкого общества акварелистов был и Д.А.Бенкендорф.
Сей великосветский художник сделал из своих дилетантских занятий акварелью источник довольно больших доходов. К каждой выставке он готовил несколько десятков совершенно ничтожных вещей, которые Левушка за гроши, при соблюдении строгой тайны, должен был за несколько дней до выставки приводить в мало-мальски приличный вид. Великие князья и великосветские знакомые охотно раскупали эту дребедень.
Но «тайная работа» ради заработка очень мучила несчастного Левушку, тем более что мы, со свойственной юности жестокостью, не щадили его своими насмешками. В благодарность за эксплуатацию, Бенкендорф выхлопотал Левушке официальный заказ: «Адмирал Авелан в Париже». Заказ этот дал возможность Баксту съездить за границу и долгое время жить, не думая о завтрашнем дне. Но, Боже, сколько мучений он пережил, благодаря заказу, и какую неудачную махину он соорудил в исполнение своего обязательства!
С основанием «Мира Искусства» Бакст почувствовал себя гораздо лучше. Для него открылись две новые области — графика и театр. В обеих он проявил себя мастером, а в театре, наконец, нашел себя и создал себе настоящее имя. Даже очень суровые «дети» не могут отрицать его роли в истории современного театра.
IV.
В Грецию, вместе с Серовым, он поехал совсем не с театральными намерениями. Он тогда еще не оставлял мысли о монументальной живописи.
В связи с этим, результатом его поездки явилось громадное полотно «Terror antiquus».
Наш «мистагог», Вячеслав Иванов, прочел по поводу этой картины целую лекцию, где о самой картине говорил мало, но много сказал любопытного «вообще».
Во всяком случае, картина Бакста была вещью добросовестной, хотя… хотя он там что-то перепутал и в правую руку своей архаической, «критской» богини вложил какой-то атрибут, который, по мнению археологов-специалистов, должен находиться не в правой, а в левой руке богини.
Кажется, это была последняя дань Бакста «монументальному» творчеству. Поездка в Грецию ему помогла совсем в другом отношении. Он набрал там материалов для той области, которой посвятил себя окончательно, для театра.
Если не ошибаюсь, началом его театральной карьеры была постановка «Ипполита» Еврипида в Александринском театре, кажется, уже в директорство В.А.Теляковского.
Он сделал несколько крупных постановок в казенных театрах, а затем после 1905 года, когда Дягилев перекинул свою деятельность за границу, в Париж отправился и Бакст. Он имел там крупный успех, сделался парижанином, получил, кажется, Почетный Легион, словом, попал в число «мэтров». Его произведениям посвящено роскошное издание, которого я, впрочем, не имел в руках…
В.А.Серов. Портрет Д.В.Философова. 1899
Бакст — еврей. Но о его еврействе приходилось серьезно думать, как ему самому, так и его друзьям, только когда оно причиняло ненужные житейские осложнения.
Особенно мучительно было это для него в эпоху его женитьбы. Он женат на дочери Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи в Москве. Затем, конечно, были неприятности и с «чертой оседлости». Его как-то не то не пускали в Петербург, не то выселяли оттуда. Защитил его вице-президент Академии Художеств, гр. И.И.Толстой. Но незлобивый, внутренно свободный, Левушка в конце концов довольно философски относился к этим нелепостям…
V.
Своей брошюре: «Серов и я в Греции», Бакст не предпослал никакого предисловия. Даже не сообщил, в котором году состоялось это паломничество.
В конце же книги помечено: «Париж 1922».
Вероятно, понимать это надо так, что в 1922 г. он пересмотрел свои дорожные записи и привел их, так сказать, в порядок. Ведь ездил он с Серовым чуть ли не двадцать лет тому назад и, конечно, по памяти не мог восстановить тех мимолетных впечатлений, которыми полна его книга.
Надо сказать, что она хорошо написана. Четко, образно, не без юмора. Но, повторяю, — для немногих. Это — не связный рассказ с каким-либо художественным или археологическим аппаратом. Никакого величия, никакого «terror antiquus»3. Очень все прозаически. Впечатления сенсуалиста, человека с тонкой кожей. Есть и несколько удачно подмеченных в Серове черточек.
«Наша нескончаемая беседа о далекой, античной Греции ведется вполголоса, хотя мы совершенно одни на палубе. Время от времени разговор смолкает и неторопливые мысли осторожно проверяют и претворяют сказанное… Сколько новых впечатлений! Неожиданность их сбила в нестройную кучу все прежние, еще петербургские, представления о греческой Элладе. Приходится все переиначивать, упорядочить, классифицировать… Серов думает про себя, и медленно блуждают и щурятся его глазки. Забавное сравнение лезет в голову: «слон», «маленький слон»… Похож! Даже его трудный, медленный процесс мышления, со всеми осторожностями, добросовестностями — фигурально напоминает слона, спокойного, вдумчивого…»
Это подмечено верно. Был в Серове «слоненок», и даже квадратные руки, с короткими пальцами, имели что-то от «слоненка».
Верно подмечена и трудная, слишком добросовестная мысль Серова.
В нем было очень странное противоречие. Обладая поразительным глазом, он очень быстро давал характеристику всему внешнему. Его «словечки», «клички» всегда попадали в самую цель. Он отлично писал письма. Это немногим дано. Он писал так, как будто сидел тут рядом с вами и продолжал прерванную беседу. Словом, впечатления его были всегда яркие и определенные. Но мыслил он как-то туго, именно от чрезмерной добросовестности. Человек он был на редкость умный, но между его тугим, слишком добросовестным умом и яркой, образной впечатлительностью была какая-то непримиримость. Она ему доставляла много страданий, потому что иногда парализовала его творческий пафос. Уже слишком он строго относился к себе.
Впрочем, строго относился и к другим. Правдивый до конца — он никогда не скрывал своих мнений. Благодаря этому часто наживал мелких врагов. Был он человек «гордый», независимый. Свою свободу он ценил превыше всего. И вместе с тем был верным слугой поставленного себе закона. Особенно это проявлялось в его семейной жизни, которая была образцовой.
Никакой тени предательства в нем не было, и если ссорился, ссорился серьезно, сознательно. Не так, как Левушка. Уж если Серов поссорился — так без настроений, а по долгу совести. Так он поссорился с Шаляпиным после знаменитого «стояния на коленках» этого самодержавного патриота. И выдержал ссору до конца, ибо не прощал хамства, особенно людям «своего круга».
Паоло Трубецкой. Обнаженный мужчина (Федор Шаляпин). 1907–1909 гг. Вербания–Палланца, Музей пейзажа
После кончины Серова, Шаляпин ездил на панихиды, кокетничал с семьей, вообще проявлял «дружескую скорбь». Это было противно. Как ни страшно сказать, но отличительная черта Шаляпина — беспредельное, органическое хамство.
Помню такой случай. Вскоре после революции 1905 года, в Париже кто-то, кажется А.Ф.Сталь (бывший представитель пресловутого крестьянского союза), обратился ко мне с просьбой устроить свидание с Шаляпиным. Хотели дать концерт в пользу эмигрантов. Я сговорился с Шаляпиным. Решили устроить свидание у Трубецкого, который лепил Шаляпина. Сеансы были длительны, в определенные часы, а потому удобно было Шаляпина найти. Снарядили целую депутацию в сюртуках. Очень торжественно. Отправились. Вызываю Трубецкого, объясняю в чем дело. Тот переговаривается с Шаляпиным, и нас вводят в мастерскую. Шаляпин принимает депутацию снисходительно гордо, в… костюме Адама до грехопадения. Абсолютно голым! Клеопатра не стеснялась быть нагой перед рабами. С одной стороны, депутация в сюртуках, к «великому артисту», с другой — полный презрения остолоп, который во время краткого разговора почесывается во всех подходящих и неподходящих местах…
Он «всемилостивейше» «соизволил» согласиться, но, конечно, своего обещания не исполнил. Впрочем, помнится, мне удалось с него сорвать тысячу или полторы франков.
VI.
О Серове накопилось много печатного материала. Довольно толковая книга Игоря Грабаря, изданная вскоре после кончины Серова, воспоминания о нем его матери, женщины весьма примечательной и сложной, наконец, прекрасные статьи его старшего друга И.Е.Репина. Вероятно, есть еще что-нибудь. Но это самое существенное. А потому не буду касаться того, что общеизвестно, или по крайней мере предполагается таковым. Остановлюсь на мелочах.
В своих воспоминаниях (т.I «Лавры», «Странствия») кн. С.М.Волконский, рассказывая о покойном бар. Н.Н.Врангеле (брат генерала Врангеля), пишет: «В Париже мы обыкновенно с ним обедали у Lapré, rue Drouot, в Петербурге на Большой Конюшенной, в подвальчике — Cave Lagrave. Все это не важно, конечно, но жизнь так испаряется. Хоть какие-нибудь твердые кристаллы сберечь от нее». Воистину, мы растеряли все мелочи, все кристаллы, новых же мелочей еще не создалось. Мы все еще в событиях и с трудом переходим к быту. Поэтому, может быть, теперь пишется столько воспоминаний, и столько в них мелочей.
Вот, Волконский упомянул о подвальчике Лаграва. Серов его тоже любил. Впоследствии этот подвальчик превратился в самый обыкновенный ресторан средней руки. Но в самом начале века он имел свою живописность. Хозяин француз делал сам отличный салат. По требованию Серова, он клал на дно салатника мякиш хлеба и запихивал в него чеснок.
Серов отличался милым, детским гурманством. Он зарабатывал довольно много (портретами). Но заработок был нерегулярный, а семья большая. Поэтому у него всегда в кармане было то густо, то пусто. В Петербурге (семья его жила в Москве) ему большей частью приходилось обедать у Лейнера.
В Дельфах, в самой романтической обстановке, наши путешественники вдруг почему-то вспомнили Лейнера и свои обеды там. Ассоциация мыслей довольно странная, похожая на бакстовский «Эгипет». Припомнив один лейнеровский анекдот, происшедший с Серовым, Бакст добавляет: «Серов добродушно смеется, медленно раскуривает сигару. О Дельфах ни слова…»
Сигары — была целая сторона жизни Серова. Это был какой-то культ. Покупал он их обыкновенно у бр. Елисеевых, не доверяя никаким «Тен-Кате», «Фейкам» и Ко. Уверял, что при знакомстве только у бр. Елисеевых можно достать приличные сигары. Когда приходилось быть где-нибудь на хорошем обеде, мы «воровали» сигары для Серова. Особенно это практиковалось у кн. Тенишева.
Конечно, это внешнее, невинное «гурманство» было спутником общей утонченности его натуры. «Маленький слон» отличался подлинным аристократизмом восприятий. В своих художественных вкусах он был беспредельно требователен, зато и беспощаден в своих оценках. Это причиняло ему много страданий. Он сам себя поедал и часто парализировал свои творческие силы.
А.П.Нурок, В.Ф.Нувель, С.П.Дягилев, Д.В.Философов. 1890-е годы
Про себя он постоянно говорил: «Я — язычник». Но язычество его было не веселое. По натуре он был все-таки большим пессимистом. Единственно, когда он чувствовал себя цельным, ясным, счастливым, это когда он был в природе. И, конечно, не от «созерцания» ее величия, красоты и т. п. Он, как художник, не мог не созерцать и не перерабатывать своих впечатлений. Но это было нечто вторичное. По существу же он, в качестве «слоненка», каким-то звериным образом сливался с ней, становился ее частицей, и в этом находил свое счастье. У себя, в Териоках, на Черной Речке, Валентин был совсем другой человек, нежели в городе.
VII.
В качестве «модного» портретиста, Серов беспрестанно писал высокопоставленных и великосветских «особ». Очень известны два его портрета Николая II, княгини Орловой (рожд. Белосельской-Белозерской), всей семьи кн. Юсуповых. Он талантливо, а порой и страшно зло передавал свои впечатления об этой среде. Особенно поражала его некультурность этих людей, полное отсутствие художественного вкуса.
К Николаю II он относился хорошо. Как-то жалел его. Говорил, что чувствовал себя с ним совершенно свободно, но не выносил покойной императрицы Александры Феодоровны (сестру ее, «москвичку» Елизавету Феодоровну, он прямо любил и считал выдающейся женщиной). Он присутствовал как-то на елке, в Царском Селе, и сделал очень красивый акварельный этюд: императрица раздает какие-то подарки конвою в красных «черкесках». Кажется, этот этюд пропал. Ген. Кутепов, начальник царской охоты, издавал тогда нелепое, «роскошное» издание по истории охоты. Рядом с прекрасными вещами там было много дряни. Печаталась эта книга в «Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг». Серов имел какое-то отношение к изданию, и раз он принес из типографии один из только что вышедших томов. Экземпляр был совсем особенный; на титул-блате было напечатано: «Экземпляр Государыни Императрицы Александры Феодоровны», но в текст вкралась фатальная опечатка. Вместо «Императрицы» стояло «Импедрицы». С тех пор Серов иначе не называл Александру Феодоровну, как «Импедрица»…
Бакст вскользь упоминает, что на Крит Серов поехал после тяжелой болезни. Надо сказать, что эта болезнь очень резко повлияла на него. Благодаря ей он заглянул по ту сторону бытия, и в нем появился какой-то «мистический» испуг, не свойственный его «языческому миросозерцанию». Язычником он, конечно, остался, но язычником напуганным, с какой-то почти физической тоской на душе.
Говорю так, потому что волею судеб мне пришлось быть около Серова в самые тяжелые дни, перед операцией, которая была совсем не обычной.
Он заболел в Москве, почему-то на квартире князя Львова, тогдашнего директора «Училища живописи, ваяния и зодчества».
Врачи определили внутренний гнойник где-то в пределах диафрагмы. Нужна была операция, но ее как-то не решались делать, потому что делать ее надо было «втемную». Из Москвы, по телеграфу, требовали немедленного приезда проф. С.С.Боткина, нашего общего приятеля. В тот же день мы вместе с Боткиным отправились в Москву.
Боткин, хотя и не хирург, благословил операцию. Делал ее Березкин. Боткин присутствовал на ней и рассказывал, что несчастного Валентина, в поисках гнойника, «вскрыли» со всех сторон. Видно было не только дыхание легких, но и биение сердца.
Накануне операции Серов позвал меня. Надо было подписать завещание. И вот тут, в предвидении почти неминуемой смерти, он почему-то долго со мной говорил. Я молча слушал, совершенно потрясенный. Вскоре потом я по памяти записал его слова, но запись или пропала, или попала в руки большевикам.
Теперь воспроизвести ее в точности не могу, да и не хочу. Скажу только, что именно после этой беседы я понял, как люди мало знают друг друга. Передо мною вскрылся совсем новый Серов. Беспредельно благородный и до ужаса трагичный… Я думал, что он проще смотрит на жизнь, что он «язычник» более ясный, не такой темный.
Серов выздоровел и жил еще несколько лет. Но он был уже не тот. И психологически и физически. В нем появилась какая-то сонливость, которая его очень беспокоила. Мнительность его еще увеличилась. Надо сказать, что в этой мнительности они очень сходились с Бакстом. Это проскальзывает и в записях Бакста.
Вскоре после выздоровления Серова, судьба разлучила нас. Я уехал за границу и вообще отошел от старой среды. Отношения наши с Серовым как будто не изменились, но мне казалось при каждой встрече, что беседа перед операцией лежит между нами. Осложняет наши отношения. Такие слова говорят только перед смертью, и когда человек остается в живых, ему, может быть, неприятно, что он их сказал. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.
VIII.
Не знаю, дойдут ли эти строки до Левушки. Дай Бог ему сто лет здравствовать, и пусть он не сердится, если я в этих беглых заметках сказал что-нибудь не так. Мною руководило доброе чувство. Во всяком случае, он отлично знает, что мы оба нежно любили незабвенного Валентина.
<1923>
27-го декабря от болезни почек скончался в Париже, на 58 году жизни, русский художник Лев Бакст, пользовавшийся приблизительно с 1910 года громадной известностью на западе…
… Я мог бы в таком стиле продолжать и дальше.
Рассказать все этапы биографии «известного художника Бакста» по пути к успеху и славе.
Но это сделают другие, и притом гораздо лучше меня, потому что как раз «заграничная» эпоха биографии Бакста мне мало известна.
Кроме того, биография его уже написана. Незадолго до войны, в Париже была издана воистину роскошная книга, посвященная творчеству Бакста. В издательском отношении она представляла собою верх технического совершенства.
Л.С.Бакст. Обложка журнала «Мир искусства» (1902. №3)
Дело в том, что «известный», если хотите «знаменитый», художник Бакст, кавалер Почетного Легиона, для меня прежде всего милый Левушка, незабвенный приятель юности. Ведь познакомился я с ним, больше чем двадцать пять лет тому назад.
Мы собирались, гимназические друзья, у Шуры Бенуа (нынче тоже знаменитость). Однажды, на наше собрание пришел рыжий, кудластый, близорукий юноша, лет на 5, на 10 старше нас. Он нам, как старший, импонировал. Шура сказал, что это будущий талант, протеже старшего брата Альберта, тогда очень популярного акварелиста.
Мы скоро сблизились с Левушкой, и он был одним из столпов группы «Мир Искусства», основавшей осенью 1898 года журнал этого названия (редакция С.П.Дягилева).
Живо помню один вечер. Из типографии прислали пробные, только что сброшюрованные экземпляры первого выпуска журнала. Собрался весь кружок: Дягилев, Серов, Сомов, Александр Бенуа, Нурок, Нувель, кажется Левитан, Константин Коровин.
Все жадно накинулись на первое детище.
Вдруг Левушка с несвойственной ему торжественностью заявил:
— Господа! Внимание! Исторический момент, вышел первый номер «Мира Искусства». Встаньте! Мы расхохотались. Все основоположники «М<ира> И<скусства>« относились к своему журналу с громадной любовью, но серьезного значения ему не придавали.
И обе стороны были не правы. Увлекающийся Левушка, который, понимая историю лишь с эстетической стороны, преувеличивал значение «исторической минуты», мы же ее преуменьшали.
В истории русского искусства, а, как показало дальнейшее, отчасти и в истории европейского искусства, с выходом «Мира Искусства», несомненно, началась новая глава, теперь уже большинством «читателей» прочитанная, но, во всяком случае, интересная, и без ложной скромности скажу, почетная.
Дело в том, что «Мир Искусства» (издавался с 1899 по 1904 г. включительно) не умер, а ушел, потому, что сделал свое дело, дал толчок художественной культуре и расслоился на свои составные части. От него сначала отошла литература. Мережковский, впервые напечатавший «Толстого и Достоевского» в «Мире Искусства», начал издавать журнал «Новый Путь», где впервые стали печататься Блок и Андрей Белый, где Розанов помещал самые свои «сокровенные статьи», где сотрудничали Арцыбашев и Сергеев-Ценский… Около редакции этого журнала образовались, отныне знаменитые, религиозно-философские собрания.
Вскоре в Москве основались «Весы» Валерия Брюсова. Мы все там сотрудничали. А Александр Бенуа, один из ближайших сотрудников «М<ира> И<скусства>», стал издавать «Художеств<енные> сокровища России», журнал, посвященный старому русскому искусству. В нем Александр Бенуа возродил забытый русский XVIII век, ампир, эпохи забытые потому, что в моде был тогда условный XVII век, эпоха первых Романовых.
Л.С.Бакст. Карикатура на С.П.Дягилева и Д.В.Философова. 1890-е годы
А рядом Нурок5 и Нувель6 основали «Вечера Современной Музыки», на них впервые использовались вещи Дебюсси, Дюкаса, Равеля, впоследствии Скрябина, Стравинского, Прокофьева. Все это были, по тогдашним временам, ни для кого неприемлемые «бунтовщики».
И это еще не все. В редакции того же «Мира Искусства» составлялся «Ежегодник Императорских Театров». Его редактирование было, в кратковременное директорство кн. Волконского, поручено Дягилеву.
Кажется, Дягилеву удалось выпустить всего один выпуск. Он произвел впечатление взорвавшейся бомбы. Все, не только «придворные», но и вообще театральные традиции были в нем якобы нарушены. Если его посмотреть теперь, то можно только удивляться, чем так возмущались тогда?
В 1905 году, накануне первой революции, журнал «М<ир> И<скусства>« был, в расцвете сил, закрыт.
Во дворце «великолепного князя Тавриды», где через несколько месяцев открылась первая Государственная Дума, Дягилев устроил знаменитую выставку русских исторических портретов (снимки с нее вышли в издании в<ел>. кн. Николая Михайловича), написал интересную статью о ней, в «Весах» Брюсова, и покинул Россию.
Началась значительная эпоха в истории всемирного театра — эпоха Дягилевских балетов.
И Левушка один из главных сподвижников этого дела.
Он долго искал себя. Писал портреты, картины, но это все было не интересно. И только в эпоху «Ежегодника Театров», когда он, с невероятным терпением, превратившись в простого ретушера, делал фантастические фоны к снимкам с актеров, он понял, что душа его принадлежит театру.
Уже при Теляковском, на сцене Александринского театра был поставлен сначала «Ипполит» Еврипида, а затем «Эдип в Колоне» Софокла, в переводе Мережковского. Декорации писал Левушка, по его же рисункам были сделаны костюмы. И он сразу выдвинулся. Он увлекался тогда архаической культурой Греции.
Затем он поставил несколько балетов, и тоже вместе с Дягилевым, эмигрировал.
За границей началась для него эпоха настоящей славы, которую он принял с радостью и добродушной гордостью…
Здесь какая-то тайна дореволюционной России. На ее спящих стихиях выросли прекрасные цветы утонченной культуры, истинно русские и вместе с тем европейские. Чуть-чуть уставшее искусство, чуть-чуть одряхлевшей Европы — с радостью восприняло «утонченную стихию» России, талантливым представителем которой был Бакст.
Скоро русское искусство, соприкоснувшись с Западом, получило налет космополитизма.
Но таков удел всех новаторов. Достигнув успеха, воплотив свои идеалы, они, покорные общему закону, покрываются пылью улицы…
Для того, чтобы дойти от серой мещанской жизни маленького провинциального городка до всемирной арены — надо быть человеком сильной воли и единой любви.
Скромный, добродушный Левушка — сделал этот трудный, но почетный путь, как бы шутя, не добиваясь «славы». Она к нему пришла сама. Д.Философов
P.S. Я забыл сказать, что Левушка был евреем. Но он сам об этом вспоминал только тогда, когда реальные условия жизни ему об этом напоминали. После первой революции, уже «знаменитый», с красной ленточкой в петлице, он приехал из Парижа в Петербург, совершенно забыв, что он еврей из черты оседлости. Каково же было его удивление, когда к нему пришел околоточный и заявил, что он должен немедленно уезжать не то в Бердичев, не то в Житомир.
Покойный вице-президент Академии Художеств, гр. Ив.Ив.Толстой (впоследствии городской голова) возмутился, печать подняла шум, и Бакст был оставлен в покое.
Да, конечно, он был еврей. Но чувствовал он себя сыном России, во-первых, и человеком, во-вторых. А главное, художником. Д.В.Ф. <1925>
Примечания:
1 Впервые: За свободу! 1923. 15 окт. №235. С.3
2 Речь идет об издании: Бакст Л. Серов и я в Греции: Дорожные записки. Берлин, 1923.
3 Древний ужас (лат.).
4 Впервые: За свободу! 1925. 4 янв. №3. С.2.
5 Альфред Павлович Нурок (1860—1919) — видный сотрудник журнала «Мир искусства».
6 Вальтер Федорович Нувель (1871—1949) — композитор-дилетант, близкий кругу «Мира искусства».
******
Опубликовано: в журнале «Наше Наследие» № 63-64 2002
Присоединиться к нам на Facebook
Всего найдено: 19
Добрый день! Скажите, пожалуйста, нужна ли запятая в этом предложении. Недолгие поиски(,) и вот дверь распахнулась передо мной.
Ответ справочной службы русского языка
Части сложного предложения нужно отделить друг от друга знаком препинания. Более подходящий знак в данном случае — это тире.
Здравствуйте. Я точно знаю, что слова «микроэлементы» и «макроэлементы» пишутся слитно, но затрудняюсь с написанием сочетания «микро- и макроэлементы». На листовке передо мной дефиса после «микро» нет, а мне что-то подсказывает, что он нужен, как правильно?
Ответ справочной службы русского языка
Вы правы. Верное написание: микро- и макроэлементы.
Уважаемые коллеги!
Хотелось бы получить консультацию по поводу правомерности раздельного написания слова «медиа» в сочетаниях «медиа аналитика» и «медиа измерения». На мой взгляд, это вариант, подобный сочетаниям с корнями «радио» и «теле». Следовательно, требуется слитное написание.
Спрашиваю потому, что передо мной лежит солидная книга «Практика медиа измерений» от «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР».
Заранее благодарю!
Ответ справочной службы русского языка
Первая часть сложных слов медиа… пишется слитно. См.: Русский орфографический словарь РАН / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2012. Раздельное написание не соответствует орфографической норме.
Здравствуйте! Задавала вопрос, но ответа не дождалась. Спрашиваю снова.
Вот предложение:
Я выпрямился и поднял голову; передо мной возвышалось большое старое здание.Можно ли объединить таким образом эти два предложения? Хотелось бы это сделать, чтобы создать некое ощущение близости, компактности. Допустимо ли такое?
Ответ справочной службы русского языка
Допустимо, но лучше поставить точку или запятую.
Здрвствуйте! В справочнике В.Лопатина написано: «Аббревиатурные названия производственных марок и изделий пишутся без кавычек: ЗИЛ, УАЗ, КамАЗ, Ту-154, МиГ-25». В справочнике Розенталя написано: «Кавычками выделяются названия типа: «Зил-110», «Миг-15», «Ту-154″. В специальной литературе названия-аббревиатуры пишутся без кавычек».
Вот лежат передо мной два справочника, противоречащие друг другу. Как быть? В газетной статье кавычить или нет? Розенталя никто не отменял. Как объяснить журналистам, чем руководствоваться и почему без кавычек.
Ответ справочной службы русского языка
Справочное пособие Д. Э. Розенталя, безусловно, никто не отменял, но, пользуясь им, надо помнить, что книга эта была составлена еще в середине прошлого века, поэтому некоторые рекомендации ее устарели. Конечно, справочник много раз перерабатывался и редактировался, но всё же некоторые рекомендуемые им написания не соответствуют современным нормам письма. Это касается и аббревиатурных названий производственных марок: сейчас нормативно их написание без кавычек. И, кстати, в 7-м, переработанном и дополненном, издании справочника Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная?» (М., 2005) зафиксировано именно такое написание, без кавычек: ЗИЛ-130, Ту-144, Ил-18 и т. п. – то есть в данном случае приведены рекомендации, не противоречащие другим справочникам по правописанию.
Здравствуйте!
Прочитав статью «Пожарник и пожарный» в «Словаре трудностей» (http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti/36_112), решил, что было бы уместно, дополнить её упоминанием о толковании разницы между этими двумя терминами, которое встречается в книге Владимира Алексеевича Гиляровского «Москва и москвичи».
Позволю себе привести достаточно большой отрывок из главы «Пожарный»:«— Пожарники едут! Пожарники едут! — кричит кучка ребятишек.
В первый раз в жизни я услыхал это слово в конце первого года империалистической войны, когда население нашего дома, особенно надворных флигелей, увеличилось беженцами из Польши.
Меня, старого москвича и, главное, старого пожарного, резануло это слово. Москва, любовавшаяся своим знаменитым пожарным обозом — сперва на красавцах лошадях, подобранных по мастям, а потом бесшумными автомобилями, сверкающими медными шлемами, — с гордостью говорила:
— Пожарные!
И вдруг:
— Пожарники!
Что-то мелкое, убогое, обидное.
Передо мной встает какой-нибудь уездный городишко, где на весь город три дырявые пожарные бочки, полтора багра, ржавая машина с фонтанирующим рукавом на колесах, вязнущих по ступицу в невылазной грязи немощеных переулков, а сзади тащится за ним с десяток убогих инвалидов-пожарников.
В Москве с давних пор это слово было ходовым, но имело совсем другое значение: так назывались особого рода нищие, являвшиеся в Москву на зимний сезон вместе со своими господами, владельцами богатых поместий. Помещики приезжали в столицу проживать свои доходы с имений, а их крепостные — добывать деньги, часть которых шла на оброк, в господские карманы.
Делалось это под видом сбора на «погорелые места». Погорельцы, настоящие и фальшивые, приходили и приезжали в Москву семьями. Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяние деньгами и барахлом, предъявляя удостоверения с гербовой печатью о том, что предъявители сего едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни или села. Некоторые из них покупали особые сани, с обожженными концами оглоблей, уверяя, что они только сани и успели вырвать из огня.»Цитата приведена по изданию: В.А.Гиляровский, Москва и москвичи. — Минск: Народная асвета, 1981.
С уважением, Евгений.
Ответ справочной службы русского языка
Большое спасибо за интересное дополнение!
Передо мной лежит иллюстрация к картине Е.Широкова «Друзья». Главные персонажи в этой картине — мальчик и собака.
Мальчик одет в синюю футболку, серые штаны и сандалии. Он нежно гладит своего друга по мягкой шерсти, как будто прося о помощи.
Собака смотрит на него понимающими глазами, но, к сожалению, не может ничего ответить.
Собака черного окраса, только кончики лап белые. Одно ухо у нее прижато к голове, другое приподнято, как будто она хочет вникнуть в проблему хозяина. Она тоже грустит, наверное, потому что грустит ее хозяин.
Отношения между мальчиком и собакой очень теплые, нежные. Недаром эта картина называется друзья. Ведь у друзей радости и печали одни на двоих. Собака умеет выслушать все проблемы хозяина от двойки в школе, до проблем в доме. Ну, и радоваться она имеет вместе с ним.
Наверное, мальчик сейчас думает о том, как ему плохо, и надеется, что собака ему поможет своим вниманием и умением слушать.
Собака, скорее всего, думает о том, как плохо ее хозяину и что надо ему помочь, выслушать его проблему. Еще мне кажется, что она переживает, потому что не может помочь ему по-другому, но я думаю, что умение выслушать – это тоже большая помощь.
В этой картине очень темные цвета. Наверное, из-за того, что мальчик и собака грустят. Диван, на котором они сидят, красного цвета. Он помят. Стена на этой картине тусклая. Это говорит о грусти тех, кто находится в этой комнате.
Мне очень понравилась эта картина, потому что она показывает взаимоотношения между мальчиком и собакой. проверьте пожалуйста
Ответ справочной службы русского языка
Витя, мы прочитали Вашу работу. Вот некоторые замечания.
1. Названия картин пишутся с большой буквы и заключаются в кавычки: недаром эта картина называется «Друзья».
2. Обороты «умеет выслушать», «имеет радоваться», «выслушать проблему» нужно заменить.
3. Наконец, следует убрать странное выражение «иллюстрация к картине».
Возник спор по поводу употребления слова Портки. Моя точка зрения такова: «В первоначальном классическом варианте это не конкретно любые штаны, а именно холщевые, являющиеся мужским нижним бельем. Если передо мной штаны, то я их и назову штанами, если это какая-либо разновидность штанов, как-то — брюки, шорты, шаровары, портки, то скажу более конкретно, но никогда не назову шортами все виды штанов, так и не надо все подряд называть портками.» Оппонент же считает, что это слово употребимо как синоним штанов, что и является единственно верным значением этого слова. Хотелось бы услышать точное определение, а также примеры его употребления. Спасибо.
Ответ справочной службы русского языка
В непринужденной разговорной речи со сниженной стилистикой слово портки может употребляться как синоним штанов.
Будьте добры, как быть, если минимализм и модерн встречаются в одном предложении, в частности: Мебель в стиле минимализма и модерн(а)? Это не праздное любопытство — передо мной рекламный блок — он ждет. Заранее благодарна.
Ответ справочной службы русского языка
Можно повторить слово «стиль»: мебель в стиле минимализма и в стиле модерн.
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как правильно написать: «передомной» или «предомной» или отделно? Спасибо!
Ответ справочной службы русского языка
Правильно: передо мной.
Передо мной… «Передо» — какая часть речи? И каким правилом руководствоваться при постановке буквы о в конце этого слова.
Спасибо.
Ответ справочной службы русского языка
Передо – предлог, употребляется перед формами мной, мною, а также перед формами творительного падежа существительных, в которых представлены начальные сочетания «ль, л, м, р + согласная».
Передо мной стоит задача исследовать аббревиатуры и сокращения, и мне очень нужны материалы, чтобы составить диссертацию. Кто может помогать мне?
Ответ справочной службы русского языка
Начните с изучения словаря сокращений на www.sokr.ru Пожалуйста, напишите нам, какие аспекты аббревиации Вас интересуют.
Скажите пожалуйста, что пишется в окончании «встал передо мной в величайшИм благоговении» или «в величайшЕм благоговении»? И если -е, то почему так пишется? Спасибо.
Ответ справочной службы русского языка
Верено: _в величайшем_, это окончание прилагательного в форме среднего рода единственного числа предложного падежа.
— Музыка для меня — это состояние души, и выбора, заниматься ей или нет, передо мной просто не стояло. Как со знаками? Спасибо!
Ответ справочной службы русского языка
Пунктуация корректна.
добрый день! искала в вашей Справке ответ на вопрос, нужно ли обособлять слово «в общем-то». признаться, теория не совсем ясна. Если в значении «в сущности, словом», то вводное. Если «достаточно» и т.д. — выделять не надо. но вот передо мной конкретное предложение, а я не могу понять, нужно ли тут обособлять: Цемент из небольшого поселка строители знают очень хорошо, что, в общем-то, совсем не удивительно. Тут правильно выделять «в общем-то»?
Ответ справочной службы русского языка
Да, пунктуация в приведённом предложении верна.