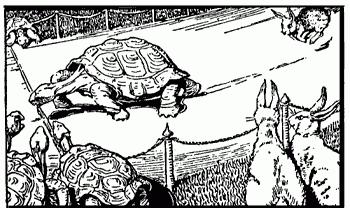Детские произведения занимают важное место среди других разновидностей художественной литературы, поскольку во многом отражают особенности культуры того или иного народа, систему его ценностей. У каждой культуры свои понятия о добре и зле, правильном и неправильном, красивом и некрасивом, справедливом и несправедливом. В детстве мы впитываем ценности, которые остаются с нами на всю жизнь. Значение литературы для детей, таким образом, не стоит недооценивать.
Следует отметить характерную особенность детских книг — сочетание художественности и педагогических требований. Такая литература должна не просто развлекать, но и поучать, направлять, ориентировать. Детские писатели 18 века (и их произведения, конечно) стремились передать детям важные знания о мире, внушить правильные ценности.
Возьмем две страны — Великобританию и Россию — и на примере детских произведений, созданных в этих государствах, убедимся, что это действительно так. Литература 18 века, писатели и их произведения предлагаются вашему вниманию.
Детская литература Великобритании 18 века
У каждого из нас есть любимые книги из детства: сказки «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Матильда», «Дюймовочка», «Путешествия Гулливера» и «Робинзон Крузо» (список, разумеется, у каждого свой). Но предположим, что мы бы росли не в 21 веке в России, а в 18 веке в Англии, что могли бы мы тогда читать?
Из вышеуказанного списка у нас бы осталась лишь книга «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо (1719) и «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (1726) в специальной версии для детей, написанные упрощенным языком, со множеством картинок.
Однако означает ли это, что в 18 веке английским детям нечего было читать? Давайте разберемся.
Дело в том, что сказочные истории существовали всегда, и недостатка в них никогда не было. Даже тогда, когда не существовало письменности, они передавались из поколения в поколение в виде фольклора. Но в 17-18 веках, с развитием книгопечатания, стало появляться все больше профессиональных писателей, в частности детских. Сказки в то время, как и сейчас, восхищали и пугали детей, создавая фантастические миры, которые поглощенные повседневными заботами взрослые не всегда одобряли.
Вот лишь основные детские писатели 18 века и их произведения.
«Робинзон Крузо» Даниэля Дефо
Вернемся к Англии 18 века. В то время, если можно так выразиться, настоящим «бестселлером» было произведение Дефо. В книге «Робинзон Крузо» восхвалялись мужество, стойкость, находчивость человека, вынужденного существовать в экстремальных условиях. Огромной популярностью пользовалась также сказка Джонатана Свифта, в которой ощущается призыв автора к открытию новых измерений и горизонтов.
«Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта
Успех «Путешествий Гулливера» привел даже к тому, что стали появляться другие книги для детей, в которых ясно читалось стремление подражать этому произведению, со словами «Гулливер» и «лилипут» в названиях, чтобы вызвать известную ассоциацию. Один из ранних примеров — выходивший в 1751 году детский «Журнал лилипутов», создателем которого был Джон Ньюбери, писатель из Лондона. Другой пример — «Библиотека лилипутов, или Музей Гулливера» в десяти томах небольшого формата, опубликованная в Дублине в 1780-х гг. Эта книга была выпущена специально для детей, а ее цена являлась небольшой, чтобы дети могли ее себе купить. Общая стоимость 10 томов составляла всего пять британских шиллингов, а отдельные части можно было купить по шесть пенсов каждый. Однако даже эта относительно невысокая цена по-прежнему являлась слишком большой для многих детей и их родителей. Только представители семей со средним и высоким уровнем дохода могли позволить себе купить такую литературу и обладали грамотностью, достаточной для того, чтобы ее прочесть.
Другие книги
Дешевые книги в жанре популярной литературы существовали уже тогда и были доступны для менее обеспеченных слоев населения. Они включали в себя детские рассказы, истории, путешествия, песни, молитвенники, истории о разбойниках, грабителях и убийцах. Эти тома были плохого качества и продавались за одно или два пенни.
В 1712 году появился перевод на английский язык знаменитых арабских сказок «Тысяча и одна ночь».
Как видите, детская литература того времени активно развивалась в Англии. А что же было на территории России? Об этом читайте дальше.
Русские книги для детей 18 века
В России появляются собственно детские писатели 18 века и их произведения (первые русские книги, написанные специально для детей, были созданы на территории нашего государства еще в 17 веке, 18 век продолжил эту традицию).
Эпоха Петра I дала толчок развитию просвещения, в частности литературы для детей. Сам царь считал, что очень важно заботиться о воспитании подрастающего поколения. В это время детские книги преследуют в основном воспитательную цель. Печатаются учебники, азбуки и буквари.
«Юности честное зерцало»
Писатели 18 века (русские) список детской литературы открывают с образовательной. В качестве примера можно привести «Юности честное зерцало». В этом поизведении были описаны правила поведения при дворе, которые ввел своими реформами Петр I. Эту книгу составили приближенные царя по его личному указу. Во главе писателей, работающих над произведением, стоял Гаврила Бужинский. В книгу, кроме прочего, были помещены материалы по орфографии, алфавит, прописи. Предназначалось «Юности честное зерцало» будущей элите, опоре царя — детям, которые в дальнейшем должны были стать придворными. В книге проводится главная идея о том, что в достижении успеха важнее не происхождение человека, а его личные заслуги, хотя и подчеркивалось при этом особое положение дворянства. Указывались и критиковались его пороки. Для девушек был создан специальный кодекс из двадцати добродетелей, среди которых особенно следует отметить услужливость, молчаливость, религиозность, трудолюбие. Писатели 18 века (русские) список женских добродетелей раскрывали образно, на примерах, создавая яркие женские образы в своих произведениях.
Переводная литература
В восемнадцатом веке распространилась и переводная литература, например басни Эзопа. Эти басни, написанные в 6 веке до н. э. мудрецом Эзопом, хорошо воспринимаются детьми благодаря возможности представить себя в образе героев — животных, птиц, деревьев, цветов… Басни Эзопа дают возможность шутя и играя преодолевать свои пороки и развивать ассоциативное мышление.
После 50-х годов начинают появляться собственно детские писатели 18 века и их произведения. Но все же основная часть детской литературы заимствуется из Запада (особенно из Франции). Здесь следует отметить, конечно же, знаменитого французского сказочника 17 века Шарля Перро. Его сказки «Золушка», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Синяя борода» знают и любят дети по всему миру. Не только читатели, но и поэты, и писатели 18 века черпали вдохновение в этих произведениях.
Писатели 18 века
Список открывает Феофан Прокопович. Этот автор написал для детей две книги — «Краткую русскую историю», а также «Первое учение отрокам». В предисловии ко второй книге он отметил, что детство — очень важное время в жизни каждого человека, так как именно тогда формируются основные черты характера и привычки. Дети должны читать книги и любить их.
Екатерина II
Не только профессиональные поэты и писатели 18 века создавали детские книги. Даже главы государства считали своим долгом самостоятельно поучать молодежь. Настоящий пример в этом показала Екатерина II. Она создала большое количество произведений, среди которых были и книги для детей, например «Сказка о царевиче Хлоре» и «Сказка о царевиче Фивее». Конечно, они были далеки до сказок в современном смысле этого слова, с их яркими характерами и героями. Эти произведения всего лишь изображали пороки и добродетели в общем, абстрактно. Однако пример Екатерины II оказался заразительным, и ему в дальнейшем последовали многие знаменитые русские писатели 18 века, создавая произведения специально для детей.
Николай Иванович Новиков
Важный вклад в развитие детской литературы внес и Николай Иванович Новиков. Он является издателем первого детского журнала — «Детское чтение для сердца и разума». В нем печатались произведения разных жанров: сказки, рассказы, пьесы, шутки и др. Не только художественная литература была представлена в журнале. В него были помещены и научно-популярные детские статьи, рассказывающие юным читателям о природе, окружающем мире, различных странах, и городах, и населяющих их народах. Эти статьи были написаны образно, интересно, в форме беседы. Новиков в своих произведениях проповедовал идеи добра и гуманизма, человеческого достоинства, которые, по его мнению, следует с юных лет прививать детям. Журнал имел большой успех и был очень популярен в то время. Знаменитые писатели 18 века печатались в этом издании.
Николай Михалович Карамзин
Необходимо сказать несколько слов и о Николае Михайловиче Карамзине. Этот писатель создал и перевел более 30 различных произведений для детей. Являясь представителем сентиментализма (которому следовали многие русские писатели 18 века), столь близкого детской природе, он стал особенно любим среди юных читателей среднего и старшего возраста. В 1789 году первые произведения Карамзина были напечатаны в журнале «Детское чтение для сердца и разума». Николай Михайлович писал для детей и после закрытия этого журнала. В последнее десятилетие 18 века им были созданы такие произведения, как «Прекрасная царевна», «Дремучий лес» и «Илья Муромец». В последней сказке нашли отражение русские былины. Это произведение не было закончено. Илья Муромец, созданный пером автора, был вовсе не похож на типичного богатыря из былин, как мы обычно его представляем, а лишь отчасти напоминал последнего. В сказке не описываются бои с недругами Руси, в ней открывается лирическая часть души Ильи Муромца в общении со своей возлюбленной. В духе сентиментализма Карамзин подробно изобразил чувства героев, создав яркие картины.
Заключение
Таким образом, 18 век привнес много нового в детскую литературу как за рубежом, так и в нашей стране. Литература для детей активно продолжила свое развитие в 19, а затем и в 20 столетии. Причем в ее развитии явно ощущается преемственность. Например, сказки Шарля Перро в различных вариантах использовались в дальнейшем Андерсеном, Пушкиным, братьями Гримм, Ирвингом. То есть мотивы одних сказок прекрасно приживались в других. Произведения русских писателей 18 века читали и в 19, и позднее. Для детской литературы 19 века характерна еще большая связь с художественной литературой для взрослых, а также с просвещением и культурой в целом.
Очень критический Николай Гоголь, ещё при жизни Пушкина о нём написал:
“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии…”.
Услышать от Николая Гоголя такую похвалу было огромной редкостью. Пушкин же написал хвалу Петру Первому в своей “Полтаве”, но когда император разрешил ему работать в архиве, то А. С. Пушкин удивительно быстро и точно разобрался в истории России и в своей заметке “Об истории народа Русского Полевого” он объяснил:
“С Фёдора и Петра начинается революция в России, которая продолжается до сего дня”.
Сосланный в ссылку из Польши в Петербург знаменитый польский поэт А. Мицкевич стал другом Пушкина и свидетельствовал:
“Когда он говорил о вопросах иностранной и отечественной политики, можно было думать, что слышите заматерелого в государственных делах человека”.
И ценность в том, что Пушкин зашёл в масонство, разобрался, всё понял, и, несмотря на то, что многие его друзья состояли в масонских организациях, осудил масонов и от них удалился.
Напомним о основной принцип масонов: «Втянуть и заманить в свои ряды самых благонамеренных публично-известных людей, и изпользовать их в своих грязных и злобных делах так, чтобы те и не догадывались об истинных намерениях вышестоящих по иерархии масонов».
“Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, типичный вольтерьянец 18 века, в 1814 году вступает в Варшаве в масонскую ложу “Северного Щита”, в 1817 году мы видим его в шотландской ложе “Александра”, затем он перешёл из неё в ложу “Сфинкса”, в 1818 году исполнял должность второго Стюарта в ложе “Северных друзей”. Не менее деятельным масоном был и дядя поэта – Василий Львович Пушкин… – отмечал в своём изследовании В. Ф. Иванов. – В Царскосельском лицее Пушкин тогда всё время находился под идейным воздействием вольтерьянцев и масонов. Царскосельский лицей, также как и Московский университет, как многие другие учебные заведения в Александровскую эпоху, был центром разпространения масонских идей.
Проект Царскосельского лицея, по предании, написан ни кем иным, как воспитателем Александра Первого швейцарским масоном Лагарпом и русскими иллюминатом М. Сперанским. Лицей был задуман как школа для “юношества особо предназначенного к важным частям службы государственной”… Несколько преподавателей лицея были масонами и вольтерьянцами. Преподаватель Гаугеншильд состоял в той же ложе иллюминатов “Полярная звезда”… Профессор Кошанский был членом ложи “Избранный Михаил”… Нравственную логику и философию Куницын излагал в духе французской просветительной философии (и т.п.)… Царскосельский лицей подготавливал лицеистов не столько к государственной службе, сколько подготавливал их к вступлению в тайные противоправительственные общества (что и приводило в восторг большевистских идеологов и коммунистов. – Р.К.)”.
После окончания Царскосельского лицея в 1817 году Пушкин был уже известным поэтом. Он был принят в литературный кружок “Арзамасское общество безвестных людей” или просто “Арзамас”, и закономерно вступил в кружок “Зеленая лампа”, который был подразделением “Союза благоденствия” декабристов. В этот период А. Пушкин писал:
Витийством резким знамениты,
Собирались члены сей семьи
У безпокойного Никиты,
У осторожного Ильи…
Масоны друг с другом изпользуют обращение “брат” и “товарищ”, – отсюда и у Пушкина: “Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного…”.
Хотя масоны к Пушкину относились весьма подозрительно, и это они сами отмечали – С. Волконский:
“В отношениях, сближавших Пушкина с декабристами, есть некоторая недоговорённость…”.
А декабрист Горбачевский писал конкретнее:
“От верхней думы нам было запрещено знакомиться с Пушкиным, а почему? Прямо было указано на его характер”.
Возможно, масоны не хотели впутывать в серьёзную политику молодого перспективного поэта, а возможно, чувствовали другого по духу; об этом писал философ С. Франк:
“Друзья Пушкина с чуткостью, за которую им должна быть благодарна Россия, улавливали уже тогда, что по существу своего духа он не мог быть заговорщиком”.
Пушкин это, пожалуй, понимал и по горячей молодости пытался доказать, что он свой – писал острые эпиграммы, написал знаменитую оду “Вольность”, которая повторила с развитием оду “Вольность” Радищева, в которой юноша пытался учить царей – “увенчанных злодеев”, как жить, и не только неосторожно вольнодумствовал, но демонстрировал своим знакомым единомышленникам портрет своего героя-террориста Лувеля, убившего герцога Беррийского, – в результате “заложили”, и за это его власти хотели сослать в 1820 году в Сибирь. Но помогло заступничество авторитетного Карамзина и “украшение нашей словесности” отправили в мягкую ссылку на юг.
“(Он) благополучно поехал в Крым месяцев на 5. Ему дали 1000 рублей на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя”, – писал Карамзин в письме Вяземскому.
22-летний Пушкин поехал не в Крым, а по совету единомышленников – в Кишинёв. Когда молодого вольнодумного А. Пушкина власти послали подальше от греха – от масонского Петербурга на юг, то “почему-то” не выяснили, что в Кишинёве, куда попал Пушкин, разцветала масонская ложа “Овидий”, которая прославилась громким забавным казусом: когда с яркой символикой принимали в ложу архимандрита Ефрема, и согласно ритуалу с завязанными глазами повели его из дома через двор в подвал, чтобы побыл “по обычаю” там наедине, то вдруг ведомого связанного и с завязанными глазами архимандрита заметили прохожие, и, подумав нечто страшное, бросились спасать от насильников, вызвав при этом полицию…
Вот здесь А. Пушкин и достиг своей цели и дал клятву, отступление от которой стоило ему жизни.
“Из новоучреждённых мастерских союза Великой ложи “Астреи” особого внимания заслуживает ложа “Овидий” в Кишинёве… Именно здесь 4 мая 1821 года и состоялось посвящение великого поэта в степень ученика”, – отметил в своём изследовании В. Брачёв.
“Живя на юге, – отмечает в своём изследовании Б. Башилов, – Пушкин встречается со многими масонами и видными участниками масоно – дворянского заговора декабристов: Раевским, Пестелем, С. Волконским и другими, с англичанином-атеистом Гетчисоном. Живя на юге, он переписывается с масоном Рылеевым и Бестужевым”.
Но Пушкин при этом усердно занимался самообразованием – много читал иностранных авторов и российских, в том числе книги по истории Карамзина.
Пушкин из Кишинёва переехал на Кавказ, потом на Чёрное море в Одессу, а затем попался на крамольной переписке, и в 1824 году власти ему приказали жить в его селе Михайловском в Псковской губернии, где жизнь в одиночестве и в думах очень пошла ему на пользу. Видно было, что в год восстания декабристов Пушкин думал об истоках этого революционного движения – о лицейских учителях:
…Куницыну дар сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень.
Старые друзья – “братья по разуму”, и в далёкое Михайловское к нему приезжали. Но с Пушкиным происходили “странные” перемены, его взгляды стали кардинально меняться. Когда его посетил зимой 1825 года масон-декабрист Пущин, то отметил, что А. Пушкин сильно изменился, улетучилась его легковесность и легкомыслие, и он стал “серьёзнее, проще и разсудительнее”.
Пушкин внимательно отнёсся к русскому языку, его ценности, и по достоинству оценил заслуги выдающегося славянофила А.С. Шишкова:
“Сей старец дорог нам: он блещет средь народа…”.
Что-то произошло в сознании взрослеющего и самостоятельно думающего Александра Пушкина, он увлёкся историей России, с большим интересом прочитал все тома “Истории…” Карамзина.
“Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная”, – писал А. Пушкин. Пушкин отметил неприятную, глупую критику этого научного труда Карамзина его единомышленниками – декабристами.
“Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, – казались им верхом варварства и унижения”, – писал разочарованный декабристами Пушкин, который своим мировоззрением всё дальше от них отдалялся:
Не дорого ценю я громкие слова,
От коих не одна кружится голова…
И мало горя мне, свободно ли печать
(“Из Пиндемонти”).
Вероятно, А. Пушкин пришёл к выводу, который позже озвучил Н. Бердяев в “Царстве духа…”:
“Либералы обыкновенно понимают свободу как право, а не обязанность, и свобода для них означает лёгкость и отсутствие стеснений, тогда как свобода (и это соответствует русскому пониманию свободы) – не право, а долг (ответственность)…”.
Пушкин философски переосмысливал действительность, кардинально менял свои взгляды и уже писал:
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И сети разорвал, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушая тишину…
Далеко от столицы и других городов, в деревенской тишине пытливый ум Александра Пушкина, наедине с самим собой и с Миром не мог не задуматься над глобальными всеобщими законами Мироздания и, выйдя ночью к звёздам, всматриваясь им в глаза, вполне мог прийти к правильным выводам, как В. Смоленский:
Взгляни на звёзды! Ни одна звезда
С другой звездою равенства не знает.
Одна сияет, как осколок льда,
Другая углем огненным пылает.
И каждая свой излучает свет,
Таинственный, зловещий или ясный.
Имеет каждая свой смысл и цвет
И каждая по-своему прекрасна.
Но человек в безумии рождён
Он редко взоры к небу поднимает,
О равенстве людей хлопочет он
И равенство убийством утверждает.
Над этим мудрым философским стихотворением рекомендую глубоко задуматься всем, кто думает вступать в масонские организации или в них находиться, ибо противоречить законам Мира – это идти против Бога, это богоборчество, а кто с Богом пытается горделиво бороться?..
Пушкин открестился от декабристов и их критиковал. В письме своему доверенному Жуковскому 7 марта 1826 года объяснял:
“Бунт и революция мне никогда не нравились, но я был в связи почти со всеми, и в переписке со многими заговорщиками. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова”.
Соответственно изменилось отношение Пушкина и к императору, который достойно повёл себя во время мятежа:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил…
И совершенно закономерно, а в глазах его бывших товарищей – “позорно” прозревший А. Пушкин в 1826 году написал раскаянное письмо императору Николаю Первому, в котором согласился с его Манифестом от 13 июля 1826 года, что причина бунта мятежников в “недостатке твёрдых познаний”, в “пагубной роскоши полупознаний, сей порыв мечтательной крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель”. Более того, и “возмутительнее” – А. Пушкин стал публично демонстрировать свою новую мировоззренческую позицию, что выразилось в его неожиданной критике А.Н.Радищева (1749–1802), ставшего масоном-мартинистом ещё в университете в Лейпциге, за его “Путешествие в Москву”. Пушкин:
“Поступок его всегда казался нам преступлением ничем не извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственной книгою…”
Это только коммунисты в СССР лучше Пушкина разбирались в литературе и безконечно восхищались талантливой критикой царизма А. Радищевым.
Пушкин понял замысел главного теоретика масонов А. Вейсгаупта, о котором высказался выше, и понял, что масоны заметили один закон природы – “закон зелени” или “бодание молодых козлят”. А. С. Пушкин:
“Как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила, отвергаемые законом и преданиями”.
Понял А. С. Пушкин и их коварную технологию “свободы”. Пушкин:
“Абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества” (Б.Б.).
Это возрастное бунтарство и изпользовали все кому не лень, в том числе и масоны, которые в своих директивах указывали:
“Оставьте стариков и взрослых, идите к молодым”.
А. С. Пушкин, несмотря на новые взгляды на жизнь и идеологические разногласия с декабристами, сильно переживал за своих сосланных друзей молодости и делал им посыл:
Измял с налету вихорь шумный…
Погиб и кормщик и пловец! –
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
При этом А. С. Пушкин, как даровитый философ, пришёл к глубокому выводу-истине: “Нравственность, как и талант, даётся не каждому”, отсюда и библейское – “не осуждай”.
Когда жена А. Г. Муравьева уезжала в Сибирь к мужу, то Пушкин в 1827 году передал ей своё знаменитое стихотворение, желая поддержать их бодрость духа:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд…
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
Несмотря на сочувствие и дружеские чувства к своим друзьям молодости, А. С. Пушкин безвозвратно вырос из масонов, перерос и понял всю их коварность и опасность.
“Пушкин одержал духовную победу над циклом масонских идей, во власти которых он одно время был… К моменту подавления масонского заговора декабристов национальное миросозерцание в лице Пушкина побеждает духовно масонство. Пушкин к этому времени отвергает весь цикл политических идей, взлелеянных масонством, и порывает с самим масонством. Пушкин осуждает революционную попытку связанных с масонством декабристов, и вообще осуждает революцию как способ улучшения жизни. Пушкин радостно приветствует возникшее в 1830 году у Николая намерение “организовать контрреволюцию – революции Петра Первого. Из рядов масонства Пушкин переходит в лагерь сторонников национальной контрреволюции… Как государственный деятель Николай Первый настолько выше утописта Пестеля, насколько в области поэзии Пушкин выше Рылеева”, – отметил в своём изследовании Б. Башилов.
Император Николай Первый внимательно отнёсся к письму А. С. Пушкина. В Михайловское внезапно прибыл курьер и пригласил Пушкина к царю в Псков. Пушкин поехал, и 8 сентября 1826 г. в Чудовом монастыре состоялся между ними долгий и откровенный разговор, изменивший многое.
После этого разговора Николай I стал поклонником Пушкина и его опекуном до его гибели, разрешил ему жить, где хочет и оказывал ему большую помощь, в том числе и финансовую.
“Государь вёл себя по отношению к нему (Пушкину) и ко всей его семье как Ангел”, – писала Екатерина Андреевна Карамзина. Позволив Пушкину пользоваться государственным архивом и заняться любимой историей, Николай I способствовал дальнейшему росту сознания А. Пушкина, отсюда и такой прогресс в понимании Петра “великого” с “Полтавы” написанной в 1828 году до “Медного всадника” в 1833 г.
“Очень характерно, что молодой Александр Пушкин до Болдинской осени охотно писал стихи о Петре (настоящем, а не о самозванце) и петровской эпохе, разразился своей великолепной “Полтавой”, но стоило ему всерьёз заняться Петровской эпохой, и родился “ужастик” 19 века, “Медный всадник”…”, – объяснял Б. Башилов.
После встречи во Пскове Пушкину вернулось его прежнее восхищение Александром в ранней молодости:
“Он взял Париж, он основал Лицей…”.
Пушкин получил свободу, но не спешил возвращаться из деревни в столицу, у него было большое вдохновение творить – писать, “почуял рифму”, и он много работал.
А когда в начале 1828 года вернулся в столицу, то оказалось, что, несмотря на мир и дружбу с самим императором, у него немало врагов, которые не собирались облегчать “предателю” жизнь.
Ведь роман писателя середины 19 века Писемского “Масоны”, написанный с помощью брата Писемского известного масона Ю. Н. Бартенева, описывает тайную деятельность запрещённых в России масонов как раз в этот период времени; а в 1831 году масоны под благовидным предлогом опять хотели создать “Библейское общество”, поменяв название на “Евангелистское общество”, якобы сделав на этот раз акцент не на сугубо еврейском Ветхом Завете, а на Новом, и обещали не издавать опять Пятикнижие Моисея, но на этот раз у них замысел не прошёл.
Сложность ситуации для Пушкина была в том, что его преследовали не только формировавшие “общественное мнение” масоны-острословы, но и правительственные структуры Николая Первого. Понятно, что если до 1825 года в элите общества было огромное количество масонов, то они не могли исчезнуть полностью за 3–5 лет, несмотря на подписку и клятву не заниматься тайной деятельностью.
И по иронии судьбы именно занимающийся цензурой, контролирующий информационное поле Негласный Комитет, возглавляемый старым масоном графом Кочубеем, современники называли достаточно конкретно – “Якобинской шайкой”.
Не лучшим оказался и продолжатель дела Кочубея Бенкендорф, который “почему-то” вызывал к себе для разборок Пушкина на много чаще, чем кого бы то ни было.
В первый же год – 1828 “товарищи” и “братья по разуму” подставили А. С. Пушкина под удар – основательно его оклеветали, приписав ему авторство скандального “Андрея Шенье”. Следствие по этому поводу было настолько серьёзным, что его вёл Сенат. Задёрганный и оскорблённый А. С. Пушкин не выдержал несправедливости, психанул и написал прошение зачислить в действующую армию. И только вмешательство Николая Первого избавило Пушкина от дальнейших унизительных оправдываний. Несмотря на это, постоянные придирки Бенкендорфа были просто необъяснимы здравым умом, и были больше похожи на третирование поэта мстительными масонами.
В 1830 году Пушкин женился и был безмерно счастлив, после чего вначале 30-х годов много путешествовал по России и много времени проводил с семьёй в Болдино, при этом много и плодотворно работал, писал стихи, сказки, так и заканчивал свой большой труд “Евгений Онегин”.
А. Пушкин в сказках обобщил народную мудрость, он приучил, научил думать, показал красоту и силу мышления. А об Онегине Ф. М. Достоевский так сказал: “Первый страдалец русской сознательной жизни, который почувствовал, что на свете ему нечего делать”. Это характерный русский вопрос – в чём смысл жизни? Чисто русская позиция – анализ действительности, затем несогласие с ней, затем попытка переделать её даже путём размашистого бунта, и потом в случае неудачи запить или сказать, как сказал Л. Н. Толстой:
“Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь безсмысленна, жизнь моя остановилась…”.
Критическое отношение А. Пушкина к масонам не изменилось.
“А то, что масонство А. С. Пушкина было случайным эпизодом в его биографии – это несомненно. И убедительное свидетельство тому – резкое охлаждение отношений поэта со своими братьями по ордену в 1830-е годы. И виноват в этом был прежде всего сам А. С. Пушкин, или, вернее, его государственно-патриотическая позиция в эти годы. Одно уже стихотворение “Клеветникам России” (1831 г.) много в этом отношении стоит.
В результате, как отмечают современники поэта, в последние годы своей жизни он уже совсем перестал посещать Английский клуб – традиционное место сборища петербургских масонов того времени”, – отметил в своём изследовании В. Брачев.
Гибель А. С. Пушкина
Когда Пушкин вернулся в столицу с замыслом создать журнал “Современник”, то опять неизбежно возникли неприятности и опять в результате подставы. На этот раз мстительные масоны “подставили” Пушкина под гнев Государя, раскрыв авторство “Гавриилиады”, за которую “взрослый” Пушкин стыдился. Пушкину опять пришлось унизительно оправдываться. Но Николай I оказался на высоте и “не купился” на очередную тонкую игру в бдительность, и объявил:
“… Зная лично Пушкина, я его слову верю…”.
Такую же тонкую коварную “внутреннюю” смертельную игру, только в иных масштабах, мы встретим в середине 30-х годов 20 века в СССР при Сталине.
В данном же случае – не получилось убрать А. С. Пушкина руками властей, так решили убрать другим способом, и трудно было что-то иное придумать, чтобы погубить Пушкина, кроме как спровоцировать его на дуэль. При любом исходе дуэли результат для злоказнённых “мудрецов” был позитивным – если бы Пушкин не погиб, то его можно было обвинить в нарушении строгого закона – дуэли указом императора были категорически запрещены, а значит Пушкин предстал бы перед судом и получил бы длительный тюремный срок или каторгу.
И мудрецы-шахматисты стали думать…. – с поводом для дуэли проблем нет, ибо у жертвы красавица жена – Наталья Николаевна Гончарова, и разыграть банальный любовный треугольник и вызвать сцены ревности, зная характер Пушкина и его чувство чести и собственного достоинства, – проще простого. Более трудная задача со стрелком – потенциальным убийцей Пушкина, который должен быть не только наверняка метким стрелком, но согласился бы пожертвовать светской жизнью, – быть готовым идти в тюрьму или даже на казнь, быть готовым к осуждению и ненависти со стороны российского общества и императора за убийство любимого поэта-гения.
Вот на такую роль трудно было найти желающих, идеально было бы, чтобы стрелок был бы иностранцем, тогда бы все проблемы снимались бы – его как гражданина иностранного государства просто выдворили бы из России, и после этого на осуждение российского общества и императора ему – наплевать.
“Злые силы сделали Наталью Николаевну игрушкой и орудием своих чёрных планов. Если бы им не удалось изпользовать Натали, они нашли бы другой способ, но Пушкина они бы погубили”, – объяснял масон ложи “Р. И. Е.” Е. Грот (Б.Б.).
Как только А. С. Пушкин в 1834 году появился в Петербурге, и как то сразу вокруг него стали сгущаться и роится недруги, и пошла мудрёная масонская игра-свистопляска. Пушкин это сразу заметил и в этом же году написал:
Я слышу вокруг меня жужжание клеветы, Решенья глупости лукавой И шёпот зависти, и лёгкой суеты Укор весёлый и кровавый.
Опять случился скандал вокруг Пушкина, масоны опять его “подставили” перед императором – зловредный немец Бенкендорф незаконно перехватил и вскрыл письмо Пушкина своей жене, в котором поэт сетовал на чиновников и нелицеприятно о них отзывался. Это письмо – как опасную критику власти, занесли самому императору. Николай Первый разстроился, но никаких мер против Пушкина не принял. Но видел, как “невидимая сила” с неимоверным упорством работала против Пушкина, упорно его подставляла под удар, упорно хотела если не расправиться с ним руками самого Государя, то хотя бы снять с него защиту и финансовую опеку в лице императора.
Ответный ход Пушкина был закономерным – он подал прошение в отставку и собирался уединиться в Михайловском, но в отставке ему отказали и даже пригрозили запретить ему работать в архиве. Пришлось ему ещё терпеть. Но в 1835 ему удалось вырваться почти на полгода в своё любимое Михайловское, где он разочарованный столичным обществом, переживая за судьбу России, не видел её перспективы при нынешнем обществе, но будучи оптимистом в сердцах вопрошал:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!
Не я Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастёшь моих знакомцев…
Но планы создания литературного журнала “Современник” с целью скорейшего правильного воспитания молодого поколения, да и формальные обязанности по службе, вынудили его вернуться в Петербург, в котором он не хотел жить, поэтому поселился за городом на даче на Каменном острове.
Внимательно вглядываясь в жизнь, А. Пушкин заметил новое явление – появившихся ростовщиков и дал ему, им свою оценку:
…И дале мы пошли и страх обнял меня.
Бесёнок, под себя поджав своё копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.
Горячий капал жир в копчёное корыто.
И лопал на огне печёный ростовщик.
А я: “Поведай мне: в сей казни что сокрыто?”
Вергилий мне:
“Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик
И их безжалостно крутил на вашем свете.”
Тут грешник жареный протяжно возопил:
“О, если б я теперь тонул в холодной Лете!
О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я терплю: процент неимоверный!” –
Тут звучно лопнул он – я взоры потупил.
Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной…”.
В апреле 1836 года к великой радости А. С. Пушкина вышел первый номер журнала “Современник”. Но он предчувствовал как что-то смертельное готовится ненавидящим его окружением, и он уже был готов к худшему – иначе не объяснить стихотворение, написанное в расцвете жизни, в 37 лет:
“Я памятник себе воздвиг нерукотворный…”
А. Пушкин уже подводил итоги и тешил себя, что жизнь прожита не зря и народ будет о нём помнить.
А масоны завертели вокруг русского гения свою мудрёную мстительную смертельную метелицу, чтобы образцово наказать за клятвоотступничество. Главную роль организатора убийства взял на себя высокопоставленный масон, защищённый дипломатическим иммунитетом, Нидерландский посланник в России барон Геккерн (старший), а инструментом убийства он изпользовал своего приёмного сына барона Геккерна младшего – поручика Дантеса.
Как эта иностранная масонская мразь режиссировала события и подводила Пушкина к дуэли видно из возмущённого письма А. С. Пушкина Геккерну (старшему) от 26 января 1837 года:
“Господин барон! Позвольте мне изложить вкратце всё случившееся. Поведение Вашего сына было мне давно известно… Собственное Ваше поведение было неприлично. Представитель коронованной главы, Вы родительски сводничали Вашему сыну. Кажется, все поступки его (довольно, впрочем, неловкие) были Вами руководимы…
Подобно старой развратнице, Вы сторожили жену мою во всех углах, чтобы говорить ей о любви Вашего незаконно рожденного или так называемого сына, и когда он, будучи больным венерическою болезнию, оставался дома, Вы говорили, что он умирает от любви к ней.
Вы говорили ей: “Возвратите мне моего сына”… Не хочу, чтоб жена моя ещё слушала Ваши отцовские увещания, и не могу позволить, чтоб сын Ваш после своего отвратительного поведения осмелился бы обращаться к моей жене, а ещё менее того, чтоб он говорил казарменные каламбуры и играл роль преданности и несчастной страсти, тогда как он подлец и негодяй.
Я вынужден обратиться к Вам с просьбой окончить все эти проделки… Имею честь быть, господин барон, Ваш покорный и послушный слуга. А. Пушкин”.
Вот он, долгожданный повод – Пушкин наконец-то не выдержал и сорвался на резкость и оскорбление, а ведь и так удивительно долго терпел. Убийцы надеялись – что он давно уже должен был бы сам вызвать Дантеса на дуэль за наглые ухаживания за его женой, за попытку нарушить супружескую честь Натальи Николаевны и честь семьи Пушкина, с этой целью и нагнетались специально сплетни и насмешки. Причём многие в “свете” знали, что Дантес педераст и с женой Пушкина просто играется ради забавы и чтобы потрепать нервы знаменитому поэту, другие – чтобы этими ухаживаниями скрыть свои низкие наклонности от пересудов, замаскировать ухаживаниями, а третьи – знали правду и внимательно следили за реакцией А. С. Пушкина, и они не ожидали от него такой выдержки. И только после того, как сами заговорщики не выдержали и пошли на явную грубую провокацию – в ноябре 1836 года прислали А. С. Пушкину грязный предельно оскорбительный анонимный пасквиль на него под названием “Диплом Ордена рогоносца”. Масоны цинично и жестоко издевались, якобы говоря А.Пушкину, – не захотел быть членом нормального масонского ордена, – будешь членом “Ордена рогоносца”, Пушкин решил дать ответ.
“Орудием мести якобы был избран Жорж Дантес, действовавший по указанию некоего таинственного зарубежного масонского центра. Большое внимание в связи с этим придаётся “последнему предупреждению” поэту – полученному им накануне дуэли “диплому Ордена рогоносца”, изобилующему масонской фразеологией, вроде “командор”, “Большой капитул”, “рыцари” и т.п. Отчётливо просматривается масонская символика и на печати “диплома”: циркуль, птица и прочее, – отметил в своём изследовании В. Брачев. – Едва ли случайно и то, что разсылался “диплом” от имени Д. Н. Нарышкина – бывшего мастера петербургской ложи “Северных друзей”. Организатором же заговора “космополитической клики” против А. С. Пушкина считается ненавидящий поэта министр иностранных дел России граф Карл Нессельроде”.
Да, пожалуй, ни одна интрига в российском государстве в этот период, особенно против российских патриотов, не обошлась без руководящего участия португальского еврея (по матери) Карла-Роберта фон Нессельроде-Эресго, о котором Фёдор Иванович Тютчев писал:
Нет, карлик мой!
Трус беспримерный!
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маловерной
Не соблазнишь Святую Русь.
Ещё предстоит выяснить “выдающуюся” роль этого “мудреца” в масонском заговоре против Николая I, в убийстве-отравлении Николая I в феврале 1855 года совместно с графом Адлербергом и врачём Мандтом. Россия продолжала разхлёбывать горькую похлёбку Петра “великого”, заваривавшего кадровую политику из иностранцев, западноевропейцев. Вина и ошибка в продолжение этой политики была императора Николая I, и он сам от этого пострадал, поплатился жизнью.
Этот мерзавец Карла фон Нессельроде-Эресго не только был соучастником убийства А. С. Пушкина, но нанёс большой урон российскому государству. Он принципиально “не мог” выучить за 70 лет русский язык, принципиально не принимал православие, оставаясь в масонском протестантизме; достигнув максимум карьеры в Табели о рангах и 40 лет руководя внешней политикой России, довёл Россию до полной международной изоляции и спровоцировал Крымскую войну, поставив Россию на грань катастрофы. И только после свержения этого негодяя сменивший его талантливый Александр Михайлович Горчаков спас Россию, эту историю мы подробнее разсмотрим в третьей книге.
Не будучи уверенными, что этим издевательством над честью и достоинством А. С. Пушкина точно выведут его из равновесия, заговорщики решили преследовать и третировать великого поэта дальше – стали переписывать-множить эту мерзкую анонимку и разсылать её по адресам его друзей, будучи уверенными, что друзья будут сообщать ему об этом каждый раз или отвернуться от опозоренного и терпящего унижения и оскорбления А. С. Пушкина, и это произведёт дополнительное давление на психику и сознание А. С. Пушкина. И друзья сообщали А. С. Пушкину…
При этом друзья обратили внимание, что весь тираж этого омерзительного сочинения написан на особой бумаге иностранного производства, которая изпользуется только в некоторых иностранных посольствах. Фактически это была иностранная диверсия против России и русского народа.
Пушкин сразу и безошибочно понял – в каком посольстве пишут и кто автор, и два месяца в тяжёлых сомнениях искал правильный выход, решал – что делать… Ведь если по справедливости, то следовало вызвать на дуэль не Дантеса, а Геккерна-старшего – идейного вдохновителя, для которого Дантес был лишь орудием, но вызвать на дуэль Геккерна– старшего не было повода, а во-вторых, сам по себе вызов на дуэль главы иностранного посольства, при целевой утечке информации о вызове на дуэль вопреки строгому запрету, тут же вызвал бы большой скандал и судебное разбирательство с трагическими последствиями для Пушкина, и до дуэли бы не дошло, а заговорщики добились бы своей цели. Поэтому Пушкин и послал письмо в надежде, что раскрытый аноним наконец-то перестанет его преследовать или вызовет его на дуэль. Что и требовалось Геккерну-старшему – сам он, конечно, рисковать и вызывать Пушкина на дуэль не стал, а тут же послал защищать отцовскую честь Геккерна-младшего, боевого офицера. Дуэль “обиженной стороной” была назначена спешно на следующий день – 27 января 1837 года.
“Слухи о возможности дуэли получили широкое разпространение, дошли до императора Николая Первого, который повелел Бенкендорфу не допустить дуэли. Это повеление государя масонами выполнено не было”, – отметил в своём изследовании В. Иванов. Бенкендорф был соучастником убийства, и умышленно “тупил” – “прикинулся дурачком”, затем оправдывался перед императором, что ошибочно послал полицейских в другом направлении… “Изследователи уже давно обратили внимание на одно странное обстоятельство – наличие в ложах людей самой различной политической ориентации: от крайне правых до ультралевых. Действительно, как совместить принадлежность к масонству таких несхожих между собой лиц, как декабрист-революционер Павел Иванович Пестель и шеф жандармов при Николае I А. Х. Бенкендорф…” – отметил специалист по масонам В. Брачев.
От полученного тяжёлого ранения на дуэли великий мыслитель и поэт А. С. Пушкин 29 января 1837 года умер. Убийцы успешно реализовали принцип: “убей лучшего из них”. Это, прежде всего, по России нанесли тяжёлый удар и колоссальный ущерб. Наш выдающийся мыслитель Н. Я. Данилевский позже по этому поводу писал:
“Всё самобытное русское и славянское кажется ей (Европе) достойным презрения, и изкоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу западной цивилизации”.
М. Ю. Лермонтов сразу после трагической вести написал стихотворение “Смерть Поэта”, в котором верно отразил:
Восстал он против мнений «света»
Один, как прежде… и убит!
Здесь неудачная игра слов, ибо А. С. Пушкин восстал против чёрных сил, и эти чёрные силы его и погубили. В. Брачев:
“Некоторые изследователи даже считают, что дуэль и смерть А. С. Пушкина были спровоцированы именно масонами, как месть поэту за его якобы отступничество от идеалов ордена”.
Следствие началось на следующий день после дуэли, и в марте 1837 года суд вынес приговор. Учитывая из объяснений Геккерна-младшего, что “обращение с женою Пушкина заключалось только в одних светских вежливостях” и что, по утверждению члена суда генерала Кнорринга – “поручика Геккерна во уважении того, что он решился на поединок с камер-юнкером Пушкиным, будучи движим чувствами сына, разжаловать в рядовые…”, Николай Первый наложил на мнение судей резолюцию:
“Быть по сему, но рядового Геккерна как не русского подданного выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты. Николай Санкт-Петербург 18-е марта 1837”. – Что и предусматривал преступный замысел.
Это любимая игра масонов в “мини-бога”, их “высший пилотаж” – и целенаправленно создавать события и манипулировать не ведающими истинного замысла и целей людьми, находясь незамеченными “за кулисами” жизненной сцены и всё держать под контролем. По этому поводу опять стоит вспомнить объяснение о хитрости-мудрости А. Шопенгауэра. Через 70 лет многие грани их опасной хитрости-мудрости будут описаны в знаменитых “Протоколах…”.
Все упомянутые документы касательно Пушкина находятся в Российском государственном военно-историческом архиве и публиковались в “Известиях” от 04.04.2008 г.
После гибели А. С. Пушкина Николай I погасил все его долги в размере сто тысяч рублей, приказал выдать его семье десять тысяч рублей и назначил жене и детям большую пенсию, и приказал издать собрание сочинений Пушкина за счёт государства.
“2 февраля 1837 года известный масон А. И. Тургенев записал в своём дневнике: “Заколотили Пушкина в ящик. П.А. (Вяземский – Б.В.) положил с ним свою перчатку”. Похоронили “братья” А. С. Пушкина, как видим, всё-таки согласно масонскому обычаю…” – отметил В. Брачев.
Обнаружилась ещё одна печальная традиция – посмертная дискредитация идеологического врага:
“О Пушкине до сих пор бродят в обществе разные нелепые слухи… Говорят, например, что Пушкин великий поэт, и все этому верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист и больше ничего… Для тех людей, в которых произведения Пушкина не возбуждают истерической зевоты, эти произведения оказываются вернейшим средством притупить здоровый ум и усыпить человеческое чувство…”, – писал кумир нигилистов и затем коммунистов жёлчный критик Д. И. Писарев, пытаясь заляпать Пушкина своей грязью (“Пушкин и Белинский”).
А такие творцы как “красный” М. Горький писал:
“Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России”.
Тем более вызывала восхищение личность Пушкина у “безпартийного” патриота Ф. Достоевского:
“Появление его способствует освещению тёмной дороги нашей новым, направляющим светом. В этом смысле Пушкин есть пророчество и указание”.
Интересно проследить, как в тот период истории России произошло деление на творцов: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тютчев, Фет и пр. и на завистников творцов, их критиков: Белинский, Писарев, Добролюбов, Герцен и помельче. Это мы разсмотрим далее, а пока стоит ещё несколько слов сказать о А. С. Пушкине, вклад которого в русский язык, в возрождение национального самосознания после петровского и длительного “иностранного” правления, в достоинство и духовную копилку русского народа, в мировоззрение и развитие русской цивилизации, не говоря уже о литературе и поэзии, в краткой форме даже трудно оценить. Многие восхищаются поэзией Пушкина, но не обращают внимания на него как на философа, и даже как на глубокого мистика. За свою короткую жизнь он успел много сделать. Свою миссию Александр Пушкин перед русским народом, в истории России выполнил сполна, осталось другим русским свою миссию исполнить – понять, наконец, Пушкина и что творилось и твориться в России, и изполнить своё предназначение в жизни.
Пушкин эту свою изполненность миссии, её законченность перед Россией и потомками понимал, и понимал близость смерти, и об этом написал в последние недели жизни:
Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит…
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег…
До свиданья Друг!
И до новых свершений в этой борьбе Добра и Зла, светлых и чёрных сил, на пути развития и совершенства!
Закончена тема Пушкина, – подумал я, сидя глубокой зимней ночью, и потянуло на философскую лирику: смахни слезу… Попей чайку. Задумайся над своей жизнью краткой бренной… над этим Миром вечным… И улыбнись… И приготовься – скоро утро высветится и новый день зашумит…
И Мир выпьет тебя не спеша, как чашку чая, и что Он о тебе подумает?.. Хотелось бы, чтобы сказал от удовольствия что-то хорошее…
А на следующий день меня стала мучить некая смутная незавершенность темы, что-то забыл; и вспомнил – хотел глянуть на новый фильм о Пушкине “Пушкин. Последняя дуэль” – как показан Пушкин и его гибель? Оказалось, что сценарист и режиссёр этого фильма Наталья Бондарчук 10 лет готовилась к этому фильму, 10 лет досконально изучала Пушкина и пришла к таким же выводам.
Я даже не ожидал показа такой точной и суровой правды. Главный герой в этом фильме – А. С. Пушкин говорит:
“Это не заговор против меня, – это заговор против императора, против России”.
Интересно было глянуть, что написала наша либерально-демократическая пресса про этот фильм, а она у нас таковая на 99%. Умеренные промолчали, а главные защитники западных либеральных ценностей сочли долгом прокомментировать – газета “Известия”:
“Это чистой воды идеологическая провокация. Но зачем же брать при этом в приспешники величайшего русского гения и спекулировать на великой национальной трагедии?”.
Досталось от гневно обрушившихся критиков режиссёру и за подбор на роль Пушкина “рыжего блондина с голубыми глазами” – почему не метис или даже африканец. Получил немало язвительных саркастических подзатыльников и сыгравший главную роль артист Сергей Безруков типа: “Потренировавшись на Есенине…” и т.п.
А зависимая прозападная “Независимая газета” зрела в идеологический вражеский корень:
“Мне кажется, – писала кинокритик газеты Е. Барабаш, – что в данном случае мы имеем дело с ложью не просто художественной, а исторической, которая довольно сильно бьёт по современности… Пушкин в фильме предстаёт этаким ангелом-пупсиком, которого травят инородцы и гомосексуалисты. Смысл фильма в том, что мы сейчас имеем: мы продались Западу”.
И звучал “оптимистический” прогноз – фильм получился не рейтинговый, в прокат его не возьмут, и посмотрят его мало зрителей.
Так и получилось, этот фильм, сделанный в 170-летнюю годовщину смерти великого А. С. Пушкина, мелькнул раз всего на одном телеканале и пропал. Раньше – в СССР, была цензура в лице цензоров и Политбюро, а теперь намного проще – обзвонили всем, что фильм идеологически опасный – и самостийные телеканалы под благовидным предлогом его брать отказались.
Зато многие телеканалы в 2007 году в честь юбилея гибели А. С. Пушкина по многу раз показывали с умилением визит в Россию родственника убийц Геккернов, их тихую обезпеченную жизнь в Бенелюксе и трепетную память о предках, ставших знаменитыми только тем, что убили великого А. С. Пушкина. Родственник убийц демонстрировал с гордостью пистолет, из которого стреляли в Пушкина и трогательно объяснял: произошла история, которая часто происходит между настоящими мужчинами – они были друзьями, но влюбился Дантес в Наталью Николаевну, они оба её любили, повздорили между собой из-за женщины и пошли стреляться… Как всё просто и романтично…
А ведь либерал-демократы любят предупреждать: “не надо простых решений”, тем более мерзких и подлых. Наблюдая этот вражеский шабаш на балу критики по поводу юбилея и фильма Н. Бондарчук, я подумал: а ведь права Барабаш – сама тема Пушкина, и тем более правда о Пушкине, правда о его убийстве, сам А. С. Пушкин “сильно бьёт по современности”, участвует в современной жёсткой информационно-идеологической войне за умы и души людей, особенно российской молодёжи. Н. Бондарчук заметила, что задумав этот фильм, она предполагала, что он не вызовет интереса у молодёжи, а только у грамотных взрослых. Так и получилось.
А зря, плохо – я имею ввиду большую безграмотность и пассивность молодёжи. Ведь мы опять наблюдаем повтор истории, опять идёт та же борьба, что и двести лет назад между западниками, прозападниками и патриотами; опять разплодились масоны, и опять бродят по улицам устрашающими чёрными тенями пессимистические нигилисты “эмо” и агрессивные нигилисты-экстремалы в чёрных масках. На всех уровнях идёт борьба, и в ней участвует А. С. Пушкин, борются с правдой о Пушкине, борются с Пушкиным, Пушкин сражается, – а значит Пушкин живой! Вот в чем значение великих. Ай да Пушкин! Ещё поборемся вместе!..А. С. Пушкина необходимо изучать не только в младших классах, но и очень серьёзно в старших классах и в университетах. Причём русскую литературу необходимо изучать вместе с историей России, а историю этого периода России вместе с комментариями и достижениями выдающихся русских мыслителей этого периода. И теперь, надеюсь, читателям понятно – почему, преследуя цель дебилизации, отупления нашего народа по концепции К. Поппера, либерал-демократы после “перестройки” так упорно сокращают в учебных программах литературу, особенно русскую.
По материалам Книги Романа Ключника. От Петра I до катастрофы 1917 г.
Фильм, о котором идёт речь в статье:
Карамзин, Николай Михайлович — историограф, род. 1 декабря 1766 г., ум. 22 мая 1826 г. Он принадлежал к дворянскому роду, ведущему свое происхождение от татарского мурзы, по имени Кара-Мурза. Отец его симбирский помещик, Михаил Егорович, служил в Оренбурге при И. И. Неплюеве и вышел в отставку капитаном; женат он был на Екатерине Петровне Пазухиной; вторым сыном, рожденным от этого брака, был Николай Михайлович. Родился он в селе Михайловке, ныне самарской губернии бузулукского уезда, и младенцем увезен был в село Знаменское, симбирской губернии и симбирского уезда. Матери он лишился очень рано и едва ее помнил, хотя и сохранил особое благоговение к ее памяти. В 1770 г. отец его женился во второй раз на тетке И. И. Дмитриева, о которой не сохранилось никаких сведений; мы знаем, что от нее у Михаила Егоровича было несколько детей, из которых с сестрою Марфою был дружен Николай Михайлович; но долго ли жила вторая жена М. Е. Карамзина, имела ли какое-либо влияние на пасынка, мы не знаем. Сведения о детстве Карамзина сохранились отчасти в записках И. И. Дмитриева, а частию (хотя и в романической форме, но с справедливою основою, что подтверждается собственными рассказами Карамзина близким людям) в повести: «Рыцарь нашего времени». В этой повести встречаем круг простодушных друзей и соседей Михаила Егоровича, отставных военных, образованных мало, но исполненных понятий чести, которые таким образом перешли к сыну от отца. Библиотека романов, оставшихся после матери, была первым чтением героя повести Леона, лишь только он выучился грамоте у дьячка. Погодин верно замечает, что если бы Карамзин не прочел этих романов в детстве, он не знал бы их даже по названию. Такое чтение развивало в мальчике мечтательность, зато романы эти своим хотя сентиментальным, но нравоучительным направлением укрепили в нем веру в непременное торжество добра. Впрочем он читал и не одни романы: по собственному его показанию, тогда же прочел он и Римскую историю (должно быть Ролленя). Религиозное чувство укрепилось в Карамзине странным случаем: раз во время прогулки с дядькою он встретил медведя; вдруг ударил гром и убил медведя. Припоминая этот случай, Карамзин говорил (1792 г.): «сей удар был основанием моей религии». В 1773 г., узнав о нападении на их деревню пугачевцев, Михаил Егорович уехал и тем спасся от погибели. На одиннадцатом году жизни Карамзина на него, как на хорошенького мальчика, обратила внимание соседка их, Пушкина (имя сообщает Сербинович на основании слов историографа) и начала воспитывать его по-светски: учить по-французски, баловать, приучать к светским приемам, ласкать. (Оба эти обстоятельства: и удар грома и соседка, вошли в повесть «Рыцарь нашего времени»). Влияние это продолжалось, кажется, не более года: отец, по вероятному соображению Л. И. Поливанова, испугался такого направления и, по совету своего соседа Теряева, отдал сына в Симбирск в пансион Фовеля, где он учился по-французски; не к тому ли времени относится показание Дмитриева, что по-немецки Карамзин учился в Симбирске у доктора, фамилии которого Дмитриев не сообщает, а хвалит кроткий и чистый его характер. В Симбирске Карамзин пробыл недолго и был, по совету того же Теряева, отвезен в Москву и отдан в пансион профессора Шадена. Это случилось после 1776 года, как можно догадаться по словам самого Карамзина, что в пансионе он следил за освободительною Американскою войною. Шаден, по свидетельству современников, был хороший, нравственный, образованный человек и умный преподаватель. В своих академических речах Шаден развивал многие из тех мыслей, которые впоследствии встречаем у Карамзина. Он является защитником семьи, требует от нее нравственности и образования, в котором религия должна занимать первое место. Религия, по его мнению, начало мудрости, без нее нет счастия. Из форм государственного устройства он предпочитал монархию, в которой давал видное место дворянству. Благородный, по его мнению, должен быть мужем добродетельным и мудрым, жертвовать всем общей пользе, поставлять величайшую награду в самой добродетели. Само собой разумеется, что он должен быть образован, чтобы с пользою служить отечеству. Подробностей о преподавании в пансионе мы к сожалению не имеем: знаем только, что здесь Карамзин основательно познакомился с немецким и французским языками, учился по-английски, кажется по-латыни, по-итальянски и по-гречески: сам Карамзин говорил в «Письмах путешественника», что он начинал учиться по-гречески; касательно латинского языка кажется достоверно свидетельство Тургенева, что он учился этому языку, несмотря на слова Петрова в письме к Карамзину: «хоть ты по-латыни и не учился»; из примечаний к «Истории Государства Российского» можно заключить, что он знал по-латыни. Из пансиона Карамзин вынес уважение к славному тогда немецкому моралисту Геллерту: по лекциям Геллерта Шаден преподавал нравоучение (этику) своим воспитанникам. В автобиографической записке Карамзина для митр. Евгения говорится, что он посещал в это время университетские лекции, но к сожалению неизвестно какие; впрочем Дмитриев свидетельствует, что они с Петровым слушали Шварца. По обычаю того времени Карамзин с колыбели был записан в военную службу, и потом по окончании курса в пансионе в 1781 г. явился в Преображенский полк и получил годовой отпуск; тогда, быть может, он и слушал лекции Шварца в Москве. В 1782 г. он поступил на действительную службу. В Петербурге он сблизился с И. И. Дмитриевым. С этих пор началась их дружба, продолжавшаяся без всяких недоразумений до смерти Карамзина. Дмитриев не был так богато одарен, как Карамзин, не был так широко образован, но он был человек умный, одержанный, с большим тактом, приятный собеседник. Письма Карамзина к Дмитриеву, с которым он почти так же откровенен, как с женою, — драгоценный материал для его биографии; жаль, что не сохранилось писем Дмитриева. Записки Дмитриева дают хотя любопытные, но слишком краткие сведения о Карамзине.
В эту пору молодые друзья постоянно видались и сообщали друг другу свои литературные опыты. Карамзин, по свидетельству Дмитриева, начал свою деятельность переводом «Разговора в царстве мертвых Марии Терезии с императрицей Елизаветой Петровной». За этот перевод получил он от книгопродавца Миллера экземпляр «Тома Джонса» в русском переводе («Томас Ионес»). Перевод этот не отыскан. Первым печатным трудом Карамзина был перевод идиллии Геснера: «Деревянная нога» (1783 г.). По смерти отца Карамзин вышел в отставку (уволен 1 января 1784 г.) и уехал на родину. В Симбирске он вел рассеянную светскую жизнь, как свидетельствует Дмитриев; но не одни развлечения занимали его здесь: из писем к нему Петрова видно, что он там много читал, перевел статью для «Детского чтения», издававшегося Новиковым («Разговор между отцом и детьми о кофе»), готовил возражения на мнение Вольтера о Шекспире, собирался переводить Шекспира. Петров, с которым Карамзин познакомился, вероятно, еще во время пребывания в пансионе Шадена, имел большое влияние на развитие его вкуса, так как он был человек очень начитанный. Карамзин очень любил его и в статье «Чувствительный и хладнокровный», писанной уже по смерти Петрова, представил под именем хладнокровного его характеристику. Дмитриев пишет: «Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой же угрюм, молчалив и подчас насмешлив; но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному, имели одинакую силу в уме, одинакую доброту в сердце». Из Симбирска уехал Карамзин летом 1785 г.: его уговорил возвратиться в Москву Н. П. Тургенев, тоже симбирский уроженец. Тургенев был масон и в Москве он сблизил Карамзина с кругом Новикова, в которому принадлежал Петров и в котором Карамзин уже был известен участием в «Детском чтения». В Москве Карамзин поселился вместе с Петровым у Меншиковой башни в доме, принадлежавшем «Дружескому Обществу». «Я как теперь вижу, — говорит Дмитриев — скромное жилище молодых словесников: оно разделено было тремя перегородками; в одной стоял на столике, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго перед приездом моим из Петербурга в Москву; а другая освящена была Иисусом на Кресте, под покрывалом черного крепа». Масонство могло с одной стороны привлекать к себе Карамзина: в Москве в то время оно проявляло себя благотворительною и просветительною деятельностью. Этими сторонами масонство, в лице Новикова, осталось навсегда памятным в русской истории; но и в самых воззрениях масонов было нечто сочувственное Карамзину: масонство являлось противодействием возрастающему в просвещенных классах Европы неверию, которое должно было отвращать от себя Карамзина по характеру его и по его воспитанию; но мистическая сторона масонства и таинственность масонских обрядов не могли правиться Карамзину, как он сам рассказывал Гречу, и потому перед отъездом своим за границу он заявил, что перестанет ходить в собрания масонов; расстались они друзьями, и после Карамзин является защитником Новикова. Вот почему, преследование, начавшееся позднее против масонов, его не коснулось: масоны сами заявили, что Карамзин не находится с ними в связи; но в материальном отношении он понес ущерб, ибо ручался по векселям Новикова, и к нему обратись по случаю ликвидации дел общества. В эти годы Карамзин очень много работал: участвовал в переводе Штурмовых «Размышлений о делах Божиих» (1786 г. — изданы позднее), участвовал в «Детском чтении» (1787—1789 гг.), где кроме переводов принадлежит ему, по основательной догадке А. Д. Галахова, повесть «Евгений и Юлия», напечатанная безымянно, — с этой повести следует вести начало чувствительных повестей; переводил в прозе Галлерову поэму: «О происхождении зла» (1786 г.), отличающуюся оптимизмом, к которому так склонен был Карамзин, и который был его постоянным воззрением (идиллический и сентиментальный характер этого произведения остановил на нем выбор Карамзина); переводил Шекспирова «Юлия Цезаря» (1787 г.), полагая таким образом основание знакомству русской публики и с этим великим поэтом. Уже и тогда Карамзин понимал неудовлетворительность французского классицизма. Потом он перевел Лессингову «Эмилию Галотти» (1786 г.), наконец писал стихотворения между ними особенно замечательно одно: «Поэзия» (1787 г.), в котором Карамзин исчисляет своих любимых поэтов и тем показывает, как широк был уже и тогда объем его чтений. Замечательно, что в одном письме к Дмитриеву (2 июля 1788 г.) он указывает на гекзаметр, как на размер, наиболее годный для эпической поэзии: его стало быть не перепугал пример «Телемахиды». В этих упражнениях развивались язык и слог Карамзина, которые скоро в «Письмах русского путешественника» так поразили всех. «Откуда взяли вы такой чудесный слог?» — спрашивал раз Ф. Н. Глинка Карамзина. — «Из камина», отвечал он. — «Как из камина?» — «Вот как: я переводил одно и то же раза по три и по прочтении бросал в камин, пока наконец доходил до того, что оставался довольным и пускал в свет». В эту пору жизни Карамзин, кроме Дмитриева и Петрова, был еще близок с А. М. Кутузовым, переводчиком «Мессиады» и Юнговых «Ночей», человеком умным, склонным к меланхолии, в чем он сходился с Карамзиным; тогда он был уполномоченным от московских масонов за границей, где и умер. Близок он был с Ленцем, немецким поэтом бурного периода, благодаря которому он более познакомился с английскою поэзией. Ленц умер в Москве, потеряв предварительно рассудок. В эту пору Карамзин вошел в переписку с знаменитым тогда Лафатером; письма его к швейцарскому мудрецу недавно отысканы и изданы в «Записках» Академии Наук (т. LXXIII). Всего же ближе был Карамзин с семейством Плещеевых: муж был председателем одной из палат в Москве, жена славилась своим умом и любезностью. К ним писал Карамзин из-за границы свои знаменитые письма; Плещеевой была посвящена впоследствии его «Аглая». Когда состояние Плещеевых пошатнулось, Карамзин не раз выручал их из затруднений. Для этого он в 1795 г. продал остальное имение братьям, торопил их высылкою денег, ездил по этому поводу в Симбирск; но никогда не напоминал Плещеевым об этом долге.
Весною 1789 г. Карамзину удалось исполнить свое сильное желание увидеть Европу. Он продал имение братьям и на эти деньги совершил поездку. За границей пробыл он 18 месяцев (с 18 мая 1789 г. по сентябрь 1790 г.). Ехал он через Курляндию в Германию, где останавливался в Кенигсберге, Берлине, Дрездене, Лейпциге, Веймаре и потом через Франкфурт и Страсбург приехал в Швейцарию. Здесь останавливался в Берне, Цюрихе, Женеве; ходил по горам. Оттуда отправился во Францию, посетил Лион, останавливался в Париже. Путешествие закончилось Лондоном. Из Англии он вернулся на родину морем. — Путешествие Карамзина было явлением необыкновенным. Ездили — как справедливо замечает Д. Н. Анучин — люди состоятельные более для прогулки и увеселения себя; ездили люди, готовящиеся к ученому званию, но те заняты были своею целью и не имели ни времени, ни средств знакомиться с окружающим обществом. Более мог видеть Фонвизин, но в своих письмах, часто остроумных, он останавливается (по замечанию того же автора) только на мрачных сторонах; к тому же они не были предназначены к печати. Карамзин рисует в своих письмах красоты природы, которые он научился ценить во время своего путешествия; прежде он любил только описания их у поэтов; рассказывает дорожные встречи и знакомства, описывает достопримечательности городов, а главное передает свои разговоры с замечательными людьми. Целью его путешествия было не изучение какой-либо науки, а наблюдение над чуждою для России жизнью: его широкое литературное образование дало ему средства и разговаривать с европейскими поэтами и учеными, и передать русской публике очерки их личностей. Современникам его изящное изложение давало возможность многое узнать и расширить свой умственный горизонт. Потомство в письмах его находит драгоценный материал для выяснения взглядов людей того времени. Еще недавно появился французский перевод этого произведения и вызвал статьи, указывающие его значение, как исторического материала. Карамзин интересуется более всего природой и умственным движением, политики касается мало; но видно, что он не одобряет французской революции. По своим взглядам он и не мог одобрять ее: он стоял за мирный прогресс; события его времени еще более укрепили его в этих воззрениях. Может быть и самое настроение правительства внушало Карамзину осторожность: известно, что и в том виде, в каком мы их знаем, последние части «Писем» появились только в 1804 г.; Карамзин мало следил за жизнью масс, — но она тогда еще не внушала такого интереса, как впоследствии; впрочем он не оставил без замечания и ее тяжелого положения. «Письма» не только познакомили русскую публику с мало еще известным ей миром европейской жизни, но и дали небывалый дотоле образец вполне изящного изложения. Я. К. Грот основательно доказал, что если Карамзин и имел предшественников в этом отношении, то ни один из них не выдерживал этого тона постоянно: рядом с изящною фразою встречается совершенно нескладная. Оттого Карамзин вызвал много подражателей и вопрос о «старом и новом слоге» возник по поводу его сочинений. — Чем же является Карамзин в своих письмах? Хотя он и в то время был пламенным патриотом, но твердо стоял за общечеловеческое просвещение: «все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами», говорит он. Глубоко уважая европейскую цивилизацию, Карамзин относился к ней критически: он высоко ставил Руссо, с которым сближали его и его чувствительность и любовь к природе; но он находил парадоксальным его рассуждение о вреде наук, указал недостатки в «Новой Элоизе» и конечно не мог сочувствовать его «Общественному договору». В политических своих убеждениях он стоял ближе к Вольтеру, желавшему реформ через посредство просвещенного правительства; в Вольтере он ценил также проповедника религиозной терпимости; но цинизм Вольтера и в особенности его грубые насмешки над религией не могли ему правиться. Знакомство с немецкою и английскою литературами спасло Карамзина от одностороннего увлечения французскою. Отдавая должное представителям французского классицизма, он ставил однако выше их Шекспира и немецких драматургов; но под влиянием французов, особенно Вольтера, он не понимал средних веков и слово «готическое» (даже в архитектуре) у него означало варварское; оттого и к Раблэ он относился недоверчиво. Любопытно, что в то время, когда большинство горячо верило в возможность пересоздать общество учреждениями, Карамзин смотрел совсем иначе: «не конституция, — говорит он в «Письмах», — а просвещение англичан есть истинный их палладиум. Всякие гражданские учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле. Не даром сказал Солон: «мое учреждение есть самое лучшее, но только для Афин». Впрочем всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно». В этих словах слышится будущий автор «Записки о древней и новой России» и «Истории Государства Российского».
В Петербурге Карамзин пробыл недолго. Здесь он через Дмитриева познакомился с Державиным. Следующий случай, сообщаемый Сербиновичем со слов самого Карамзина, характеризуют тогдашнее настроение: за столом у Державина Карамзин в споре выразил мнения, несогласные с общепринятыми тогда; жена Державина, толкнув его, дала ему понять, чтобы он выражался осторожнее. Несмотря на то, что под влиянием событий во Франции правительство начало относиться подозрительно к литературе, Карамзин решился в Москве издавать журнал, и в ноябре напечатал о нем объявление. Журнал назывался «Московский Журнал»; в объявлении Карамзин обещал помещать «все, что может нравиться людям, имеющим вкус», но заявлял, что в план его «не входят только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пиесы». И простое заглавие и скромное объявление были новостью посреди тогдашних вычурных названий журналов и широковещательных объявлений о них, примеры которых собраны Д. Н. Анучиным в статье «Столетие Писем русского путешественника», («Русская Мысль», 1891 г., №№ 7 и 8). В «Московском Журнале» помещались стихотворения Державина, Хераскова, Дмитриева, а главным образом сочинения самого Карамзина. Здесь печаталось в 1791 г. начало «Писем русского путешественника», «София» — любопытная попытка драмы из русской жизни во вкусе Коцебу: «Фрол Силин», идеализированное изображение русского крестьянина, основанное на детских воспоминаниях автора; несколько стихотворений Карамзина, несколько заметок о новых книгах, русских и иностранных и статьи о театре, из которых особенно замечательна статья о представлений «Эмилии Галотти» на Московской сцене. «Московский Журнал» выходил и в 1792 г.; в этом году появилось продолжение «Писем»; напечатана «Бедная Лиза», произведшая глубокое впечатление на современников; понравилась она, по верному заключению А. Д. Галахова, более своим сентиментальным направлением, чем внешнею обстановкою. В особенности слабо изображена героиня, в которой уже никак нельзя видеть крестьянки. Там же появилась «Наталья, боярская дочь», по мнению Л. И. Поливанова, произведение юмористическое и составляющее переход от «Душеньки» к «Руслану и Людмиле». С этим мнением едва ли можно согласиться вполне: если Карамзин и не был тогда противником реформы Петра, каким явился в «Записке о древней и новой России» и в «Истории Государства Российского», то все же простота старинной жизни имела для него свою прелесть и потому, если и встречаются юмористические черты в этой повести, то есть и доля сочувствия. В повести «Лиодор» находят черты автобиографические. Стихотворения Карамзина тоже помещались в 1792 г.; из них замечательно: «К Милости» — первый гражданский подвиг Карамзина, ибо оно появилось во время преследований масонов. Любопытно, что в этом году напечатаны были «Сцены из Саконталы», новое свидетельство широких литературных вкусов Карамзина. В литературе Карамзин встретил противников в «Зрителе» Крылова и Клушина в «Российском Магазине» Туманского. Явились и последователи: таким был появившийся журнал Подшивалова «Приятное и полезное препровождение времени». В 1793 г. журнал не возобновился. В послесловии к «Московскому Журналу» Карамзин указывает на срочность журнала, которая мешала строгому выбору статей, и на свое желание заняться трудом более прочным. Вместо журнала он принимался за сборник «Аглая»; указание на большой труд — намек, что он уже мечтал об истории. Едва ли это впрочем единственная причина прекращения журнала. Жаловаться на неуспех журнала было нельзя: успех был большой, ибо хотя в первый год было только 256 подписчиков, но на второй уже было 294, что тогда казалось большим успехом; о сочувствии публики свидетельствует и то, что в 1794 г. Карамзин собрал свои статьи из «Московского Журнала» под названием «Мои безделки», которые были перепечатаны в 1797 г. и снова в 1801 г. Наконец, в 1801 г. вышло 2-е издание всего журнала. Политические обстоятельства могли способствовать прекращению журнала, ибо хотя Карамзин и не подвергся опале, но слухи о ней носились в обществе. Погодин удивляется тому, что Екатерина не обратила внимания на Карамзина, но хотя невинность его была ясна, все же в глазах тогдашних правителей связи его с «Дружеским Обществом» кидали на него тень. В 1793 г. Карамзин лишился своего ближайшего друга: A. A. Петров умер в Петербурге. Горе свое Карамзин выразил в статье: «Цветок на гроб моего Агатона», так называл он Петрова. Статья эта помещена в первой книжке сборника «Аглая», изданного им зимою 1793 г. Именем Аглаи, одной из граций, Карамзин называл Плещееву. Вторая книжка «Аглаи», вышедшая в 1794 г., была ей посвящена. В первой книжке помещено было: «Что нужно автору», где выше всего ставится желание добра, любовь к человечеству; этими качествами Карамзин объясняет успех Руссо, опровержению мнений которого о вреде наук посвящена другая статья той же книжки: «Нечто о науках». Здесь же напечатан «Остров Борнгольм», привлекавший современников таинственностью содержания и нравившейся знаменитою тогда песнею: «Законы осуждают предмет моей любви»; «Письма русского путешественника» продолжаются в обеих книжках «Аглаи». Были в этом сборнике и чужие произведения. Большую часть 1793 и 1794 гг. Карамзин провел в имении друзей своих Плещеевых (в орловской губернии); осенью 1794 года вышла вторая Книжка «Аглаи». Из статей Карамзина, помещенных в этой книжке, особенно важна «Переписка Филалета и Мелодора». По остроумному замечанию А. Д. Галахова, Мелодор и Филалет это олицетворение Карамзина в двух разных настроениях: Мелодор — Карамзин, убоявшийся за успех просвещения, ввиду прискорбных явлений той эпохи, и усомнившийся в прогрессе; Филалет — это Карамзин последователь оптимизма, убежденный в том, что в мире Божием существует порядок, которого мы только не понимаем по слабости нашего разума. Здесь же напечатан изящный очерк: «Афинская жизнь» и начат»а сказка «Илья Муромец». Карамзин готовил третью книжку «Аглаи», но она не выходила. В 1795 г. он принял участие в «Московских Ведомостях» и помещал в них под названием «Смеси» мелкие статьи, большею частию переводные. Погодин справедливо называет эти статьи фельетоном. Вообще эти годы Карамзин работал довольно мало и предавался светским удовольствиям: ухаживал за женщинами, даже играл в карты. Погодин объясняет такой рассеянный образ жизни политическими обстоятельствами, подозревает даже, не было ли дано ему какого-либо предостережения, тем более, что ходили слухи об его ссылке. Может быть это предположение довольно основательно, возможно и то, что известная доля этих увлечений должна быть отнесена к молодости Карамзина: мы знаем, что и в Симбирске он увлекался выездами в свет. Карамзин сам не был доволен таким образом жизни: «Правда, бывали минуты, бывали часы, — писал он Дмитриеву, — в которые друг твой смешивался с толпою, но с моим ли сердцем можно любить свет». Полная бездеятельность, однако, была для него невозможна и потому в 1796 г. он перевел повесть Сталь «Мелина», издал повесть «Юлия» и первую книжку собрания чужих и своих стихотворений под названием «Аониды», которая является подражанием известному тогда «Almanach des Muses». Вторая книжка «Аонид» вышла в 1797 г., а третья в 1799 г. — 6 ноября 1796 г. скончалась Екатерина. Новое царствование пробудило в Карамзине надежды на лучшее время: деятели «Дружеского Общества» были возвращены из ссылки. Восшествие Павла приветствовал он одою, в которой прославляет в общих выражениях милость к Новикову, выражает надежду на то, что «святая искренность» может «к царю приближаться теперь». Скоро, однако, Карамзин убедился, что перемены к лучшему не произошло. Принимались меры, которые могли возбудить только недоразумения и неудовольствия. Друг Карамзина Дмитриев подвергся аресту по ложному доносу, и хотя он скоро освободился, но можно было видеть, чего ждать вперед. Литературой Карамзин продолжал заниматься, но здесь встретился с цензурою более строгой: так при издании «Писем путешественника» (1797 г.) ему можно было только перепечатать прежде помещенные в журналах, а последние две части остались в рукописи до 1804 г. По поводу «Писем» Карамзину грозила большая опасность: рижский цензор Туманский, недовольный Карамзиным за то, что он не помещал в «Московском Журнале» его стихов, получив немецкий перевод «Писем», нашел в них вольные мысли и сделал донос». Гр. Растопчин спас на этот раз Карамзина; он же спас его по случаю другого доноса, поданного императору (кажется от Кутузова, впоследствии московского попечителя). В таком положении Карамзину осталось только печатать «Аониды», издавать старые свои сочинения и заниматься переводами: так в 1798 г. издана была 2-я часть Мармонтелевых повестей; в том же году Карамзин начал издание «Пантеон иностранной литературы» (вышло от 1798 по 1803 гг. три тома; второе издание в 1818 г., третье в 1835 г.). В этом издании он думал помещать образцы древних и новых литераторов; но встретил такие цензурные затруднения, что писал Дмитриеву: «странное дело! у нас есть Академия, Университет, а литература под лавкою»; в другой раз, тоже по случаю цензурных затруднений, высказал он желание прекратить занятия литературою и прибавлял: «умирая авторски, восклицаю: да здравствует российская литература! «. «В этом восклицании, — замечает Соловьев в своей юбилейной речи, — высказалась глубокая непоколебимая вера в силу и живучесть народа, духу которого литература служит выражением». В гамбургском журнале «Spectateur du Nord» Kaрамзин написал известие о русской литературе. К этой же поре относятся и более важные его занятия: в записной его книжке встречаются указания, что он намерен читать историков древних и новых, очевидно потому, что готовился к историческому труду, который в неясной перспективе рисовался ему еще в Париже. В 1797 г. написан им «Разговор о счастии», заключающий в себе систематическое изложение оптимизма. Система эта, поддерживаемая европейскими писателями: Лейбницем, Шефтсбюри, Попом и осмеянная Вольтером в «Кандиде», весьма подходила к характеру и воспитанию Карамзина. Она состоит в том, что все на свете идет к лучшему, а зло есть нечто временное. Очень трудно сделать верное заключение о религиозных убеждениях Карамзина, но едва ли можно отрицать вероятность того, что по крайней мере в первую половину его жизни они заключались в чистом деизме, мирящемся с оптимистическими воззрениями, хотя с тою разницею от деизма Вольтера, что у представителей этого воззрения сильно верование в Промысл, которого у Вольтера нет; — таково мнение преосвященного Иннокентия (Борисова): в одном письме к Погодину он называет Карамзина «хорошим деистом». Разговор ведется между двумя лицами: Мелодором, отрицающим счастие на земле, и Филалетом, его признающим. Коротким выражением всего учения служат слова Филалета: «Возможное земное счастие состоит в действии врожденных склонностей, покорных рассудку — в нежном вкусе, обращенном на природу, в хорошем употреблении физических и душевных сил. Беспрестанное наслаждение так же невозможно, как беспрестанное движение; машину надо заводить для хода, а работа заводит душу для чувства новых удовольствий. Быть счастливым есть быть верным исполнителем естественных мудрых законов; а как они основаны на общем добре и противны злу, то быть счастливым есть…. быть добрым». В этих словах весь Карамзин. В эти годы задумывал он писать похвальные слова Петру и Ломоносову, набросал даже несколько мыслей для первого; но план этот не был исполнен. — 12-го марта; 1801 г. скончался император Павел, и 26-го марта Карамзин поздравлял брата с «новым любезным нашим императором». Восшествие на престол Александра Карамзин приветствовал одою, в которой сравнивает его восшествие с приходом весны, выражает надежду на великие дела, но желает мира, правды на суде, добрых нравов, образец которых должен представлять двор; при этом предостерегает от льстецов и указывает на доблести Пожарского и правдивость кн. Я. Долгорукова; в заключение изображает, что музы снимают с себя черный креп. Император благосклонно принял эту оду. В апреле 1801 г. Карамзин женился на E. H. Протасовой, сестре Плещеевой. Он прожил с ней только год, был очень счастлив, хотя постоянно тревожился ее плохим здоровьем. В марте 1802 г. она родила дочь Софию, а в апреле скончалась. Карамзин был неутешен. Все время ее болезни он однако принужден был работать (он тогда издавал «Вестник Европы») и делил время между своим кабинетом и комнатою больной. Отдыха он не имел. M. A. Дмитриев со слов дяди рассказывал, что раз утомленный он заснул на диване и видел странный сон: стоит он у вырытой могилы, а через нее подает ему руку дочь кн. Вяземского, Екатерина Андреевна, на которой он после женился; о ней он совсем не думал. Женился он второй раз в январе 1504 г. В 1801 г. Карамзин написал несколько кратких биографий для предпринятого П. П. Бекетовым издания: «Пантеон российских авторов» и в том же году он занят был составлением «Исторического похвального слова императрице Екатерине», которое было издано в 1802 г. Слово это принадлежит к числу замечательнейших сочинений Карамзина. На основании только воспоминаний и источников, всем доступных, он сумел составить полную и в значительной степени верную картину этой знаменитой эпохи. Он рассматривает сначала победы Екатерины, потом ее законы и наконец учреждения. Местами встречаются блестящие характеристики, местами веские рассуждения. Ясно высказываясь в пользу самодержавия, Карамзин ставит в заслуги Екатерине то, что «она уважала в подданном сан человека», что она провозгласила: «владыки земные должны властвовать для блага народов». Темную сторону царствования Екатерины он помянул потом в «Записке о древней и новой России». Здесь он ее не коснулся, вероятно, потому, что имел в виду показать новому правительству тот идеал, который носился перед ним самим. Державный обет императора «править народом по закону и сердцу бабки своей Екатерины Великой» давал Карамзину возможность указать, в чем же состояли деяния великой бабки. Александр одобрял «Слово». В 1802 г. Карамзин начал издавать новый журнал «Вестник Европы», который продолжался и в 1803 г. Цель журнала была способствовать нравственному образованию: «развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах с благом других людей». Главное содержание «Вестника Европы» было общественное: он сообщал два раза в месяц (журнал выходил в числе 24 номеров в год) политические обозрения, писанные самим издателем, в которых он делал характеристики и лиц и событий того времени, останавливаясь в особенности на делах тогдашнего первого консула (после императора) Бонапарта, но не оставляя без внимания и другие страны. Еще с большим вниманием занимался Карамзин вопросами чисто русскими, в особенности всем, что касалось просвещения; так любопытны его статьи: «О новом образовании народного просвещения в России», «О верном способе иметь в России довольно учителей»; в «Письме сельского жителя» высказал Карамзин свой взгляд на крестьянский вопрос: он желал только ограничения, а не уничтожения крепостного состояния. Он был вполне убежден в том, что помещик может быть благодетелем крестьян, и что освобожденные они предадутся лени и пьянству. В то время немногие думали иначе, а Карамзин, выходящий всегда из мысли о постепенном усовершенствовании и бывший свидетелем событий конца ХVIII века, по самому складу ума своего не мог быть защитником немедленного освобождения. «Времена — говорит он в этой статье — подвигают вперед разум народов, но тихо и медленно: беда законодателю облететь его! мудрый идет шаг за шагом и смотрит вокруг себя». Усилившаяся в то время подражательность и пристрастие к иноземному подверглись сильному осуждению от Карамзина, особенно в статье «О любви к отечеству и народной гордости», где он говорить: «мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве; а смирение в политике вредно. Кто сам себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут», Воспитание детей за границею вызвало его статью «Странность», поводом к которой было намерение основать близ Парижа пансион для русских юношей. Небрежность воспитания изображена в статье «Исповедь», имеющей форму признания богатого барича в пустоте и бесполезности светской жизни. Из литературных произведений Карамзина, помещенных в «Вестнике Европы», вспомним «Марфу Посадницу», напоминающую формою своею поэмы в прозе, любимые в ХVІІІ в., образцом которых послужил «Телемак». Приподнятый слог «Марфы Посадницы» очень нравился тогда и страницы из нее заучивались наизусть (напр. речь Холмского). Замечательно, что и здесь, как и в «Истории», Карамзин, понимая неизбежность падения Новгорода, оплакивал его. В «Вестнике» же была помещена автобиографическая повесть «Рыцарь нашего времени», о которой уже было говорено выше; было говорено также и о статье «Чувствительный и хладнокровный», характеризующей Карамзина и Петрова. Карамзин в это время уже прилежно занимался историей и поместил в своем журнале ряд исторических статей: «Исторические воспоминания и замечания по пути к Троице» — особенно любопытно в этой статье сочувствие Карамзина к Годунову и сомнение в его преступлении; «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут служить предметом художества»; «О тайной канцелярии», где доказывается, что Приказ тайных дел ц. Алексея Михайловича совсем не тайная канцелярия ХVІІІ ст.; «Известие о Марфе Посаднице» основано на житии св. Зосимы и показывает, что Карамзин и в это время уже знакомился с памятниками подобного рода; «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» — пересказ известий иностранцев, — стало быть и с ними знакомился уже Карамзин и т. д. Кроме своих сочинений Карамзин помещал и переводы (из Жанлис). В 1803 г. началось издание «Сочинений Карамзина» (окончено в 1804 г.; вышло 8 т.) В том же году появилось сочинение А. С. Шишкова: «Разсуждение о старом и новом слоге», подавшее повод к сильной полемике, в которой, впрочем, Карамзин не принял никакого участия. Из защитников нового слога замечательны Д. В. Дашков (впоследствии министр юстиции) и П. И. Макаров, редактор «Московского Меркурия», скоро умерший. Преобразование Карамзина состояло в том, что он ограничивал роль славянского языка, который, по определению Ломоносова, служил признаком высокого слога; употреблял иностранные слова, хотя и не более своих предшественников, и к тому же скоро стал многие из них заменять русскими, придавал словам новое значение (напр. потребность), ввел несколько новых слов (напр. общественность); вообще он стал писать языком, близким к разговорному. По мнению Я. К. Грота реформа Карамзина не есть подражание иностранным грамматикам, а основана на русском разговорном языке, причем этот язык обогащается в случае нужды на основании своих начал, и к заимствованиям, и то не противным духу языка, следует прибегать лишь в крайних случаях. Об изменениях в слоге верно выразился И. И. Дмитриев: » Карамзин начал писать языком, подходящим к разговорному языку образованного общества 70-х годов; в составлении периода начал употреблять возможную сжатость, притом воздерживается от частых союзов и местоимений; наконец соблюдать естественный порядок в словорасположении». Шишков защищал язык Ломоносовского периода, считая церковно-славянские слова только принадлежностью высокого слога, и для замены иностранных слов прибегал к странным нововведениям (напр. мокроступы). Плохие подражатели Карамзина придавали вероятность соображениям Шишкова. Сам же Карамзин прислушивался и к Шишкову и значительно изменил свой слог, хотя и остался верен принятым началам. — 28 сентября 1803 г. обратился он к М. Н. Муравьеву, попечителю Московского округа, с просьбою ходатайствовать о доставлений ему звания историографа и средств для совершения задуманного труда. 31 ноября того же года издан указ, которым исполняется это ходатайство. Тогда Карамзин, окончил издание «Вестника», отдался своему труду и, по выражению кн. Вяземского, «постригся в историки». Работать приходилось много: предшественником Карамзину были Татищев, история которого есть только свод летописей, и Щербатов, у которого есть умные замечания, есть стремление связать события, но мало критики и еще менее таланта. Исследовании было сделано немного; на первом месте стоит, конечно, знаменитый Шлецер; его «Нестор» только еще выходил, да и служить пособием мог только для начала Руси; плеяда исследователей, группировавшаяся около гр. Румянцева, составилась во время работ Карамзина; памятников было издано мало, да и не все изданы были хорошо. Вот почему Карамзину приходилось работать почти целый день и зимой в Москве и летом в Остафьеве, имении кн. Вяземского, куда он начал ездить летом, женясь на Екатерине Андреевне. Большая часть работы с тех пор, как он приступил к киевской эпохе, велась по рукописям: библиотеки и архивы были ему открыты с самого начала. Пока жив был Муравьев, он пользовался его содействием, а когда он умер (в 1808 г.). Карамзин обращался за содействием к Н. Н. Новосильцеву, президенту Академии. В Москве ему много помогал А. Ф. Малиновский, директор архива Министерства иностранных дел; комиссионером по доставлению книг и по сношениям с разными учеными служил ему А. И. Тургенев, умный, всем интересующийся, сын того Тургенева, который познакомил когда то Карамзина с Новиковым; он был давно знаком историографу. К Шлецеру историограф не обратился за советом, по вероятному предположению Погодина, потому, что опасался его высокомерия и сознавал недостаток своей ученой подготовки. Действительно, в начале работы, как некогда в Париже, ему казалось возможным «выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится, как из Нестора, Никона и пр. могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев». Углубившись в работу, он убедился, что недовольно раскрашивать то, что есть в источниках, а приходится глубже изучить источники, и вот полгода проходит на изучение всего, что написано о племенах, живших некогда в России, что составило содержание первой главы, Знатоки дивятся, как скоро он совладал с обширною литературой и представил изящное изложение всего существенного в науке его времени. Только проработав три года, он мог написать Муравьеву: «не боюсь ферулы Шлецеровой». Еще в 1806 г., описав времена языческие, что по первоначальному замыслу составляло два тома (впоследствии вышел один), он писал Муравьеву: «надеюсь в 3-м томе дойти до Батыя, а в 4-м до первого Ивана Васильевича; там останется написать еще тома два до Романовых». План этот, как известно, расширился. В 1808 г. он писал Новосильцову: «Надеюсь с помощью Божиею, года через три или четыре дойти до времени, когда воцарился у нас знаменитый дом Романовых». После этого он проработал еще шестнадцать лет и не дошел до Романовых. Во время работ радовался он новыми находками: Новосильцева извещал он в (1808 г.), что «найдены мною в Московской патриаршей и в монастырских библиотеках некоторые важные исторические рукописи XIII и XIV века, до ныне совершенно неизвестные. Смею утвердительно сказать, что я мог объяснить, не прибегая к догадкам и вымыслам, многое темное и при том достойное любопытства в нашей древней истории». В 1809 г. нашел он Волынскую летопись, сначала в Хлебниковском, а потом в Ипатском списке, и на основании ее много переделал в своем изложении. В конце 1809 г. Государь, бывший в Москве, сказал на бале Карамзину несколько приветливых слов: тогда в первый раз он представился Государю. Тогда же был он представлен в. кн. Екатерине Павловне (кажется Растопчиным, родственником Плещеевых), был принят благосклонно и получил приглашение приехать в Тверь, где супруг ее, принц Ольденбургский, был генерал-губернатором. В Твери Карамзин читал отрывки из Истории в присутствии в. кн. Константина Павловича; тогда же заочно узнала его вдовствующая Императрица; с этих пор начинается ее благоволение к нему. С этих пор началась его переписка с Великою Княгинею, теперь уже изданная. Отношения были с ее стороны самые благосклонные, а с его — самые непринужденные. Альбом выписок мыслей разных авторов, составленный для Великой Княгини Карамзиным, чрезвычайно для него характеристичный, напечатан в «Летописях Русской Литературы» Н. С. Тихонравова.
Когда Государь в 1810 г. пожаловал Карамзину орден Св. Владимира 3 степени, вероятно, исходатайствованный Дмитриевым, бывшим тогда министром юстиции, Кутузов, только что назначенный попечителем, послал министру гр. Разумовскому донос на Карамзина, оставшийся впрочем без последствий. Любопытно, что в то время было в виду назначить Карамзина или министром, или попечителем. Первому плану воспрепятствовал Сперанский, указав на малый чин Карамзина; а от второго назначения отрекся, кажется, сам историограф. Около этого времени приглашали его профессором в Харьков, но Карамзин также отказался. В третье свое посещение Твери Карамзин читал отрывки из своей Истории (о Куликовской битве) в присутствии Государя, которому тогда же представил «Записку о древней и новой России». Государь был к нему очень милостив, но, прочитав»Записку», простился с ним холодно; впрочем впоследствии милость опять возвратилась. «Записка» — высший гражданский подвиг, на который немногие бы решились. Очертив вкратце древнюю Русь, автор обращается к Петру Великому. Воздав должное его гению и его намерениям, он говорит, что он «мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить ум Россиян без вреда для их гражданских добродетелей». В «Истории» он ясно дает преимущество великому князю Иоанну Васильевичу перед Петром, как государю, не изменявшему обычаев. Строго осудив XVIII в., он указывает и на темные стороны Екатерины II: упадок нравов, более блеска, чем основательности в учреждениях, воспитание на чужеземный лад. Царствование Павла тоже не оставлено им без осуждения. Переходя к своему времени, Карамзин осуждает поспешность реформ, заимствование законов, неудачи во внешней политике. Можно не соглашаться с выводами Карамзина, можно опровергать его мнение о крепостном праве, находить, что министерства лучше коллегий т. д., но нельзя не признать, что Карамзин остался верен своему эпиграфу: «несть льсти на языце моем». Новые критики строго осуждают эту «Записку» и находят даже в ней одну из причин падения Сперанского, что конечно несправедливо. Если бы даже «Записка» Карамзина и навела Государя на мысли, неблагоприятные Сперанскому, чего, кажется, не было, то и тогда можно сказать, что Карамзин осуждал систему, а не человека, и стало быть не мог подать повод к ссылке его. В 1812 г. Государь думал даже назначить Карамзина государственным секретарем, но предпочел Шишкова. Карамзин оставил Москву только накануне вступления французов (1 сентября), поехал в Ярославль, а оттуда в Нижний Новгород. В Москву он возвратился в июне 1813 г. В Нижнем он читал, проводил свободное время в кругу московских знакомых; в Нижнем жила тогда вдова M. H. Myравьева, Екатерина Федоровна, которую Карамзин очень уважал; при ней некоторое время находился родственник ее мужа, поэт Батюшков, там же жил В. Л. Пушкин. В Нижнем Карамзин потерял сына. В Москве между тем сгорела его библиотека, кроме тех книг и рукописей, которые были в Остафьеве. Возвратясь в Остафьево, Карамзин писал Дмитриеву: «я плакал дорогой, плакал и здесь; Москвы нет: остался только уголок ее. Не одни домы сгорели, самая нравственность людей изменилась в худое, как уверяют. Заметно ожесточение; видна и дерзость, какой прежде не бывало». Императрица Мария Феодоровна предлагала Карамзину поселиться в Павловске. Карамзин, получив известие об этом от Дмитриева, написал благодарственное письмо и получил милостивый собственноручный ответ. В Петербург, впрочем, Карамзин решился ехать не прежде того времени, когда ему можно будет приняться за издание «Истории». В то время он писал царствование Василия Иоанновича. Окончание войны в 1814 г. побудило его написать стихотворение: «Освобождение Европы и слава Александра». В предисловии к нему он изъявлял намерение описать происшествия той эпохи. Мысль эту очень одобряла вдовствующая императрица в своих письмах (сохранились наброски мыслей для этого не осуществившегося произведения). В 1814 г. историограф уже приступает к Грозному. «Мысленно смотрю на Грозного: какой славный характер дли исторической живописи! — писал он Тургеневу, — жаль если выдам Историю без сего любопытного царствования! тогда она будет, как павлин без хвоста». Слова, чрезвычайно важные для характеристики художественного взгляда Карамзина на историю. Тогдашние занятия Карамзина хорошо рисуются в его письмах к Дмитриеву, брату, Тургеневу и в отрывках из записок К. Ф. Калайдовича, который в ту пору часто посещал Карамзина и помогал его розысканиям. В начале 1816 г., окончив 8-й том и написав предисловие и посвящение, Карамзин собрался в Петербург поднести свой труд Государю и просить средств на издание. Императрица Мария Федоровна давно уже звала его в Петербург: «Еще прошло лето, — писала она в сентябре 1815 г., — и все еще Розовый павильон (в Павловске) известен вам только по имени и все еще письменно только с вами беседую». 2 февраля 1816 г. Карамзин приехал в Петербург, где прожил до конца марта (выехал после 21 числа). Письма его к жене представляют подробное и любопытное известие об этой поездке. В Петербурге его приняли очень хорошо: из литераторов он особенно дорожил «Арзамасцами», членами литературного общества, основанного для противодействия «Беседе любителей Русского слова» и «Российской Академии», с председателем которой Шишковым тогда он познакомился. Арзамасцы, по большей части москвичи, старые знакомые и, как Жуковский, даже друзья Карамзина, встретили его радушно. Все, с кем он встречался, были к нему приветливы; гр. Румянцев, видя, что печатание на казенный счет может не состояться, предлагал деньги на издание; Карамзин отказался, считая помощь частного лица не согласною с званием историографа. Обе Императрицы и другие члены Царской фамилии были чрезвычайно милостивы к Карамзину; обещали, что Государь его скоро примет; но прием откладывался все далее и далее. Долго Карамзин не собрался сделать визит Аракчееву, несмотря на то, что, как ему достоверно было известно, тот желал его визита. Наконец собрался и на другой день был призван к Государю (16 марта), который обнял его, разговаривал с ним более часа и назначил ему на издание «Истории» 60000 руб., с тем, чтобы издавалась она в Петербурге; весною и летом отводилась ему дача в Царском Селе; но — что всего важнее — ему предоставлялось право быть искренним. В мае Карамзин совсем переселился из Москвы и прямо переехал на дачу в Царское Село. С тех пор он жил постоянно летом в Китайской деревне Царского Села, а зимой в Петербурге. Здесь все более и более усиливалась его близость к Царской фамилии. Государь часто приглашал его к себе; много разговаривал с ним при прогулках по парку (аллеи которого звал «зеленым кабинетом»), принял на себя цензуру «Истории», постоянно читал ее в рукописи, выслушивал и исполнял просьбы Карамзина за разных лиц, сообщал ему даже важные дела (Карамзин в числе немногих знал об отречении Цесаревича); Карамзин, не обинуясь выражал ему свои мнения; так в 1819 г. он представил ему свою знаменитую записку: «Мнения русского гражданина», когда узнал о намерении присоединить к Царству Польскому западные губернии. Государь, хотя и не совсем доволен был этим мнением, но сохранил благосклонность к автору. Любопытны слова Карамзина в записке, оставленной для детей: «я всегда был чистосердечен, Он был терпелив, притом любезен неизъяснимо, не требовал моих советов, однако ж слушал их, хотя им большею частью не следовал». Мы знаем, что Карамзин не одобрял ни мистицизма кн.. Голицына, ни деятельности Шишкова, Магницкого, ни — вероятно — военных поселений, — мы видели, что он с трудом собрался сделать визит Аракчееву. Государь изредка сам заходил на его дачу; сохранились его чрезвычайно милостивые письма. Сохранились также письма обеих Императриц; задушевные письма императрицы Елизаветы Алексеевны чрезвычайно хороши; особенно трогательно ее последнее письмо, писанное по кончине Императора; о письмах в. кн. Екатерины Павловны, впоследствии королевы Виртембергской, кончину которой пришлось оплакивать Карамзину, уже было упомянуто. Письма вдовствующей Императрицы известны до сих пор только в извлечениях; для императрицы Елизаветы Алекеевны Карамзин составил альбом, до сих пор еще не изданный.
Из писем Карамзина и из рассказов, собранных в книге Погодина, видно, как он проводил свое время: утром он работал, ездил верхом; вечера проводил в семействе или за чтением литературных произведений (он особенно любил романы Вальтер Скотта) или в беседе с друзьями. Кроме арзамасцев, гр. Румянцева и E Ф. Муравьевой, Карамзин в это время особенно сблизился с гр. Каподистрией. Выезжал он редко и более всего к особам Царской Фамилии. Кроме «Истории» в это время он написал только (1817 г.) «Записку о Московских достопамятностях» для императрицы Марии Феодоровны, которую напечатали без его ведома и которая возбудила едкую, но несправедливую критику Каченовского; да еще напечатана была речь, произнесенная им в Российской Академии, когда он был выбран ее членом (1818 г.). Эта любопытная речь заключает в себе косвенный ответ на филологические мнения президента Академии Шишкова, выразившиеся и в действовавшем тогда уставе Академии.
28 января 1818 г. Карамзин поднес Государю 8 томов «Истории», которые печатались медленно в двух типографиях. Напечатано было 3000 экземпляров и все издание разошлось в 25 дней. Потребовалось второе, которое принял на себя книгопродавец Сленин (издание это заключает в себе одиннадцать томов и выходило в 1819—1824 г.; двенадцатый том вышел уже под редакцией Блудова в 1829 г.). История была переведена еще при жизни Карамзина на французский, немецкий, польский и итальянский языки. Ее встретили сочувственными рецензиями Герен, Добровский, Берне, Дону и некоторые другие французские критики. В России М. Ф. Орлов и Каченовский разобрали предисловие; Арцыбашев, Погодин, Полевой, Ходаковский сделал несколько частных замечаний. Критика Арцыбашева, весьма придирчивая, на первые томы «Истории Государства Российского» появилась в «Казанском Вестнике» 1822 и 1823 гг., но обратила на себя внимание после перепечатки в «Московском Вестнике»; были его заметки и в «Вестнике Европы»; Булгарин разобрал томы 10 и 11, и сам наделал промахов; H. M. Муравьев, декабрист, написал опровержение общего взгляда Карамзина с либеральной точки зрения; эта рецензия напечатана только Погодиным; молодой тогда Пушкин встретил «Историю» двумя эпиграммами. Первую серьезную критику поместил Лелевель в «Северном Архиве» 1822, 1823 и 1824 гг. (критика Полевого появилась в 1829 г.). — Цель своей книги Карамзин хорошо охарактеризовал в письме к императрице Елизавете Алексеевне: «я писал с любовью к отечеству, ко благу людей в гражданском обществе и к святым уставам нравственности». «История Государства Российского» произведение необыкновенного трудолюбия, пламенного патриотизма, высокого нравственного чувства и мощного художественного таланта. Карамзин собрал сколько мог источников, между которыми оказывается много до него неизвестных, сделал из них выписки в примечаниях, заменявших самые источники пока они не были напечатаны, а некоторые и до сих пор общедоступны только в примечаниях Карамзина. Не оставил он без внимания ни памятников словесности, ни памятников вещественных. Собранные памятники он изучил тщательно и сделал много верных критических замечаний о подложности некоторых из них. Любя хорошее везде, Карамзин любил его преимущественно в России: «Чувство: «мы», «наше», говорит он — оживляет повествование, и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке, так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть». «Если нет гражданина, нет человека, — писал он к Тургеневу, — есть только двуножные животные с брюхом». Патриотическое настроение Карамзина проходит через всю историю. Не менее заметно и высокое нравственное чувство: он строго судит то, что считает дурным, восхищается всем добрым и, сознавая необходимость победы, не укоряет побежденных. Он ненавидит только зло. Если иногда к людям былого времени он применяет мерку своего века, то тоже делали все историки поры его образования, на которых он вырос; некоторая доля сентиментальности, сказавшаяся в том, что он ищет чувствительности в князьях древней Руси — тоже дань времени. Как художник, Карамзин представил яркие очерки характеров, умел так расположить материал, что обозрение его доступно всякому: нигде он не сбился и все расставил на своем месте. Слог его «Истории» может иногда казаться искусственным, но зато как мелодично течение его речи, как кстати он пользуется летописными словами. Самая искусственность тогда считалась необходимою: о предметах важных следовало говорить иначе, чем об обыкновенных. В «Истории» Карамзина есть еще особенность: в предисловии он сказал: «история есть священная книга царей и народов»; исходя из этой мысли, он считал необходимым выводить из прошедшего поучения для настоящего: оттого он ставит в. кн. Иоанна Васильевича выше Петра за то, что он не изменял обычаев, — косвенное поучение для подражательности его времени. Останавливаясь на способе составления Царского Судебника, он как бы осуждает снова работы законодательной комиссии Сперанского. Можно еще прибавить, что до сих пор книга Карамзина должна была бы служить поучительным чтением для юношества, и нельзя не пожалеть о том, что ее читают мало и даже в школах изучают недостаточно. На ней выросло не одно поколение, и конечно никто не пожалел о том. В 1825 г. Карамзина, занятого сочинением 12 тома «Истории», постигло большое горе: 19 ноября скончался император Александр. Карамзин написал задушевное письмо к императрице Елизавете Алексеевне, которая прислала ему трогательный ответ; ее он тоже больше не видал. Сам он проводил все эти тяжелые дни во дворце, между прочим и прискорбный день 14 декабря. Новый Император поручил ему вместе со Сперанским составить манифест. В своих разговорах с молодым Государем и его матерью он передавал свои мысли и между прочим раз произнес осуждение некоторым мерам прошлого. » Пощадите сердце матери, Николай Михайлович!» воскликнула императрица Мария Феодоровна. «Ваше Величество, — отвечал Карамзин, — я говорю не только матери Государя, который скончался, но и матери Государя, который готовится царствовать». В январе 1826 г. Карамзин заболел: у него началась чахотка. Медики нашли нужным послать его в Италию, и он письменно просил Государя назначить его агентом во Флоренцию, где, как он слышал, открывается вакансия. Государь ответил, что хотя вакансии во Флоренции и нет, «но Российскому историографу не нужно подобного предлога, дабы иметь способ там жить свободно и заниматься своим делом, которое, без лести, кажется, стоит дипломатической корреспонденции, особенно флорентийской». Для проезда его был снаряжен фрегат, Карамзин деятельно готовился к поездке. В мае переехал он в Таврический дворец, чтобы подышать чистым воздухом до отъезда. Здоровье его, однако, все слабело, и друзья его, особенно Жуковский, начали хлопотать об обеспечении его семейства; хлопоты увенчались полным успехом: Государь назначил ему пенсию по 50000 pуб. в год, которые после его смерти должны перейти нераздельно к его семейству. В рескрипте, сопровождавшем эту милость, было написано: «Александр сказал вам: Русский народ достоин знать свою историю. История, вами написанная, достойна Русского народа». Императрица Мария Феодоровна лично посетила Карамзина. 22 мая он скончался.
Карамзин был не только великий писатель, но и благороднейший человек. «Жить — писал он Тургеневу — есть не писать историю, не писать трагедию, или комедию, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику: все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, не исключая и моих восьми или девяти томов». Однажды он писал к императрице Елизавете Алексеевне, что желал бы вписать в ее альбом к числу русских пословиц: «век живи, век учись… жить!». «Она всем известна, — прибавляет он, — но без окончательного слова, которое важно и найдено мной недавно в одной древней рукописи». Сам он умел себя воспитывать: мы знаем, как рано он отказался от увлечений молодости, которым когда-то предавался, хотя, впрочем, довольно умеренно; он сумел из светского человека и литератора сделаться ученым и дойти до того, что «ферулы Шлецера более не боялся». Никогда не отвечая на критики, он умел пользоваться верными замечаниями: слог его много изменился под влиянием критики Шишкова и здесь, как и везде, он мог быстро отделить верное от неверного. Не отвечая критикам, не обращая внимания на своих врагов, он, однако, никогда не делался их врагом: он никому не мстил. Умея повсюду сохранять свою независимость, он желал, чтобы и другие знали это. Когда раз А. С. Пушкин сказал ему в споре: «и так, вы рабство предпочитаете свободе», он очень огорчился и заметил: «Вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузов не говорили». К друзьям своим он сохранял неизменную привязанность, — вспомним Петрова, Дмитриева; к посторонним он был сострадателен, помогал бедным, готов был ходатайствовать, когда было нужно, перед Государем. Чувствительность Карамзина, которая по странности для нашего времени ее формы, кажется иногда искусственною, была действительным свойством его характера, несмотря на сдержанность, которую он выработал в себе в продолжении жизни. В обществе он был очень приятен: «не было человека обходительнее и добрее Карамзина в обращении» — говорит М. А. Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти»; — голос красноречивейшего нашего писателя был громок и благозвучен. Он говорил с необыкновенною ясностью; спорил горячо, но логически, и никогда не сердился на противоречия». Таким является Карамзин во всех рассказах современников. Словом, более изящного и более мерного человека трудно сыскать.
Сочинения Карамзина имели 5 изданий (1803—1804; 1814; 1820; 1834—1835 и 1848); все неполны, а последнее даже неисправно. Лучше всех Л. И. Поливанова: «Избр. соч. Карамзина», ч. 1. М. 1884 г., но оно неполно и не окончено. В 1862 г. вышла первая часть «Неизд. соч. и переп. H. M. Карамзина», но вторая не выходила. «Зап. о древн. и нов. России» напечатана в «Русск. Арх.» 1870 г. «Ист. Гос. Росс.» имела 6 изданий (1—1818 г. в 8 т., 2—1819—1829 г. 12 т.; 3—1830—31; 4—1833—1835; 5—1842—1843, почитаемое лучшим; при нем, как и при втором, строевский «Ключ», 6—1848); в 1892 г. напечатано 7-е издание в приложении к журналу «Север»; издание «Дешевой Библиотеки» совсем без примечаний. Переводы Карамзина собраны в одно издание раз и то не вполне (1834—1835 г. в 9 т.). Переписка Карамзина напечатана частью в отдельных сборниках: «Письма к Дмитриеву», СПб. 1866 г., «Письма к Малиновскому», М. 1860 г., частью в журналах: «Москвитянин», «Атеней», «Библиогр. Зап.», «Русск. Арх.», «Записки Акад. Наук», т. LXXIII, «Сборник II отдел. Акад. Наук» и др., частью в издании «Неизд. соч. и переписка H. M. Карамзина», частью в труде Погодина; многие еще не изданы. Лучшая биография Карамзина составлена Погодиным: «Н. M. Карамзин», M. 1866 г. 2 т. (рецензия на нее А. Д. Галахова в «Журн. Мин. Нар. Пр.», 1867, № 1). Обстоятельной оценки Карамзина со всех сторон пока еще не имеем, только «История» подробно, хотя быть может и чересчур строго, разобрана Соловьевым («Отеч. Зап.» 1853—1856 г.г.); еще строже к ней П. Н. Милюков (в статье «Главные течения в русской историографии» — «Русская Мысль», 1895 г.) Некоторые эпизоды его жизни и деятельности изучены в статьях А. Д. Галахова(в «Совр.», «Отеч. Зап » и «Вестн. Евр.»), Н. С. Тихонравова (в «Русск. Вестн.», об отношениях его к масонам); о языке Карамзина имеем подробное исследование Я. К. Грота в «Филолог. разыск.» и Ф. И. Буслаева — «О преподав. отеч. языка». Общие характеристики, хотя и не подробные, в «Ист. русск. слов.» А. Д. Галахова, в брошюре Н. Л. Лавровского, «Карамзин и его лит. деятельность», в речи Я. К. Грота на юбилее 1866 г., в замечаниях Белинского, рассеянных по разным статьям, в книге К. Бестужева-Рюмина «Биографии и характеристики»; в сочинении А. Н. Пыпина «Общ. движ. при Александре I» строгое осуждение направления Карамзина. «Письма Русск. путеш.» оценены в статьях Ф. И. Буслаева («Москов. Унив. Изв.», 1867 г. — перепечат. в издании «Писем» в «Дешев. Библиот.») и Д. Н. Анучина («Русск. Мысль», 1891). С. И. Пономарев поместил в 36-м томе «Сборн. Отд. русск. языка и словесн. Имп. Ак. Наук» «Материалы для библиографии литер. о Карамзине», заключающие в себе перечень его сочинений, переводов и писем, переводов его сочинений и статей о них.
Когда в 1704 году вышел французский перевод Сказок «Тысячи одной ночи» Галлана (Les Mille et une Nuit. Contes Arabes traduits en francois par Mr. Galland), это было, в известном смысле, целое откровение. Многие из их сюжетов были знакомы в Европе и ранее; струя восточных сказаний глубоко проникла в средневековую фантазию, дала содержание тому или другому эпизоду романа, отозвалась в народной поэзии; в XVIII веке все это или было забыто, или ожидало нового признания. Перро (Contes de ma mere l’oye, 1697 г.) только что ввел в оборот народную сказку, увлек свежестью ее содержания, своим наивным, несколько деланным стилем; но его новшество вызвало эфемерный литературный род, быстро истощившийся в вычурности, и не принесло обновления: эти сказки отзывались и детской и салоном; к их фантастическим образам привыкли сызмала, а в романе этот элемент иссяк со времени Амадисов[2], и благодетельные феи и злые волшебники утратили свой поэтический чекан. Надо было обновить его, и сказки Галлана сделали свое дело, открыв неизведанные источники фантазии. «Я перевел с арабского несколько сказок, пишет он Хюэту от 25 февраля 1701 года: они не уступят тем волшебным сказкам (contes des Fees), которые в последние годы появлялись в таком изобилии, что, кажется, всем наконец приелись». И вот перед читателем открылся особый мир, знакомый и незнакомый вместе, фантастический и реальный; те же образы, что и в народной сказке, но окутанные теплом и ароматами востока; вместо тридесятого государства и банальных декораций romans d’avantures — настоящий Восток, с обыденными подробностями его жизни, мелочами его interieur и тайнами гарема. Те же феи и волшебники, и джинны и окаменелые города, но все в грандиозных размерах, перерастающих воображение и вместе мирящихся с реальностью; миры демонов и людей так глубоко слились, что между ними нельзя провести границ: каждый шаг в области действительности может увлечь вас к магнитной горе, у которой погибнет ваш корабль, или во власть демона-великана, когда-то заключенного в медный сосуд пророком Соломоном. И эта чресполосица фантастического и реального не только не изумляет вас, а кажется естественной: так просто вращаются в ней действующие лица, так внимательно и серьезно слушает их невероятные россказни Гарун ар-Рашид, закутанную фигуру которого с восточными вдумчивыми глазами мы привыкли встречать на улицах Багдада, в сумерках, когда мир демонов любовно или враждебно спускается на землю и ткутся наяву пестрые сказки, которые Шехеразада расскажет потом Шахрияру. Но не Шахрияр их настоящий слушатель, а Гарун, средний слушатель, стоящий за многих, точно хор той человеческой и демонической трагикомедии, которую мы зовем Сказками «Тысячи одной ночи».
И почему бы не быть тесному общению меледу людьми и духами, когда и те и другие одинаково подвластны силе рока и любви: двум соподчиненным друг другу силам, вносящим идеальное единство в вереницу разнообразных приключений? Напомним рассказ, служащий введением к сказкам: два царя-брата Шахрияр и Шахземан (или Шахзенан) убедились в неверности своих жен; Шахрияр поражен: «куда девались стыд и совесть», говорит он и предлагает брату бросить этот постыдный свет, полный лжи и грязи, и уйти куда-нибудь в далекую, чужую сторону, чтобы там похоронить свое горе и скрыть позор. Брат согласен, но лишь под условием, чтобы он немедленно вернулся домой, если встретит человека еще несчастнее их обоих. Они идут; первая их встреча — с чудовищным, черным демоном-великаном; он вышел из моря, на голове у него стеклянный ларец; сев под дерево, на которое из страха укрылись братья, он вынимает из ларца красавицу-жену. Обласкав ее нежными словами, он кладет ей на колени голову и засыпает; красавица, завидев на дереве двух прохожих, манит их к себе: пусть сойдут и исполнят ее желание, иначе она разбудит мужа. Братья поневоле становятся участниками ее неверности и убеждаются, что могучий гений во сто раз несчастнее их обоих, что верность женщины не приобретается даже чарами, и никакая сила в мире не преодолеет ее хитрости. Шахрияр возвращается домой, казнит изменницу жену, собственной рукой отрубив головы всем жительницам гарема; с тех пор он положил, чтобы ни одна из его жен не переживала брачной ночи.
Известно, как Шехеразада своими рассказами увлекла султана к отмене этого бесчеловечного закона. Что это за рассказы? Фантастические приключения и повести о «злой жене», сказки на тему, что от судьбы не уйти, и легенды о превращениях, романтические увлечения с разлукой и признанием в конце, бойкие фацеции; рядом с мрачным образом демона-великана — рельефно очерченный тип болтуна цирюльника. Но преобладающей темой является — любовь во всех ее проявлениях. Шахрияр может снова успокоиться; он один из многих. Шопенгауэр как-то попытался определить идеальное значение «Декамерона»: он представился ему гигантской шуткой гения человеческого рода, забавляющегося разрушением всех общественных преград и приличий, которые противятся соединению двух любовников и все-таки не могут остановить гения в его постоянных усилиях к созданию новых поколений. То же, и с большим правом, можно бы сказать о Сказках «Тысячи одной ночи». Любовь в них действительно фаталистическая, в которой почти без остатка исчезает личный подвиг, поскольку он сознательный. Влюбляются друг в друга, потому что иначе нельзя: он видел ее на одно мгновение, и этого довольно, он будет искать ее во что бы то ни стало, среди препятствий и тревог, пока случай или участие гения, волшебника, или доля не сведут их и не разведут снова. Героизма нет, а есть роковая выносливость в виду цели, поставленной природой; ее не обойти. Оттого увлечения не готовятся, а нисходят внезапно: она красавица, он красив; красота Бедраддина производит на всех чарующее действие: у прохожих, встречающихся с ним по дороге, невольно вырываются возгласы восторга, многие останавливаются и посылают ему вслед свои благословения. А красавица так говорит о чарах своего милого[3]: «Клянусь благоуханием его ресниц, и его стройной талией, стрелами, которые мечет его волшебный взгляд, его нежными чреслами и ясными, проницательными глазами, его белым челом и черными кудрями, его выгнутыми повелительными бровями, что сгоняют тени с моих очей, тогда как их «да» или «нет» держат меня постоянно между радостью и отчаянием». Декорацией такой физиологически понятной красоте служит роскошный пейзаж Востока, то жгучий, то цветущий, полный чарующих звуков, отголоски которых передались и в текст «Тысячи одной ночи» в виде лирических intermezzo, перемежающих рассказ. Клятва красою милого принадлежит к таким лирическим партиям.
Таково впечатление Сказок «Тысячи одной ночи» и, прибавим от себя, особливо в переводе Галлана. Галлан был слишком хорошим рассказчиком, чтобы удовлетворить требованиям филологически точного перевода. Он иногда пересказывал, а не переводил. На эту сторону дела уже давно обратил внимание Коссэн де Персеваль[4]; позднейшие, более точные переводы, особливо Пэйна и Бэртона[5], могли лишь укрепить это убеждение, пока недавние работы над источниками Галлана не сняли с него большую часть тяготевших на нем подозрений. Изменения Галлана были стилистические и содержательные. Первые объясняются не только особенностями текстов, бывших в его распоряжении, но и литературными преданиями французского XVIII века, определившими известные формы стиля, и отсутствием того критерия, который побуждает нас в настоящее время записать народную сказку во всей неприкосновенности ее диалекта, оборотов и недомолвок, тогда как Гриммы и Караджич и Ленрот еще позволяли себе объединять в один текст несколько слышанных ими экземпляров той же сказки или песни. Если и на Востоке серьезные шейхи и ученые люди относились с пренебрежением к такому литературному продукту, как Сказки «Тысячи одной ночи», то во Франции начала XVIII века тем естественнее представляется попытка поднять их занимательность качествами изложения, что «сказка» не была признанным литературным родом, а свежим материалом для стилиста. Слог Галлана, ровный и прозрачный, плавный и текучий, как сказка и самая жизнь Востока, как раз пришелся к делу: он передает впечатление той и другой. Это и сделало его перевод, и еще сделает надолго классическим образцом сказочного стиля.
Изменения по содержанию, в которых обвиняли Галлана, касаются двух сторон дела. Арабский подлинник Сказок «Тысячи одной ночи» представляет много бытовых подробностей, характеризующих такие нравы и привычки восточного человека, которые могут интересовать специалиста-этнографа, но мало пригодны для исследователя сказочных мотивов и неприятно поразили бы обычного, среднего читателя. Пэйн и особливо Бэртон не погнушались сохранить в своих переводах такие черты быта, а Бэртон обставил их нарочито-ученым комментарием; но Пэйн по крайней мере счелся с чистоплотностью среднего читателя, ограничив свое издание 500 экземплярами, назначенными для частной циркуляции. Нет сомнения, указанные переводы ближе к дошедшему до нас тексту Сказок, но ближе ли к его подлиннику, это вопрос, на который, в известной мере, можно ответить отрицательно. Дело в том, что наш сборник составился в средней культурной среде, среде магометанской буржуазии, и что ей принадлежат иные бытовые черты сказок, обыденные в восточной жизни, зазорные для нас; но следует помнить и то, что с тех пор круг слушателей этих Сказок изменился: ими стали забавлять толпу в простонародных кофейнях, и сказочники знали, чем подействовать на вкусы своей публики. Оттуда, по мнению Лэна, площадный шарж и нескромность выражений, и цинизм выходок, нередко идущие в разрез с характером и общественным положением действующих лиц, которым они вложены в уста или приписаны. Вульгаризмы Сказок, в известных случаях, поздний налет, прикрывающий более скромные, иногда поэтичные черты фабулы; ведь и такую благоуханную легенду, как миф об Амуре и Психее, не трудно рассказать в стиле тех «заветных» Сказок, которые прячутся по томам Κρυπτάδια[6]. Снять без остатка и в меру эти нарощения сказки не легко и едва ли когда удастся; Галлан действовал здесь сознательно, руководясь критериями вкуса и стиля, и его сказки вышли поэтичны, может быть, с некоторым шаржем освещения, отличающим театральный пейзаж от действительного.
Галлан перевел около четвертой части Сказок «Тысячи одной ночи», но зато лучшую; Лэн, включивший в свой перевод и часть мелких анекдотов и апологов, перемежающих Сказки, но не стоящих с ними ни в какой связи и, вероятно, вносивших в разное время из разных источников, ограничился передачей двух третей сборника; Пэйн и Бэртон задались целью перевести все. Выключая из своего перевода те или другие Сказки, Лэн указывал на поводы к тому: Сказки либо повторяли мотивы, известные из других номеров сборника, либо казались слишком длинными и скучными. Можно не соглашаться с этим личным критерием, которым мог руководствоваться и Галлан — в вопросе об исключении. Но чем и как объяснить, что в его книге очутилось значительное количество рассказов, не встречавшихся до последнего времени ни в одном тексте Сказок «Тысячи одной ночи»? Сам Галлан жалуется, что несколько посторонних повестей были внесены в его перевод, без его ведома, книгопродавцем-издателем, включившим в 8-й том турецкие сказки, переведенные Пти де ля Круа о Зейн-аль-Аснам, о Худададе и принцессе Дерьябарской. Но и несколько других повестей, которые мы привыкли считать типическими представителями нашего Сборника, возбуждали такое же подозрение — включения: таковы, например, Аладдин и Али-Баба. По случайному стечению обстоятельств последний том рукописного арабского текста, с которого переводил Галлан, утрачен, но, судя по расчету листов в сохранившихся томах, потерянный том не мог заключать и половины рассказов, которые в переводе Галлана являются лишними против подлинника. Если бы литературная честность Галлана и не была выше всяких сомнений, другое соображение исключало бы для нас всякое подозрение в подлоге: невозможность так подделаться под стиль и содержание восточной сказки, чтобы подделка ничем не отличалась от оригинала. Самым вероятным объяснением этого дела представляется следующее: Галлан, состоявший некоторое время при французском посольстве в Константинополе, был три раза на Востоке, в последний раз (1679 г.) на счет компании Восточной Индии (Compagnie des Indes Orientales), которая, желая прислужиться Кольберу, послала Галлана как знатока с поручением приобрести редкости для кабинета и рукописного собрания министра; впоследствии сам. Кольбер, а затем и Лувуа пользовались им для тех же целей изыскания. В течение своего долгого пребывания на Востоке Галлан мог слышать где-нибудь подходящие сказки, которые и внес в свой перевод арабского сборника; или его источником был какой-нибудь восточный писец, которого он держал для работ в память которого была богата рассказами в стиле Шехеразады. Чем проще и наивнее представим мы себе отношение Галлана к сказкам «Тысячи одной ночи» не как классическому тексту, который следует сохранить в переводе без изъяна, а как текучему материалу, подлежащему стилистическому развитию, тем ближе мы подойдем к отрицанию сознательной подделки.
Исследования Зотанбера и новейшие открытия в области восточного фольклора подтверждают указанные точки зрения. У арабов на Синае проф. Пальмер слышал сказку, близко напоминающую содержание Али-Баба; не на востоке, а в Париже, Галлан записал ее от маронита из Алеппо, по имени Ханна, вместе с некоторыми другими, сохранившимися в его дневнике и обработанными им впоследствии для 11-го и 12-го томов его издания. Тот же Ханна сообщил ему и рукописный текст некоторых Сказок «Тысячи одной ночи», отсутствующих в экземпляре Галлана, между прочим, сказку об Аладдине, которую удалось найти и в одной рукописи Сказок, принадлежащей Парижской Национальной библиотеке, в редакции, близкой к Галлановской. Другой ее пересказ, с чертами народного характера, встретился недавно в одном списке Сказок, хранящемся в Бодлеевской библиотеке. Вот содержание этого варианта.
Рыбак с сыном поймали большую рыбу; отец хочет поднести ее в подарок султану, в расчете на хорошую награду, и идет домой за корзиной, а сын сжалился, спустил рыбу в воду, но боясь отцовского гнева, бежит и поступает в одном городе в услужение. Однажды, ходя по базару, он видит, что какой-то еврей купил у одного парня за большую цену петуха, которого отдает рабу с приказом отнести его жене, — пусть побережет его до его прихода. Большая цена, данная евреем за петуха, заставляет юношу предположить, что петух обладает какими-нибудь чудесными свойствами. Решившись завладеть им, он купил двух больших кур и отнес жене еврея, говоря, что муж прислал их в обмен за петуха. Та отдала его ему; он его заколол, выпотрошил и нашел во внутренностях волшебное кольцо; как только потер его, услышал голос, спрашивающий: Что прикажет хозяин? Все веления будут исполнены гениями, приставленными к кольцу. Юноша обрадовался находке и размышляет, как ею воспользоваться. Проходя мимо султанского дворца, на воротах которого было вывешено несколько человеческих голов, он узнает, что то головы несчастных принцев, сватавшихся за дочь султана, но не исполнивших положенных на то условий. Он надеется на чудесную помощь перстня и сам решается присвататься к царевне. Потер перстень: Что прикажет повелитель? — говорит голос. По его желанию тотчас же явилась богатая одежда: он облекся в нее и идет к султану просить руки его дочери. Тот согласен, но предлагает условия: жених обязан удалить большую песчаную гору, находившуюся по ту сторону дворца; коли это ему не удастся, не быть ему живу. Юноша принял условие, но попросил сроку сорок дней; потер перстень, приказал подвластным духам снести гору, а на ее месте поставить роскошный дворец со всем необходимым для царского житья. Дело было сделано в две недели; сын рыбака женился на царевне и объявлен наследником султана.
Между тем еврей, которого он обманул, принялся странствовать в поисках за утраченным сокровищем и прибыл в город, где услышал весть о чудесно снесенной горе и дворце. Ему представилось, что все это совершилось чарами перстня, и он придумал такую уловку, чтобы снова получить его в свои руки: оделся купцом и, подойдя ко дворцу, стал предлагать на продажу драгоценности. Услышала о том царевна, послала слугу расспросить о цене, и узнала, что еврей отдает свой товар лишь в обмен на старые перстни. Вспомнила царевна, что у ее мужа есть такой перстень в его письменном столе и послала его еврею, который, признав в нем искомое, тотчас же отдал за него все драгоценности, какие с ним были. Удалившись со своей добычей, он потер перстень, и по его велению гении перенесли на отдаленный необитаемый остров и дворец, и всех его жителей, за исключением рыбацкого сына.
Проснувшись на другой день, юноша увидел себя лежащим на песчаном холме, занявшем прежнее место. Боясь, чтобы султан не заставил поплатиться его жизнью за утрату его дочери, он тотчас же пустился в путь в другое царство, где вел бедственную жизнь, кормясь продажей некоторых драгоценностей, случайно оказавшихся на нем в пору его бегства. Раз, когда он плутал по городу, какой-то человек предложил ему купить у него собаку, кошку и крысу, которых он приобрел; их веселость и проказы развлекали его печальные мысли; но то были не звери, а волшебники; в награду за добродушие хозяина они решили сообща помочь достать похищенный перстень, о чем и предупредили его. Он горячо благодарил их, и все вместе пустились на поиски. После долгих странствований они достигли морского берега и увидели остров, на котором стоял дворец. Собака переплыла туда, поместив на своей спине кошку и крысу, все направились ко дворцу, куда проникла крыса. Видит, еврей спит на диване; а перстень лежит перед ним; крыса схватила его и, вернувшись к товарищам, поплыла с ними обратно. На полупути собака изъявила желание понести перстень в своей пасти; крыса не соглашалась из боязни, что собака обронит перстень, но та пригрозила сбросить всех в воду, если ее желание не будет исполнено. Делать было нечего: крыса отдала перстень, но, принимая его, собака упустила его в воду. Когда они пристали к берегу и сын рыбака узнал о том, что приключилось, он готов был утопиться от отчаяния, но тут большая рыба внезапно подплыла к берегу с перстнем в зубах. Бросив его к ногам юноши, она скакала: — «Я та самая рыба, которой ты сохранил жизнь, я отплатила тебе за твое милосердие». Обрадованный находкой, сын рыбака вернулся в город своего тестя и ночью приказал гениям перенести дворец на старое место. Это было исполнено в одно мгновение. Войдя во дворец, юноша велел схватить еврея и сжечь его живым на костре, зажил счастливо с женой, а по смерти султана наследовал его царство.
Мотивы этой повести известны еще в двух восточных пересказах. В монгольском Сидди-кюр молодой купец дает на пути три тюка товаров за мышь, обезьяну и молодого медведя, которых истязали мальчики. В награду за это благодарные звери достают ему со дна реки камень, исполняющий все желания. По его мановению на месте, где он разбил свой шатер, явился цветущий город и дворец, снабженный всем необходимым. Проезжему купцу, пораженному этой диковинкой в пустыне, юноша простодушно объясняет, что всем этим он обязан своему талисману, который также простодушно продает купцу. Следует, как и в предыдущей сказке, исчезновение города и дворца и поиски зверей за неосторожно проданным сокровищем.
Во втором рассказе тамильского романа «Мадана Камараджа Кадай» действующим лицом является царевич, изгнанный дядей из отцовского наследья. За большие деньги, которые дала ему мать, он покупает котенка и змею, оказавшуюся сыном Адисеши, царя змей; от него юноша и получает волшебный перстень, силою которого в пустынной чаще возникает цветущее царство, а дочь царя Сварнеши перенесена во дворец, чтобы быть женою царевича. — Здесь примешался поэтический мотив известной древнеегипетской сказки о двух братьях, вошедший и в легенду о Тристане: жена царевича, красавица, купаясь, обронила один из своих чудных, длинных волос, который свился в клубок и выброшен волной на берег. Находит его царь Коччи и влюбляется в незнакомку, обладательницу чудесного волоса; старая старуха обещает помочь ему, хитростью пробралась к царевне, разжалобила ее и, поселившись во дворце, получила дозволение надеть на палец чудесный перстень как средство против одолевшей ее головной боли. Взяла перстень и была такова; талисман очутился в руках царя Коччи, и тот выражает желание, чтобы красавица перенесена была к нему, чтобы царевич стал помешанным, а его царство выгорело дотла. Так все и сделалось. Следующий эпизод переносит нас на время к известной легенде о «гордом богаче» и ее восточным источникам: красавица откладывает свой брак с похитителем и просит у него позволения в течение недели кормить и одевать нищих. В числе других она видит и своего помешанного мужа, при нем его кошка, и он вступает в спор со служителем, требуя, чтобы и перед кошкой был поставлен прибор, т. е. древесный лист. Когда все наелись и заснули, явились крысы, чтобы попировать объедками, в числе их одна большая, которую другие окружали почетом: царь крыс. Кошка царевича схватила его и отпускает на свободу лишь под условием достать перстень. Крыса раздобыла его; как только царевич его надел, стал разумным, как и прежде, а царя Коччи постигли беды, которые он нанес другим[7].
Сказки того же содержания встречаются в Италии и Германии, у чехов и албанцев, в Греции и Дании; в основе лежит мотив о «немощных зверях», спасенных героем и отплачивающих ему такой же услугой. Подобная восточная сказка легла в основу повести об Аладдине, которая таким образом спасена не только для Востока, но и для сборника Сказок «Тысячи одной ночи». За всем тем остаются не приуроченными к его древнему составу лишь те рассказы, которые Галлан передал и обработал со слов своего маронита.
Введя их в состав сборника, Галлан в сущности продолжал ту работу собирания и накопления, в которой участвовало не одно поколение сказочников, принявших наследие Шехеразады,
Это ведет нас к вопросу о том, как сложился сборник, известный под названием Сказок «Тысячи одной ночи»[8]. Сообщая в своих Золотых Лугах (944 г. н. э.) предание о баснословном Иреме, известное уже во время халифа Муавии (VII века) и внесенное в Сказки «Тысячи одной ночи»[9], Масуди говорит, что эта и подобные ей легенды не что иное, как лживые изобретения придворных сказочников, которые народ усвоил и повторяет за ними. Прием этих сказочников, продолжает он, тот же, что и в книгах, до нас дошедших в переводах с персидского, индийского (в одной рукописи: пехлеви) и греческого, вроде Хезар Эфсанэ, что по-арабски означает «Тысяча сказок», хотя народ называет их также: «Тысяча ночей» (в одной рукописи: «Тысяча одна ночь»): это рассказ о царе и везире, его дочери и ее сестре (няньке, рабе), имена которых Ширазад и Диназад, или вроде книги о Фарза и Симас, содержащей рассказы о царях Индии и их везирях, или вроде книги о Синдбаде и других подобных книг. Это известие подтверждается Фихристом ан-Недима (987 года): первыми сочинителями фантастических сказок, писавшими о них, были персы, пишет он; цари династии Арсакидов заинтересовались ими, а далее сказки были распространены и умножены во дни Сасанидов. Арабы также перевели их на свой язык, а красноречивые и владевшие словом взяли и приукрасили их и сами составили подобные им. Первою книгою этого рода была Хезар Эфсанэ, что означает: «Тысяча сказок». Далее ан-Недим передает содержание действия, дающего рамку Сказкам «Тысячи одной ночи»: «о Султане и Шехеразаде»; сказок менее чем двести, говорит он, ибо иная из них сказывается в течение нескольких ночей; сборник был составлен для царицы Хумай, дочери Бахмана; «я сам видел несколько раз полные экземпляры этой развратной книги, изобилующей глупыми россказнями»[10].
Совпадение основного рассказа и собственных имен действующих в нем лиц не оставляет сомнения в связи персидского Хезар Эфсанэ со Сказками «Тысячи одной ночи»; если арабский перевод первой упоминается уже до половины X века, то это служит указанием на древность персидского, домагометанского оригинала, за которым Вебер предполагает, едва ли вероятно, забытый буддийский источник. Но уже свидетельство Масуди позволяет заключить, что дошедший до нас сборник Сказок «Тысячи одной ночи» не может быть признан простым переводом персидского подлинника: рядом с Хезар Эфсанэ Масуди упоминает книги о Фарза и Симасе[11] и Синдбаде; первая, может быть, буддийская в основе, перешла, при посредстве какого-нибудь греческого пересказа, наложившего на нее заметный христианский отпечаток, в арабскую литературу, где она является и отдельно, и в составе поздних списков Сказок «Тысячи одной ночи», тогда как повести о Синдбаде отвечает в них рассказ о «царе и его сыне и наложнице и семи везирях»[12]. Рамки старого Хезар Эфсанэ расставлялись постепенно, чтобы принять в себя материалы посторонних ему повестей и отдельных книг. План восточных сказочных сборников естественно вел по пути таких приращений, ибо нет возможности указать на те устойчивые, пластические границы, за которыми должны бы были остановиться рассказы Панчатантры и Семи мудрецов — и неисчерпаемая в своей находчивости память Шехеразады. Так развивался и сборник Сказок «Тысячи одной ночи»: за указанными выше включениями могли последовать и другие, может быть, из сходных источников; демонизм некоторых рассказов, роль, какую играют в них гении, указывает на миросозерцание парсизма; к рассказам, этого рода пристраивались другие, индейские и арабские, мотивы Талмуда и греческие. Первая арабско-мусульманская редакция Сказок могла составиться в том же X веке, к которому относится и арабский перевод Хезар Эфсанэ, и также в Багдаде: ей принадлежат черты древней арабской истории, начиная с анекдотов о первых халифах; в центре исторических воспоминаний стал Гарун ар-Рашид со всем его окружением: Джафаром, Месруром, Зобейдой. Существование этой редакции мы предполагаем; дошла до нас лишь более поздняя, египетская: имя Саладина, последнего по времени исторического лица, упоминаемого в Сказках, близкое знакомство с египетскою местностью и отношениями указывают место и время происхождения этой редакции. Очевидно, не при Фатимидах, ибо они были шииты, тогда как Сказки проникнуты воззрениями суннизма. Владычество Фатимидов пало в конце XII века с завоеванием Египта Саладином, и легко представить себе, что египетский извод Сказок «Тысячи одной ночи» был одним из выражений литературного и культурного подъема, начавшегося с курдскими и татарскими насельниками Египта и кончившегося с турецким завоеванием. В этом периоде, обнимающем с XIII по XV столетие, позволено выбрать и более ограниченную полосу времени, к которой приурочить появление нашего памятника: позже 1301 года; рукопись Галлана относится, по мнению Зотанбера, ко второй половине XIV столетия; повесть об Аладдине представляет довольно верную картину нравов Египта при последних мамлюкских султанах, но следует предположить, что владычество мамлюков отложилось бы и в других сказках более яркими бытовыми подробностями, если бы часть их была впервые сложена именно в эту пору.
Такова, приблизительно, история сборника, содержание которого раскрылось западному читателю в переводе Галлана. Я назвал этот перевод откровением; таким оно действительно и было, ибо в начале XVIII века едва ли кто-нибудь знал, что европейские литературы издавна были знакомы с отдельными мотивами Сказок «Тысячи одной ночи» и даже почерпали их из восточных версий. Те же или почти те же рассказы, которые на Востоке постепенно слагались в целое, называемое Сказками «Тысячи одной ночи», переходили в Европу в разное время и разными путями, с торговыми людьми и путешественниками на Восток, паломниками и крестоносцами, через Византию или Испанию с арабами или евреями, в устной или литературной передаче. Мы видели, что мотивы сказки об Аладдине известны и в европейских версиях, но эти мотивы («благодарные, помощные звери») не сложны, указаний на восточные отношения нет, и сходство с повестью об Аладдине может не удовлетворить тех, кому не люба идея, что в образах и сюжетах, населяющих фантазию нашего простонародия, многое навеяно фантазией Востока?
Что это так, на это есть факты, входящие в область Сказок «Тысячи одной ночи».
Коссэн де Персеваль издал, в продолжение к Галланову переводу, сказку, опущенную им, но впоследствии переведенную Казоттом[13]: о Хейкаре, мудром советнике Сенхариба, царя Ассура и Ниневии. Источник повести, не принадлежащей впрочем к составу Сказок «Тысячи одной ночи», восточный, отразившийся с одной стороны, в византийском легендарном жизнеописании Эзопа, с другой — в арабском рассказе такого содержания «Тысячи одной ночи», где повесть представляется в таком виде: бездетный Хейкар усыновил своего племянника Надана, тщательно воспитал его, обучил, и, наставив в правилах нравственности представил царю как своего преемника. Возгордившись властью, Надан перестал показывать уважение к своему воспитателю; оскорбленный Хейкар отдал свой дом младшему брату Надана и тем вызвал его месть: Надан написал от имени Хейкара и за его печатью подложные письма к царям Персидскому и Египетскому, в которых обещал отдать им без боя владения Сенхариба. Письмо попало в руки царя; приведенный к нему Хейкар понял коварство племянника, но, пораженный его неблагодарностью, ни слова не сказал в свою защиту. Он обречен на смерть, но Абу-Сомейка, которому поручено было исполнение казни, дает ему возможность избежать ее: Хейкар живет в потаенной комнате своего дворца. Между тем слух о его смерти распространился, и Египетский царь шлет Сенхарибу надменное требование прислать ему архитектора, который выстроил бы дворец между небом и землею и мог бы отгадать загадки царя; зато последний обещал Сенхарибу трехлетнюю подать Египта; в противном случае Сенхариб должен был прислать трехлетние доходы Ассура. Когда ни один из советников Сенхариба не был в состоянии помочь ему советом, Абу-Сомейка открывает, что Хейкар жив. Обрадованный царь возвращает ему свою милость, и мудрый советник отправляется в Египет, где поражает находчивостью своих ответов, разрешает загадки царя, а его главное требование обходит такой уловкой: два орла, приученные к тому, взлетают на воздух каждый с ящиком из легкого дерева, к которому прикреплена веревка длиною в две тысячи локтей; в ящиках посажены мальчики; поднявшись на высоту, они кричат: «Несите нам камней, извести и цемента строить дворец царю; мы только этого дожидаемся!» Пришлось царю отказаться от воздушного дворца; щедро наградив Хейкара, он отдал трехлетние доходы своей страны и заключил дружбу с Сенхарибом. Когда Хейкар вернулся к нему, он осыпан был милостями, а Надан отдан в его власть Хейкар заключил его в темницу и, посещая его, упрекал за неблагодарность. Так Надан и умер, мучимый угрызениями совести.
В редакции, сходной с текстом «Тысячи одной ночи», и несомненно в редакции восточной, эта сказка перешла в византийскую письменность, а оттуда в югославянскую, может быть, уже в XIII веке, судя по тому, что повесть о «Синагрипе, царе Адоров и Наливския страны» входила в состав утраченного сборника XIV — XV вв., заключавшего и «Слово о полку Игореве». Славянская повесть сохранила следы восточного происхождения в собственных именах, хотя и разнообразно искаженных: Сенхариб, властитель Ассура и Ниневии, очутился Синагрипом, Синографом, царем Адоров и Наливския страны; Хейкар обратился в Акира, Надан в Анадана и т. п. Византийский, а за ним и славянский переводчик не тронули фабулы рассказа, но с любовью развили в нем материал назидания, которому легко было придать христианский колорит; в этом отношении повесть о Синагрипе напоминает не только оригинал нашего Девгения сравнительно с греческой поэмой о Дигенисе, но и предполагаемый греческий подлинник арабской повести о Симасе (ср. выше, стр. 241), с которой у нее есть и общие черты: царь, убивающий мудрого министра и не знающий, что предпринять, когда соседний властитель прислал ему грозное письмо с требованием построить среди моря дворец; царя выручает умным ответом ребенок, сын убитого везиря, как в нашей сказке Акир-Хейкар, являющийся типом не только мудрого, но и христиански благочестивого советодателя. «Господи, Боже мой, — молится он, — если я умру без наследника, станут говорить: вот Акир был праведен и истинно служил Богу, а умер, и не обрелось никого от мужеского пола, кто бы постоял на гробе его, ни от девического, кто бы его оплакал». От праведного Акира недалеко было до представления его христианином: таким он является в одном славянском чуде св. Николая, известном по рукописи XVII века и народным пересказам великорусским, малорусским и даже инородческим сибирским. В народных легендах Акира нет, в рукописной у царя Синографа или Синагрипа «рядца Акир мудрый крестьянин».
Выла ли известна на средневековом Западе восточная сказка о Хейкаре — мы не знаем; рассказ о Сеннахериме, упоминаемый у трубадуров в списке сюжетов, которые подобает знать жонглеру, напрашивается на предположение, что дело идет о Сенхарибе пересказанной нами повести; но это едва ли правдоподобно. Зато на Западе знакома была уже в XIII веке другая сказка восточного происхождения, столь близкая к версии «Тысячи одной ночи», что зависимость той и другой от одного общего источника представляется несомненной. Из другого источника, вероятно также восточного, тот же мотив проник в русскую былину. Как выше легенда, так здесь балладная песня одинаково овладели захожим сказочным содержанием.
Сказка «Тысячи одной ночи» о «волшебном коне» принадлежит, быть может, еще к составу древнего персидского Хезар Эфсанэ. У персидского царя Сабура, большого любителя философии и геометрии, три дочери и сын по имени Камар аль-Акмар; три мудрые мужа приходят к нему с подарками: один Индус, другой Грек, третий Персиянин. Первый приносит ему золотую, украшенную драгоценными камнями статую с золотой трубой в руке: если в город проникнет соглядатай, статуя тотчас затрубит, шпион задрожит и падет мертвым. Подарок Грека — серебряный сосуд с золотым павлином, окруженным 24 детенышами: он показывает часы, дотрагиваясь клювом по истечении часа, одного из детенышей, и месяцы, раскрывая рот, в котором тогда показывается луна. Персидский мудрец дает Сабуру коня из черного дерева: конь этот, великолепно убранный, летал по воздуху так быстро, что в один день проносился через пространство, которое обыкновенной лошади не пробежать и в год. Приняв подарки, Сабур обещает исполнить все желания мудрецов, которые, показав ему, как действуют их диковинки, просят в награду руки царских дочерей. Сабур согласен, но младшая и самая красивая из дочерей в горе при виде своего жениха персиянина, престарелого и уродливого. Ее брат, только что вернувшийся из отлучки, заступается за нее перед отцом в присутствии жениха-волшебника, который начинает питать к нему злобу. Отец говорит Камар аль-Акмару: пусть попытает сам свойства чудесного коня, тогда он не будет более противиться исканию мудреца. Принц садится на коня, но волшебник с умыслом показал ему одну лишь пружину, при помощи которой можно было пустить лошадь в полет, другие же утаил по забывчивости, как он объясняет позже, сваливая часть вины на гордого царевича, не позаботившегося спросить его о том. Волшебника бьют и заточают; все в горе, потому что принц скрылся из глаз, несется в пространстве; он уже в соседстве солнца и близок к смерти, когда снова принявшись пытать устройство коня, нашел пружину, повернув которую начал спускаться. Он видит большой город, спускается на террасу замка, вокруг которого ходили 40 вооруженных рабов, а с террасы по лестнице — во внутренний двор; идет по направлению света и находит дверь, перед которой спал раб, ростом с дерево, шириною в каменную лавку, точно один из духов Соломона. Около него горела свеча, лежал меч и стоял столик, который принц относит в сторону и, сдернув с него завесу, находит прикрытые яства. Наевшись и напившись досыта и отдохнув, он ставит столик на прежнее место, подкрадывается к спящему, у которого похищает меч из ножен, приподнимает занавес у двери и видит в следующем покое трон из слоновой кости, украшенный драгоценными камнями; у его подножия спали четыре рабыни, на троне покоилась красавица Шемс ан-Нахар (Солнце дня). Принц будит ее поцелуем: «Я твой раб и любовник», отвечает он ей на ее расспросы; «Господь и судьба привели меня к тебе». Царевна, которую отец ее помолвил с одним из именитых людей города, принимает принца за своего жениха и влюбляется в него. Между тем проснувшиеся рабыни будят сторожа, который осыпает незнакомца бранью, но когда тот бросился на него, спасается бегством и идет обо всем донести царю. Царь застает принца сидящим с дочерью, кидается на него с мечом, но тот подставил ему свой меч, и объявляет, кто он. Царь хочет его казнить, но принц предлагает ему другой способ расправы: пусть соберет свое войско, он будет против всех сражаться; если его победят, он понесет заслуженную кару; если он победит, то с ним будут обходиться почтительнее: людей нельзя косить и мерить как жито. С согласия царя принц велит привести своего коня с террасы, сел на него, войско окружило его со всех сторон, а он повернул пружину и был таков. Принцесса горюет, зато дома, куда царевич прибыл обратно, печаль сменилась на радость, праздники и пиры; за столом одна рабыня поет под звуки лютни: «Не верь, что я забыл тебя вдали, о чем и думать мне, если я тебя забуду? Время проходит, но моя любовь к тебе вечна, с тобою умру, с тобою и воскресну».
Эти слова будят в сердце принца любовь; тайком от отца он садится на коня, прилетает в царство своей возлюбленной, спустился на террасу, застал раба спящим и слышит за завесой плач милой и ее разговор с служанками. Когда она заснула, он прокрался к ней, будит ее, велит накормить себя и хочет удалиться, обещая возвращаться к ней каждую неделю. Но красавица не желает с ним расстаться, и они улетают, незамеченные прислужницами. Остановившись в саду под столицей Персии, принц велит девушке подождать, пока он сам пойдет оповестить своих родителей: везири и все войско выйдут к ней навстречу в подобающем блеске.
Между тем волшебник персиянин, выпущенный из темницы по возвращении принца, видел все происходившее в саду, где он часто живал у садовника. Замыслив месть, он стучится в беседку, где оставалась красавица, говорит, что прислан за нею принцем, потому что мать его не может выйти так далеко ей навстречу. Девушка сначала пугается уродливого посланца, но он уверяет, что у его господина один раб красивее другого, а выбрал он его, уродливого, из ревности. Она поверила его словам, и волшебник увозит ее на коне по направлению к Китаю.
Горе принца и его ближних, когда они не нашли царевны. Из слов садовника принц догадывается, что она похищена персиянином; а тот между тем спустился со своей ношей в Китае на равнине под деревом у источника. На вопрос красавицы, где его хозяин, его отец и мать, он отвечает: «Будь они все прокляты; теперь — я твой хозяин». Он хочет приласкать ее, но она его отталкивает и плачет. Персиянин заснул; так застает его китайский король, выехавший на охоту. Он удивляется красоте девушки и спрашивает о ней у волшебника, которого разбудил толчком ноги. — Это моя жена, говорит он; но царевна рассказывает как было дело. Царь велит наказать виновного палочными ударами и заключить. На вопрос, что это за конь, царевна отвечает, что на нем ездил тот человек, выделывая разные хитрые штуки. Царь велит поставить лошадь в казнохранилище и в тот же вечер делает девушке предложение, но она представилась сумасшедшею; царь приставил к ней женщин и в течение целого года ищет повсюду докторов и астрологов, которые взялись бы излечить ее.
Царевич также ищет свою милую, добрался до Китая и здесь в столице на базаре слышит рассказ о ее приключениях. Переодевшись астрологом, он является во дворец и предлагает излечить больную. Он успевает увидать ее наедине и обещает попытаться освободить ее. Царю он показывает свое искусство: вводит его в комнату больной, которая неистовствует и вдруг становится тиха и рассудительна: принц подошел к ней, пробормотал какие-то заклинания, дунул ей в лицо и укусил ухо, прошептав: «Встань теперь и с достоинством подойди к царю, поцелуй ему руку и будь любезна». Она так и делает, и царь расположен верить всем советам астролога. Принц велит отвести больную в баню, так чтобы ее ноги не коснулись земли; надеть на нее драгоценные уборы, чтобы ее сердце забыло горе, и повести за город на то место, где ее нашли, потому что на том месте и вселился в нее злой дух. Когда все было исполнено, принц объявляет царю, что по его соображениям злой дух, вселившийся в девушку, имеет своим местопребыванием тело какого-то животного, сделанного из черного дерева: если оно не будет найдено, злой дух будет посещать ее каждый месяц. Царь догадался в чем дело и, удивляясь мудрости астролога, велит принести чудного коня. Убедившись в его сохранности, принц садится на него и велит посадить за себя девушку; пока в огонь бросают, по его указанию обрезки бумаги, средство к изгнанию злого духа, влюбленные улетают, принц успевает еще сообщить царю о себе и о своей милой, а царю остается лишь горевать в течение всей жизни об утрате девушки и чудесного коня.
Такова арабская сказка, вариант которой перешел во второй половине XIII века из Испании во Францию устным путем, или в форме рассказа, и здесь дал содержание двум рыцарским романам: Cleomades Аденета ли руа и Le chevals de fust (Деревянный конь) Жирардэна из Амьена. За вычетом общих мест и банальных приключений, на которые щедры труверы поздней поры французской эпики, оба автора с мелкими отличиями и различною близостью к оригиналу, сходному с знакомой нам повестью «Тысячи одной ночи», передают очертания старой сказки. Разница в том, что Аденет перенес место действия в Испанию и Италию, Жирардэн придерживался Востока, фантастического Востока средневековых романов: Персии с городом Филиппополем, Великой Армении и Сирии. Там и здесь на сцене царь, у него три дочери, и сын, отвечающий герою арабской сказки: Cleomades у Аденета ли руа, Meliacins у Жирардэна. У первого три царя некроманта, являющиеся свататься за царевен, приходят из Африки; у второго — они просто волшебники и ведуны. И подарки их те же: чудесный конь и трубач, только вместо павлина золотая наседка с тремя (у Аденета) или шестью цыплятами; так у Жирардэна, у которого сохранился даже намек на назначение этой диковинки, ясное из сказки «Тысячи одной ночи»: цыплята издавали крик в урочный час (a lor droite heur). В других случаях, наоборот, Жирардэн дальше отклоняется от предполагаемого оригинала, чем Аденет, но у обоих история «деревянного коня» и связанная с ним фабула одна и та же: это волшебный конь, унаследованный с Востока народной сказкой, отразившейся в знаменитом Claviteno Сервантесова романа и ранее того введенный Чосером в его Squire’s tale[14].
Вместо механического коня легко представить себе такую же птицу, переносящую сказочного героя на далекие пространства. Этот мотив, известный из повестей Панчатантры, Сидди-Кюра и Бахар-и Даниш мог заменить волшебного коня в какой-нибудь восточной разновидности нашей сказки, проникшей в русскую былину «о Подсолнечном царстве»: ведуны-волшебники обратились в хитрых мастеров, мотива сватанья нет, нет и мести озлобленного жениха, поделки ограничиваются орлом самолетным и утушкой золоты-крылья с утятками. Сказка отдала былине один небольшой и притом полуискаженный эпизод, сливающийся под конец с другим эпическим мотивом. Вот начало песни:
При царе было Василье Михайловиче,
Жило при царе два мастера,
Одной работой занималися
И между собою пораздорили.
И призывал их Василий Михайлович,
Сам говорил таковы слова:
«Когда вы сделаете по штуке молодецкия
И друг другу про себя не скажете,
Тогда вас обоих пожалую».
Один сделал орла самолетного,
Другой утушку золоты-крылья.
Как положил ее в таз воды,
Его утушка стала плавати.
И взял яичко вареное,
Положил на поле тазовое,
Его утушка стала клевать яйцо,
Ее детушки тоже клюют.
Он приносит свою поделку царю, которому она прилюбилася. Второй мастер
Приходил с орлом самолетным.
Вызывает царя на широк двор,
Вынимает орла самолетного
Из-под той полы спод правыя,
Садился на орла самолетного,
Улетел он в чисто поле,
Под тыя под облака высокия,
Прилетает он назад с поля.
Этот орел царю понравился,
И тут обоих царь пожаловал.
У того царя Василья Михайловича
Был сын Иван Васильевич,
Своим глупым умом-разумом
Заходил в кладовыя отцовския,
Брал орла самолетного,
Садился молодец на того орла,
Улетал в далече чисто поле,
Под тыя под облака высокия,
Увидал царство под солнышком,
Под солнышком царство великое.
Он возвратился назад и, захватив золотой казны, царскую одежду и перстень, снова летит в подсолнечное царство, где
Стоял терем золоты верхи.
Круг этого терема был белый двор,
О тых воротах о двенадцати,
О тых сторожах о строгиих.
Он начал у них выспрашивать,
Он начал у них выведывать:
«Для чего построен белый двор
О тых воротах о двенадцати»?
— Ты ей же, удаленький добрый молодец!
У нашего царя Подсолнечного
Есть у него дочи любимыя,
Молодая Марья Лиховидьевна;
Посажена она в высок терем
И поставлены сторожа строгие.
И сказали ему белицы волшебницы,
Что твоя будет дочи — любимая
На шестнадцатом году в поночике.
Царевич начинает ходить вокруг двора, высмотрел под крышей полукруглое окно, одна половина которого была не заперта; вернувшись в чистое поле, он садится на самолетную птицу и проникает в терем Марьи Лиховидьевны:
Он начал с ней разговаривать,
И начал с ней угощатися
И во разные забавы заниматися.
С той поры он часто летал в подсолнечное царство, забавляясь с царевной, распевая с нею песни на два голоса. Услышали это сторожа, донесли царю; на его вопрос царевна просит не
верить наветам. Когда я весела, радостна, я пою песни веселые нежным голосом; когда порастоскуюсь, пою песни унылыя, «и пою голосом другиим».
Этим ограничивается отношение песни к сказочному сюжету, который она усвоила, чтобы далее забыть его для другого развития: царевич, летавший к красавице на самолетном орле, оказывается впоследствии «грозным царем Иваном Васильевичем», и песня переходит к содержанию известной былины о том, как Грозный сбирался казнить своего сына Феодора. На этот раз его мать оказывается царевной подсолнечного царства.
Сюжет восточной сказки проник в русскую былевую песню, очевидно, не тем путем, которым дошел до труверов XIII столетия. Пути открывались разные, торные и проселочные; их скрещиванье трудно уследить, и мы довольны, если порой в их путанице забрежжет какой-нибудь хронологический просвет.
Мы по-прежнему в XIII веке, когда в Египте собирались сказки Шехеразады, а в Европе стала известна в разных версиях повесть, которой начинается сборник «Тысячи одной ночи»: о двух братьях царях и великане, сторожившем и не устерегшем жены в ларце. Повесть эта известна и в других восточных пересказах: так в персидском Тути-Намэ, в двух повестях индийского Ката-Сарит-Сагара, в буддийской джатаке и в современной сказке из Камаона. Подробности колеблятся: двум братьям арабской сказки отвечает то один путник, то трое, но в одном из рассказов Ката-Сарит-Сагара являются два брата, взлезающие на дерево как царевич камаонской легенды; красавица (или красавицы) заключены в коробке, спрятанной в косах ее мужа, либо в ларце. Так в джатаке, содержание которой сводится к следующему:
в древности, в царствование царя Брамадатты в Бенаресе, Бодисатва, отказавшись от страстей, отправился к Гималайским горам и там вступил на путь. Неподалеку от него жил ракша[15] Данава, который по временам приходил к нему слушать закон. В лесу тот Данава хватал и поедал людей; однажды, напав на путников, он похитил красивую девушку, повел ее в свою пещеру и женился на ней; чтобы уберечь ее, он посадил ее в ларец, который проглотил. Раз он пожелал покупаться в озере: выбросил из себя ларец, вынул оттуда жену, вымыл ее, нарядил и поставил, чтобы оправилась, пока он сам искупается. В это время летел гений, по имени Сын Ваю, с мечом в руке; женщина поманила его и спрятала в ларец, на который сама села, поджидая мужа; увидев его приближающимся, она еще до его прихода взошла в ларец, легла на гения и прикрыла его своим платьем. Данава, ничего не подозревавший, проглотил ларчик; когда затем он пришел к Бодисатве, подвижник поразил его вопросом: «Откуда идут трое?» и объясняет, в чем дело. Данава поспешно выбросил ларец; как раскрыл его, гений тотчас же пустился по воздуху.
Это один из многих восточных вариантов сказания, западные отражения которого нам особенно интересны. Уже давно было обращено внимание на сходство вводного рассказа «Тысячи одной ночи» с былиною о Святогоровой жене: Илья Муромец спит в чистом поле, разбужен своим конем, чующим опасность: едет Святогор богатырь[16].
Выставал Илья на резвы ноги.
Спущал коня во чисто поле,
А сам выстал во сырой дуб.
Видит: едет богатырь выше лесу стоячаго,
Головой упирает под облаку ходячую,
На плечах несет хрустальный ларец.
Приехал богатырь к сыру дубу,
Снял с плеч хрустальный ларец,
Отмыкал ларец золотым ключем:
Выходит оттоль жена богатырская,
Такой красавицы на белом свете
Не видано и не слыхано.
…………………………….
Как вышла из того ларца, собрала на стол,
Полагала скатерти браныя.
Ставила на стол евствушки сахарния.
Вынимала из ларца питьица медвяныя.
Пообедал Святогор богатырь
И пошел с женой в шатер прохлаждатися,
В разные забавы заниматися.
Пока он спит, его красавица-жена высмотрела на дубу Илью Муромца, приглашает его сойти и сотворить с нею любовь; коли не послушается ее, она разбудит мужа, наклеплет на Илью, что он ее насильно «в грех ввел». Он принужден покориться, как братья цари арабской сказки; красавица посадила его «к мужу в глубок карман», и конь Святогора является потом обличителем, как Бодисатва буддистской джатаки:
Опережь я возил богатыря да жену богатырскую,
А нонь везу жену богатырскую и двух богатырей.
Положение существенно такое же, как в сказке «Тысячи одной ночи»: та же сцена под деревом, то же грандиозное впечатление Святогора демона-исполина, которое в других европейских пересказах забыто или затушевано; вместо двух зрителей — один, Илья Муромец, что, может быть, и не новая черта, а подробность, удержавшаяся из какой-нибудь разновидности восточного сказания, перешедшего на Запад не в одной, а в нескольких версиях.
Мы сказали, что этот переход мог совершиться в XIII веке, если не ранее. У Генриха Мейссенского, известного под именем Фрауенлоба (ок. 1253 — 1318), наша повесть уже низошла до бесцветных очертаний, назначенных служить рамкой нравоучению. Вот начало относящегося сюда шпруха: «Я сидел на дереве и видел удивительные вещи: пришел туда человек, несший женщину в роскошном ларце. Он отпер его и велел ей подсесть к себе, схватил за подол, склонил голову на ее лоно. Старик заснул; тогда пришел ее приятель и причинил старику ущерб — в его жене: юноша свел ее с ума. Она скралась от старика и пошла к юноше: неразумие правило ею, отчего ее честь пошла на склон. Когда исполнилось ее желание, она встала, отошла оттуда и, снова подойдя, подсела к старику».
«Мои ноги понесли меня в прекрасное тенистое место: я пошел к одной липе, мне навстречу, выступая в траве, явилась величественная царица; в ее венце светился ярко драгоценный камень. Ее улыбка пролила сладость в тайник моего простодушного сердца. Она сказала: Видел ты женщину, запертую в ларце? Их не усторожить мужчине, когда даже запертая женщина могла совершить такой вероломный поступок?» — Эта царица — аллегория чести: Vrau Ere, кончающая наставлением поэту: гнушаться нечестных жен, почитать чистых и целомудренных.
В XIII веке тот же мотив, обесцвеченный Фрауенлобом, знаком был в Италии с реальными подробностями новеллы, на этот раз почти целиком воспроизводившей вводную повесть «Тысячи одной ночи». Новелла эта не сохранилась в подлиннике, но его можно приблизительно восстановить из рассказа Серкамби (XIV века) и одного эпизода из «Неистового Роланда» Ариосто. Сходства и отличия того и другого рассказов не таковы, чтобы позволено было говорить о зависимости более позднего от более раннего: оба восходят к одному оригиналу, в котором одно из действующих лиц уже носило имя Астульфа, и являлся демон, обманутый женой; заменив его простым смертным, Серкамби допустил ту несообразность, что обыкновенный человек, по побуждениям ревности, таскает на себе свою жену в ларце, а герои сказки при виде его прячутся в лесу, как будто под влиянием страха.
Вот рассказ Серкамби: В Неаполе, при дворе Манфреда, жил рыцарь Астульф; у него красавица жена. Он верит в ее любовь, а она сошлась с конюхом. Убедившись в этом воочию, Астульф покидает ее, говоря, что вернется к ней не ранее, как услышит о ней что-либо способное искупить совершенный ею проступок. Манфред допрашивает его о причине его грусти, но ничего не добился. Несколько месяцев спустя Астульф видит из окна своей комнаты во дворце какого-то урода, который, подойдя к покоям королевы, принялся костылем стучать в дверь. Когда, после некоторого времени, дверь отворила сама королева, урод ударил ее в грудь за то, что замешкалась; а она стала извиняться и, тут же отдавшись ему, угостила его и отпустила. Чужое несчастье подействовало на Астульфа успокоительно, к нему вернулось хорошее расположение духа, он стал принимать участие в увеселениях, и это снова обратило внимание Манфреда. По его настоятельной просьбе Астульф открывает ему его стыд и дает возможность быть его свидетелем. Тогда король решается вместе с Астульфом пойти бродить по свету, никем не знаемые, пока какое-нибудь приключение не побудит их вернуться домой. Однажды в июне, на дороге между Сан-Миньято и Луккой, они
уселись отдохнуть под деревом, как увидели человека, нагруженного тяжелым ящиком. Спрятавшись в лесу, они наблюдают за ним: остановившись под деревом, он свалил сундук, отпер его ключом и оттуда показалась красавица, которую тот человек заставил подсесть к себе. Поев и попив с нею, он положил голову ей на колени и заснул. — Следует такая же сцена, как и в Сказке «Тысячи одной ночи» и с теми же подробностями; как и там, путники успокаиваются сознанием, что женщины не уберечь, и возвращаются домой с намерением поучить немного своих жен.
В «Неистовом Роланде» (п. XXVIII) действующие лица: лонгобардский король Астульф и Джокондо; первый, гордящийся своей красотой, узнает, что в Риме есть другой, такой же красавец, Джокондо, и приглашает его в Павию: он хочет посмотреть на него и посравнить с собою. Джокондо едет, оставив любящую жену в слезах; вернувшись случайно с пути, чтобы захватить забытый крестик, подарок жены, он застает ее в объятиях другого — и удаляется, не разбудив виновных. Когда он явился к Астульфу, его красота спала: так подействовало на него горе, но он снова расцвел, когда заглянув в скважину одного покоя, увидел королеву в tete-a-tete с противным карлом. Как братья арабской сказки, Астульф и Джокондо идут странствовать; эпизод с демоном заменен другим, также раскрывающим тщету оберега женщины, но более тривиальным: как и обманутые мужья Ариосто решаются идти по свету не затем, чтобы забыться, а чтобы заставить других мужей испытать, что они пережили сами.
Любопытно сходство этой новеллы Ариосто с одной недавно записанной мадьярской сказкой[17]; сходство, объясняемое общностью неизвестного нам восточного источника, к которому восходил, вероятно, и оригинал Серкамби. Как и у Ариосто, одно из действующих лиц — замечательный красавец; королева, увидев его портрет, желает поглядеть на него, и король посылает за ним. Он идет и, как Джокондо, возвращается с пути, ибо забыл свой молитвенник: то же нежданное откровение дома, губительно действующее на его красу. Что следует далее, ближе к рассказу «Тысячи одной ночи»: там Шахземан, здесь красавец видит из окна своей комнаты неверность королевы, и как в арабской сказке, так и здесь любовником является негр. Эпизод с демоном преобразился. Плутая по свету, король и красавец встречают крестьянина с женой, работающих в поле: она шла за плугом, муж возле, изнывая под бременем тяжелого не по силам ящика. Что в нем такое? — спрашивают путники: женщина молчит, но когда муж готовится открыть ящик, она не выдержала: Здесь все, что у меня самого дорогого на свете! Это был ее любовник, который так о себе и заявил.
Так странно исказился древний рассказ о ревнивом и обманутом демоне. Искажался постепенно; не только демон заменен был простым смертным (как у Фрауенлоба и Серкамби), но вместо жены в ларце очутился ее любовник. Может быть, впрочем, и эта черта не поздняя обмолвка: вспомним, что в буддийской джатаке ларец вмещал в себя и жену ракшаса и привлеченного ею гения.
Мы проследили судьбу одной восточной повести от древних источников, еще не успевших влиться в русло Сказок «Тысячи одной ночи», до их европейских литературных и народных отражений. Те же формы и очертания поочередно служили выражением фаталистической идеи — и средневекового ригоризма, беззастенчивой шутки и игривой фантазии Ариосто, которой так под стать восточные мотивы. В его «Неистовом Роланде» та же широко раскидывающаяся декорация, то же обилие красок и невероятных приключений, феи и волшебники и роковая сила любви; но в этой фантасмагории, расплывающейся к окраинам, есть твердое зерно, которого нет в Сказках «Тысячи одной ночи»: мир личности, отзвуки рыцарства, идеалы чести и подвига; не только impeto d’amore, но и disio de laude (XXV, I)[18]; элемент действия и веселой энергии, невольно охватывающей читателя. Иначе в Сказках: нет действия, а есть события, вместо энергии — движение, безотчетно и медленно развертывающееся, как сонная линия каравана, далеко замирающая в степи. В этом впечатлении есть своего рода поэзия — и перевод Галлана дает о ней понятие.