Введение. Общее описание повести, основная идея.
«Ночь перед Рождеством» — выдающаяся повесть Гоголя, множество раз экранизировалась и искренне полюбилась отечественному читателю. Входит в цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» . Невероятные фантастические события и живой язык описания делают повесть яркой и выделяющейся. Она буквально напитана фольклором, народными сказаниями и легендами.
Идейный смысл произведения наиболее полно можно понять, проанализировав взгляды Гоголя. В то время он все больше задумывался над величием демократии над слепым патриархальным укладом современной ему России. Его подпитывали прогрессивные веяния в области литературы и науки. Быт помещиков, их тугодумство и приверженность старым идеалам раздражала Гоголя, и он раз за разом высмеивал их жалкий образ жизни и примитивное мышление.
Очень важно, что в «Ночи перед Рождеством» добро побеждает зло, а свет держит верх над тьмой. Вакула отважен и великодушен, он не трусит и не складывает руки перед лицом трудностей. Именно такими, похожими на бравых былинных героев и хотел Гоголь видеть своих современников. Однако, реальность резко отличалось от его идеализированных представлений.
Автор пытается на примере Вакулы доказать, что только творя хорошие дела, ведя праведный образ жизни можно стать счастливым человеком. Власть же денег и попрание религиозных ценностей приведут человека на самое дно, сделают его безнравственной гниющей личностью, обреченной на безрадостное существование.
Все описание пронизано глубоким авторским юмором. Вспомнить только с какой насмешливой иронией он описывает придворное окружение императрицы. Обителей Петербургского дворца Гоголь изображает как заискивающих и раболепных людей, заглядывающих в рот вышестоящим.
История создания
Книга «Вечера на хуторе близ Диканьки» была издана в 1831 году, тогда же была написана и «Ночь перед Рождеством». Повести цикла рождались у Гоголя быстро и непринужденно. Доподлинно неизвестно, когда Гоголь приступил к работе над повестью, и когда впервые у него родилась идея ее создания. Есть данные о том, что первые слова он нанес на бумагу еще за год до выхода в свет книги. Хронологически события, описанные в повести приходятся на период примерно 50 годами ранее реального времени, а именно царствование Екатерины II и последняя депутация запорожцев.
Анализ произведения
Основной сюжет. Особенности композиционного строения.
(Иллюстрация Бубнова Александра Павловича к Н.В.Гоголю «Ночь перед Рождеством»
)
Сюжет завязан на приключениях главного героя — кузнеца Вакулы и его любви к взбалмошной красавице Оксане. Разговор молодых людей и служит завязкой повести, первая красавица не селе обещает Вакуле замужество в обмен на царские черевички. Девушка вовсе не собирается выполнять данное ею слово, она смеется над юношей, понимая, что тот не сможет выполнить ее поручения. Но, согласно особенности построения жанра сказки, Вакуле удается исполнить желание красавицы, в этом ему помогает черт. Полет Вакулы в Петербург на прием к императрице является кульминацией повествования. Развязкой служит свадьба молодых людей и примирение Вакулы с отцом невесты, с которым у них были разлажены отношения.
В жанровом отношении повесть больше тяготеет к сказочному типу сложения. Согласно законам сказки, мы можем увидеть в финале повествования счастливый конец. Кроме того, множество героев берут свое начало именно из истоков древних русских сказаний, мы наблюдаем волшебство и власть темных сил над миром простых людей.
Образы главных героев
Кузнец Вакула
Главные герои — реальные персонажи, жителя хутора. Кузнец Вакула — настоящий украинский мужчина, вспыльчивый, но вместе с тем исключительно порядочный и честный. Он трудяга, хороший сын для своих родителей и, наверняка, станет отличным мужем и отцом. Он прост с точки зрения душевной организации, не витает в облаках и имеет открытый довольно добрый нрав. Он всего добивается благодаря твердости характера и несгибаемому духу.
Черноокая Оксана — главная красавица и завидная невеста. Она горда и высокомерна, в силу своей юности имеет вспыльчивый темперамент, несерьезна и ветрена. Оксана постоянно окружена мужским вниманием, любима своим отцом, старается одеваться в самые нарядные платья и бесконечно любуется собственным отражением в зеркале. Когда она узнала, что парубки хором провозгласили ее первой красавицей, она стала вести себя подобающим образом, постоянно досаждая всем своими капризами. Но молодых женихов такое поведение только забавляет, и они продолжают гурьбой бегать за девушкой.
Помимо главных героев повести описано множество не менее ярких второстепенных действующих лиц. Мать Вакулы — ведьма Солоха, появившаяся также и в «Сорочинской ярмарке», является вдовой. Привлекательная внешне, кокетливая дама, крутящая шашни с чертом. Несмотря на то, что она олицетворяет собой темную силу, образ ее описан весьма привлекательно и ничуть не отталкивает читателя. Также как и у Оксаны, у Солохи полно обожателей, в том числе иронично изображенный дьяк.
Заключение
Повесть сразу же после выхода в свет была признана необычайно поэтичной, захватывающей. Гоголь настолько умело передает весь колорит украинской деревни, что читателю как будто удается самому погостить там и погрузиться в этот волшебный мир на время прочтения книги. Все идеи Гоголь черпает из народных преданий: черт, укравший месяц, летающая на метле ведьма и так далее. Со свойственной ему художественной манерой он переделывает образы на свой поэтический лад, делая их уникальными и яркими. Реальные события переплетаются со сказочными настолько тесно, что тонкая грань между ними вовсе теряется — это еще одна особенность писательского гения Гоголя, которая пронизывает все его творчество и придает ему характерные черты.
Творчество Гоголя, его наполненные глубочайшим смыслом повести и романы принято считать образцовыми не только в отечественной, но и мировой литературе. Он настолько завладел умами и душами своих читателей, сумел нащупать такие глубинные струны человеческой души, что его творчество заслуженно считают подвижническим.
Последний день перед рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь поступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа 1 . Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.
Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец 2: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.
Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.
В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.
Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.
Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.
Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать.
При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился…
Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..
Что? — произнес кум и поднял свою голову также вверх.
Как что? месяца нет!
Что за пропасть! В самом деле нет месяца.
То-то что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе небось и нужды нет.
А что мне делать!
Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех… Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!
Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:
Так нет, кум, месяца?
Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
Кой черт, славный! — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет!
Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.
Так, пожалуй, останемся дома, — произнес кум, ухватясь за ручку двери.
Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.
Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!
Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.
Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.
Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.
По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — и, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».
Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец, — и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!
«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца…
Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.
Кузнец и руки опустил.
Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.
Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?
Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука, Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток вы’ходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!
Кто же тебе запрещает, говори и гляди!
Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.
Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.
Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.
Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.
Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.
Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.
«Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей всё игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».
Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.
Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»
Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят… Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.
Бог с ними, моя красавица!
Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!
Так тебе весело с ними?
Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.
«Чего мне больше ждать? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу…»
Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» — прервал его размышления.
Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.
Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на рождество колбасу.
Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.
Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.
Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.
Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»
Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваяся задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою.
В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.
Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их.
Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.
В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.
Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, — сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!
Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам.
Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.
Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец.
Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».
Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.
«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:
Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.
Убирайся к черту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!
Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.
Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнес он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно!
Эге! да ты от слов не уймешься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.
Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая.
Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.
Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь.
Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй подойти! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм… оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно… Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!
Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.
В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.
Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.
Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.
Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.
Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.
Видишь, какие захотела! — закричала со смехом девичья толпа.
Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.
Девушки увели с собою капризную красавицу.
Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.
Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.
Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.
Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.
Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провесть вечер с нею.
Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.
Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.
Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый болыпой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.
Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели, Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:
А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.
Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.
Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.
Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.
Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.
Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..
Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.
Ради бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина… трин… Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!
Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.
Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же бог такую ночь перед рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась… эк окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга…
Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.
Отвори! — закричали сильнее прежнего.
Это кузнец! — произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!
Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.
Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.
В то самое время, когда Солоха затворила за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.
Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»
Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.
Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:
Менi с жiнкой не возиться…
Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло:
Щедрик, ведрик! !
Дайте вареник, !
Грудочку кашки, !
Кiльце ковбаски!
Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.
Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.
«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.
А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.
Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше… — произнес он наконец. — Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет… Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»
Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:
Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.
Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.
Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.
Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и божией матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!
Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.
Он повредился! — говорили парубки.
Пропадшая душа! — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. — Пойти рассказать, как кузнец повесился!
Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевесть духа. «Куда я, в самом деле, бегу? — подумал он, — как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»
При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.
Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.
Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.
«Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»
Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.
Я к твоей милости пришел, Пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова.
Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.
Ты, говорят, не во гнев будь сказано… — сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни черту.
Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.
Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать:
К тебе пришел, Пацюк, дай боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! — Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. — Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?
Когда нужно черта, то и ступай к черту! — отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.
Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.
Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.
Сделай милость, человек добрый, не откажи! — наступал кузнец, — свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности… как обыкновенно между добрыми людьми водится… не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?
Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.
Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.
Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».
Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.
«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже выказал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько… Однако что за черт! ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.
Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.
Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься… Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:
Это я — твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.
Кузнец стоял, размышляя.
Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!
Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумки.
Ну, Вакула! — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.
Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хвать черта за хвост.
Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!
Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.
Помилуй, Вакула! — жалобно простонал черт, — все что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!
Куда? — произнес печальный черт.
В Петембург, прямо к царице!
И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.
Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.
Постойте, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.
Это кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.
Все со смехом одобрили такое предложение.
Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.
Постойте, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезем на санках!
И толпа побежала за санками.
Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех… это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.
Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастие наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре. Хотя бы были тут одни паляницы, и то в шмак: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто ни увидел. — Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!
Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.
Куда идешь?
А так, иду, куда ноги идут.
Помоги, человек добрый, мешки снесть! кто-то колядовал, да и кинул посереди дороги. Добром разделимся пополам.
Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?
Да, думаю, всего есть.
Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.
Куда ж мы понесем его? в шинок? — спросил дорогою ткач.
Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. — Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.
Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.
Слава богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум, — черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.
Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.
Кум остолбенел.
Вот тебе на! — произнес ткач, опустя руки.
Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.
Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.
Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!
Лысый черт тебе покажет, а не мы, — сказал, приосанясь, кум.
Тебе какое дело? — сказал ткач, — мы наколядовали, а не ты.
Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.
Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.
Что мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись.
Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.
У вас кочерга, видно, железная! — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, — та ничего… не больно.
Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.
Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.
Кабан! слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А все ты виноват!
Что ж делать! — произнес, пожимая плечами, кум.
Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!
Пошла прочь! пошла! это наш кабан! — кричал, выступая, ткач.
Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! — говорил, приближаясь, кум.
Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.
Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.
Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! — сказал кум, выпуча глаза.
Вишь, какого человека кинуло в мешок! — сказал ткач, пятясь от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!
Это кум! — вскрикнул, вглядевшись, кум.
А ты думал кто? — сказал Чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, — если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.
Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.
Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.
Вот и другой еще! — вскрикнул со страхом ткач, — черт знает как стало на свете… голова идет кругом… не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!
Это дьяк! — произнес изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок… То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков… Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному… Вот тебе и Солоха!
Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.
Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.
Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрыпучему снегу. Множество, шаля, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец проехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.
Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали все, бросившись развязывать.
Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.
Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.
Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.
Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!
В мешке? где вы взяли этот мешок?
Кузнец бросил его посередь дороги, — сказали все вдруг.
«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.
Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!
Голова вылез.
Ах! — вскрикнули девушки.
И голова влез туда же, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, — вишь как!.. !.. — более он ничего не мог сказать.
Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.
Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.
Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» — но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.
Дегтем лучше! — сказал голова. — Ну, прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.
Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак… да где же тот проклятый мешок?
Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.
Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько… Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее — как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.
Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.
Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма… много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне середи улицы.
Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».
Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!
Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.
Здравствуйте, панове! помогай бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошевши близко и отвесивши поклон до земли.
Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.
А вы не познали? — сказал кузнец, — это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!
А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя бог принес?
А так, захотелось поглядеть, говорят…
Что же земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.
Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!
Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.
После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.
К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!
Тебя? — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? Нет, не можно. — При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.
Возьмите! — настаивал кузнец. — Проси! — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.
Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:
Возьмем его, в самом деле, братцы!
Пожалуй, возьмем! — произнесли другие.
Надевай же платье такое, как и мы.
Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.
Чудно’ снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.
«Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло».
Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.
Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!
Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! — рассуждал он, — вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан; а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали…»
Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.
Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились, и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.
Запорожцы отвесили все поклон в ноги.
Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.
Та, вси, батько! — отвечали запорожцы, кланяясь снова.
Не забудете говорить так, как я вас учил?
Нет батько, не позабудем.
Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.
Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.
В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:
Помилуй, мамо! помилуй!
Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.
Встаньте, — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.
Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а на встанем! — кричали запорожцы.
Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.
Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.
Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.
Та спасиби, мамо! Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, — почему ж не жить как-нибудь?..
Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил…
Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:
Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слыхали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слушали, что хочешь поворотить в карабинеры; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию через Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..
Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.
Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.
Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.
Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики!
Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.
Встань! — сказала ласково государыня. — Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами, показывал, что он не принадлежал к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!
Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.
По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.
Як же, мамо! ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам себе, — верно, недаром он это делает».
Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украйне; есть такие, что имеют жен и в Турещине.
В это время кузнецу принесли башмаки.
Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.
Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.
Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлагбаумом.
Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посереди улицы.
Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украла? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!
Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал голова, выходивший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.
Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала ткачиха, — нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.
Срамница! вишь, чем стала попрекать! — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?
Ткачиха вспыхнула.
Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?
Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. — Я дам знать дьяка! Кто это говорит — дьяк?
А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.
Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?
Отвяжись от меня, сатана! — говорила, пятясь, ткачиха.
Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. — Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.
Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.
А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. — Экая мерзость! — повторял он, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..
И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.
Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.
Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.
Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник — как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня… куда же это, в самом деле, запропастился кузнец?
Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, — постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:
Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.
Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его.. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.
Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?
Отдай, батько, за меня Оксану!
Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:
Добре! присылай сватов!
Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.
Погляди, какие я тебе принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.
Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков… — Далее она не договорила и покраснела.
Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.
Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.
А чья это такая размалеванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
Кузнеца Вакулы, — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.
Славно! славная работа! — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.
Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.
Примечания:
1 Колядовать у нас называется петь под окнами накануне рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Замечание пасечника. (Прим. Н.В. Гоголя.)
2 Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец. (Прим. Н.В. Гоголя.)
Стоит ясная морозная ночь накануне Рождества. Светят звёзды и месяц, искрится снег, над трубами хат клубится дымок. Это Диканька, крохотное село под Полтавой. Заглянем в окошки? Вон старый казак Чуб надел тулуп и собирается в гости. Вон его дочка, красавица Оксана, прихорашивается перед зеркальцем. Вон влетает в печную трубу очаровательная ведьма Солоха, радушная хозяйка, к которой любят захаживать в гости и казак Чуб, и сельский голова, и дьяк. А вон в той хате, на краю села, сидит, попыхивая люлькой, какой-то старичок. Да ведь это пасечник Рудый Панько, мастер рассказывать истории! Одна из самых весёлых его историй о том, как чёрт украл с неба месяц, а кузнец Вакула летал в Петербург к царице.
Всех их – и Солоху, и Оксану, и кузнеца, и даже самого Рудого Панька – придумал замечательный писатель Николай Васильевич Гоголь (18091852), и в том, что ему так точно и правдиво удалось изобразить своих героев, нет ничего необыкновенного. Гоголь родился в небольшом селе Великие Сорочинцы Полтавской губернии и с самого детства видел и хорошо знал всё то, о чём позже писал. Отец его был помещиком и происходил из старинного казацкого рода. Николай учился сперва в Полтавском уездном училище, потом – в гимназии в городе Нежине, тоже недалеко от Полтавы; здесь-то он впервые и попробовал писать.
В девятнадцать лет Гоголь уехал в Петербург, служил какое-то время в канцеляриях, но очень скоро понял, что призвание его не в этом. Он начал понемногу печататься в литературных журналах, а чуть позже выпустил и первую книжку «Вечера на хуторе близ Диканьки» – сборник удивительных историй, будто бы рассказанных пасечником Рудым Паньком: о чёрте, укравшем месяц, о таинственной красной свитке, о богатых кладах, которые открываются в ночь накануне Ивана Купалы. Сборник имел огромный успех, очень понравился он и А. С. Пушкину. Гоголь вскоре с ним познакомился и подружился, и в дальнейшем Пушкин не раз помогал ему, например, подсказав (конечно, в самых общих чертах) сюжет комедии «Ревизор» и поэмы «Мёртвые души». Живя в Петербурге, Гоголь издал и следующий сборник «Миргород», куда вошли «Тарас Бульба» и «Вий», и «петербургские» повести: «Шинель», «Коляска», «Нос» и другие.
Следующие десять лет Николай Васильевич провёл за границей, лишь изредка возвращаясь на родину: понемногу жил то в Германии, то в Швейцарии, то во Франции; позже на несколько лет поселился в Риме, который очень полюбил. Здесь был написан первый том поэмы «Мёртвые души». В Россию Гоголь вернулся лишь 1848 году и поселился под конец жизни в Москве, в доме на Никитском бульваре.
Гоголь – писатель очень разносторонний, произведения его такие разные, но объединяет их остроумие, тонкая ирония и добрый юмор. За это больше всего ценил Гоголя и Пушкин: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе…»
П. Лемени-Македон
Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа . Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Ещё ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошёл тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.
Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом чёрными смушками , с дьявольски сплетённою плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил её, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнёт. Он знает наперечёт, сколько у каждой бабы свинья мечет поросёнков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке . Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость . А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только чёрным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звёзды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре ещё блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колёса с Комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец : узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке . Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.
Между тем чёрт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдёрнул её назад, как бы обжёгшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдёрнул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки ; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чём не бывал, побежал далее.
В Диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том всё село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться чёрту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашён дьяком на кутью , где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и ещё кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха , перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всём селе, останется дома, а к дочке, наверное, придёт кузнец, силач и детина хоть куда, который чёрту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всём околотке. Сам ещё тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалёваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь ещё можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалёванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный чёрт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключённые прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал её на большой деревянной доске, чёрт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на всё, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры чёрт поклялся мстить кузнецу.
Ночь перед Рождеством: лучшие рождественские истории
Николай Гоголь
Ночь перед Рождеством
Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа . Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.
Если бы в это время проезжал Сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от Сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с другой стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с Комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец : узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.
Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.
В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на нее, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.
Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко; дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.
Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе на лето нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура – взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.
– Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? – говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы.
– Там теперь будет добрая попойка! – продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. – Как бы только нам не опоздать.
При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут – страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился…
Последний день перед рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь поступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа 1 . Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрып мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрыпучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.
Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец 2: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.
Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.
В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т… церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.
Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.
Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.
Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? — говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. — Там теперь будет добрая попойка! — продолжал Чуб, осклабив при этом свое лицо. — Как бы только нам не опоздать.
При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился…
Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..
Что? — произнес кум и поднял свою голову также вверх.
Как что? месяца нет!
Что за пропасть! В самом деле нет месяца.
То-то что нет, — выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. — Тебе небось и нужды нет.
А что мне делать!
Надобно же было, — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, — какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех… Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!
Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:
Так нет, кум, месяца?
Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
Кой черт, славный! — отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. — Старая курица не чихнет!
Я помню, — продолжал все так же Чуб, — мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.
Так, пожалуй, останемся дома, — произнес кум, ухватясь за ручку двери.
Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.
Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!
Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.
Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.
Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.
По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? — говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. — Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, — продолжала красавица, не выпуская зеркала, — так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! — и, отдвигая несколько подалее от себя зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».
Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец, — и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!
«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, — продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца…
Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.
Кузнец и руки опустил.
Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.
Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?
Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука, Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток вы’ходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!
Кто же тебе запрещает, говори и гляди!
Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.
Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.
Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.
Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на неприметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.
Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.
Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.
«Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей всё игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любуется сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».
Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.
Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»
Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж дивчата не приходят… Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.
Бог с ними, моя красавица!
Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!
Так тебе весело с ними?
Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.
«Чего мне больше ждать? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу…»
Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» — прервал его размышления.
Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.
Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на рождество колбасу.
Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.
Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.
Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посереди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.
Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, — как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это — заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»
Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову, или дядю — толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваяся задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою.
В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.
Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их.
Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.
В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.
Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, — сказал, немного отошедши, Чуб, — я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана!
Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам.
Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.
Чего тебе тут нужно? — сурово закричал вышедший кузнец.
Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, — говорил он про себя, — в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».
Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.
«Нет, не скажу ему, кто я, — подумал Чуб, — чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» — и, переменив голос, отвечал:
Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.
Убирайся к черту с своими колядками! — сердито закричал Вакула. — Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!
Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.
Что ж ты, в самом деле, так раскричался? — произнес он тем же голосом, — я хочу колядовать, да и полно!
Эге! да ты от слов не уймешься!.. — Вслед за сими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.
Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! — произнес он, немного отступая.
Пошел, пошел! — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.
Пошел, пошел! — закричал кузнец и захлопнул дверь.
Смотри, как расхрабрился! — говорил Чуб, оставшись один на улице. — Попробуй подойти! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм… оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно… Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!
Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» — и снова отправлялся в путь.
В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.
Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.
Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.
Э, Одарка! — сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, — у тебя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.
Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.
Видишь, какие захотела! — закричала со смехом девичья толпа.
Да, — продолжала гордо красавица, — будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.
Девушки увели с собою капризную красавицу.
Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, — ну, бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.
Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.
Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.
Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.
Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провесть вечер с нею.
Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.
Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.
Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый болыпой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.
Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели, Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:
А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.
Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха.
Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.
А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.
Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.
Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.
А это что у вас, несравненная Солоха?.. — Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.
Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..
Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.
Ради бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина… трин… Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!
Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.
Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же бог такую ночь перед рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась… эк окостенели руки: не расстегну кожуха! как схватилась вьюга…
Стучит кто-то, — сказал остановившийся Чуб.
Отвори! — закричали сильнее прежнего.
Это кузнец! — произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!
Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.
Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.
В то самое время, когда Солоха затворила за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.
Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»
Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.
Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, черт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. — Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:
Менi с жiнкой не возиться…
Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло:
Щедрик, ведрик! !
Дайте вареник, !
Грудочку кашки, !
Кiльце ковбаски!
Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были провеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.
Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.
«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.
А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.
Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше… — произнес он наконец. — Но боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет… Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»
Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:
Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.
Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.
Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.
Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и божией матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!
Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.
Он повредился! — говорили парубки.
Пропадшая душа! — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. — Пойти рассказать, как кузнец повесился!
Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевесть духа. «Куда я, в самом деле, бегу? — подумал он, — как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»
При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.
Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что, какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и казалось — винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.
Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.
«Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»
Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.
Я к твоей милости пришел, Пацюк! — сказал Вакула, кланяясь снова.
Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.
Ты, говорят, не во гнев будь сказано… — сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанесть какую обиду, — приходишься немного сродни черту.
Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.
Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать:
К тебе пришел, Пацюк, дай боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! — Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. — Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произнес кузнец, видя неизменное его молчание, — как мне быть?
Когда нужно черта, то и ступай к черту! — отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.
Для того-то я и пришел к тебе, — отвечал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.
Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.
Сделай милость, человек добрый, не откажи! — наступал кузнец, — свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности… как обыкновенно между добрыми людьми водится… не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?
Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, — произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.
Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» — безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.
Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, — говорил он сам себе, — как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».
Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.
«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже выказал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько… Однако что за черт! ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.
Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.
Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься… Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:
Это я — твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.
Кузнец стоял, размышляя.
Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!
Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумки.
Ну, Вакула! — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.
Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хвать черта за хвост.
Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!
Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.
Помилуй, Вакула! — жалобно простонал черт, — все что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!
Куда? — произнес печальный черт.
В Петембург, прямо к царице!
И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.
Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицею на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.
Постойте, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.
Это кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.
Все со смехом одобрили такое предложение.
Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.
Постойте, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезем на санках!
И толпа побежала за санками.
Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех… это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.
Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастие наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то добре. Хотя бы были тут одни паляницы, и то в шмак: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто ни увидел. — Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!
Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.
Куда идешь?
А так, иду, куда ноги идут.
Помоги, человек добрый, мешки снесть! кто-то колядовал, да и кинул посереди дороги. Добром разделимся пополам.
Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?
Да, думаю, всего есть.
Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.
Куда ж мы понесем его? в шинок? — спросил дорогою ткач.
Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. — Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.
Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.
Слава богу, мы не совсем еще без ума, — сказал кум, — черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.
Кто там? — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.
Кум остолбенел.
Вот тебе на! — произнес ткач, опустя руки.
Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старее шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подалее от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.
Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.
Вот это хорошо! — сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. — Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!
Лысый черт тебе покажет, а не мы, — сказал, приосанясь, кум.
Тебе какое дело? — сказал ткач, — мы наколядовали, а не ты.
Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! — вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.
Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.
Что мы допустили ее? — сказал ткач, очнувшись.
Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? — сказал хладнокровно кум.
У вас кочерга, видно, железная! — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. — Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, — та ничего… не больно.
Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.
Э, да тут лежит целый кабан! — вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.
Кабан! слышишь, целый кабан! — толкал ткач кума. — А все ты виноват!
Что ж делать! — произнес, пожимая плечами, кум.
Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!
Пошла прочь! пошла! это наш кабан! — кричал, выступая, ткач.
Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! — говорил, приближаясь, кум.
Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.
Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.
Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! — сказал кум, выпуча глаза.
Вишь, какого человека кинуло в мешок! — сказал ткач, пятясь от испугу. — Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!
Это кум! — вскрикнул, вглядевшись, кум.
А ты думал кто? — сказал Чуб, усмехаясь. — Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, — если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.
Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.
Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.
Вот и другой еще! — вскрикнул со страхом ткач, — черт знает как стало на свете… голова идет кругом… не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!
Это дьяк! — произнес изумившийся более всех Чуб. — Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок… То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков… Теперь я все знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному… Вот тебе и Солоха!
Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.
Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, — глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.
Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрыпучему снегу. Множество, шаля, садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец проехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.
Посмотрим, что-то лежит тут, — закричали все, бросившись развязывать.
Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.
Ах, тут сидит кто-то! — закричали все и в испуге бросились вон из дверей.
Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? — сказал, входя в дверь, Чуб.
Ах, батько! — произнесла Оксана, — в мешке сидит кто-то!
В мешке? где вы взяли этот мешок?
Кузнец бросил его посередь дороги, — сказали все вдруг.
«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про себя Чуб.
Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловиче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!
Голова вылез.
Ах! — вскрикнули девушки.
И голова влез туда же, — говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, — вишь как!.. !.. — более он ничего не мог сказать.
Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.
Должно быть, на дворе холодно? — сказал он, обращаясь к Чубу.
Морозец есть, — отвечал Чуб. — А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» — но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.
Дегтем лучше! — сказал голова. — Ну, прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.
Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! — произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. — Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак… да где же тот проклятый мешок?
Я кинула его в угол, там больше ничего нет, — сказала Оксана.
Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! Встряхните его хорошенько… Что, нет?.. Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее — как святая, как будто и скоромного никогда не брала в рот.
Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.
Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма… много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова неслось далее и продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне середи улицы.
Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».
Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!
Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.
Здравствуйте, панове! помогай бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошевши близко и отвесивши поклон до земли.
Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.
А вы не познали? — сказал кузнец, — это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!
А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя бог принес?
А так, захотелось поглядеть, говорят…
Что же земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.
Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!
Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.
После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.
К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!
Тебя? — произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? Нет, не можно. — При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицей толковать про свое.
Возьмите! — настаивал кузнец. — Проси! — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.
Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:
Возьмем его, в самом деле, братцы!
Пожалуй, возьмем! — произнесли другие.
Надевай же платье такое, как и мы.
Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.
Чудно’ снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.
«Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло».
Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.
Что за лестница! — шептал про себя кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!
Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! — рассуждал он, — вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан; а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали…»
Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.
Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились, и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.
Запорожцы отвесили все поклон в ноги.
Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.
Та, вси, батько! — отвечали запорожцы, кланяясь снова.
Не забудете говорить так, как я вас учил?
Нет батько, не позабудем.
Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.
Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.
В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:
Помилуй, мамо! помилуй!
Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.
Встаньте, — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.
Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а на встанем! — кричали запорожцы.
Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.
Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами, и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.
Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. — Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала она, подходя ближе.
Та спасиби, мамо! Провиянт дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, — почему ж не жить как-нибудь?..
Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил…
Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:
Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слыхали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слушали, что хочешь поворотить в карабинеры; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию через Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..
Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.
Чего же хотите вы? — заботливо спросила Екатерина.
Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.
Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики!
Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.
Встань! — сказала ласково государыня. — Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами, показывал, что он не принадлежал к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!
Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.
По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.
Як же, мамо! ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он сам себе, — верно, недаром он это делает».
Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скоромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украйне; есть такие, что имеют жен и в Турещине.
В это время кузнецу принесли башмаки.
Боже ты мой, что за украшение! — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.
Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.
Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился за шлагбаумом.
Утонул! ей-богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посереди улицы.
Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украла? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? — кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!
Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал голова, выходивший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.
Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! — отвечала ткачиха, — нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.
Срамница! вишь, чем стала попрекать! — гневно возразила баба с фиолетовым носом. — Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?
Ткачиха вспыхнула.
Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?
Дьяк? — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. — Я дам знать дьяка! Кто это говорит — дьяк?
А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.
Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?
Отвяжись от меня, сатана! — говорила, пятясь, ткачиха.
Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. — Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.
Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.
А, скверная баба! — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. — Экая мерзость! — повторял он, продолжая обтираться. — Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..
И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.
Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.
Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.
Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частию в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник — как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня… куда же это, в самом деле, запропастился кузнец?
Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, — постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:
Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.
Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его.. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.
Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?
Отдай, батько, за меня Оксану!
Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:
Добре! присылай сватов!
Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.
Погляди, какие я тебе принес черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.
Нет! нет! мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков… — Далее она не договорила и покраснела.
Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.
Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.
А чья это такая размалеванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
Кузнеца Вакулы, — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.
Славно! славная работа! — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.
Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака намалевана!» — и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.
Примечания:
1 Колядовать у нас называется петь под окнами накануне рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. Замечание пасечника. (Прим. Н.В. Гоголя.)
2 Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец. (Прим. Н.В. Гоголя.)
В «Вечерах» выразился «идеальный мир» автора. Жизнь украинского народа, реальная Диканька являются у Гоголя волшебно преображенными. Романтизм «Вечеров» жизнен, своеобразно «объективен». Гоголь поэтизирует ценности, действительно существующие. Основой эстетического идеала Гоголя является утверждение полноты и движения жизни, красоты человеческой духовности. Гоголя привлекает все сильное, яркое, заключающее избыток жизненных сил. Этот критерий определяет характер описаний природы. Гоголь делает их предельно, ослепительно яркими, с поистине расточительной щедростью рассыпает изобразительные средства. Природа воспринимается Гоголем как огромный, одухотворенный, «дышащий» организм. Описания природы пронизывает мотив гармонического союза: «… голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих!». В единении с «царственной» красотой природы находится духовный мир автора, переживающего состояние предельного восторга и экстаза. Поэтому описания природы в «Вечерах» основаны на явном или скрытом параллелизме: «А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине».
Своеобразие авторской позиции Гоголя раскрывается и в способности «мило прикинуться» (Белинский) старым «пасичником», якобы собравшим и издавшим повести, а также другими рассказчиками. Используя манеру романтической «игры» и «притворства», Гоголь передает словоохотливую, «болтливую» речь «пасичника», его простодушное лукавство, затейливость беседы с читателем. Благодаря разным рассказчикам (дьяк Фома Григорьевич, панич в гороховом кафтане, Степан Иванович Курочка и др.), из которых каждый имеет свой тон и манеру, повествование получает то лирический, то комедийно-бытовой, то легендарный характер, что и определяет жанровые разновидности повестей. Вместе с тем «Вечера» отличаются единством и цельностью, которые создаются образом автора. Под видом разных рассказчиков выступает единый автор, его романтическое мировосприятие объединяет лирико-патетическое и юмористическое видение.
Характер народности «Вечеров» помогают глубже понять более поздние по времени статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине» и «О малороссийских песнях». В суждениях о народности Гоголь использовал и развивал достижения просветительской и романтической эстетики. Свою современность писатель называл эпохой «стремления к самобытности и собственно народной поэзии». С романтической эстетикой Гоголя роднят сближение народного и национального, а также понимание народности как преимущественно духовной категории: «Истинная национальность» состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Однако Гоголь идет дальше романтиков: он конкретизирует понятие «народного духа» и видит народность искусства в выражении народной точки зрения: «Поэт… может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа…». Здесь Гоголь предваряет Белинского и реалистическую эстетику 2-й половины 19 века.
Вместе с тем в «Вечерах» народность выступает еще в границах романтической художественной системы. Не давая всесторонней картины народной жизни, «Вечера» раскрывают ее поэзию. Не случайно Белинский писал: «Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя». Народ здесь предстает в своем «естественном» и вместе с тем «праздничном» состоянии. Духовный мир, переживания гоголевских героев (Левка и Ганны, Грицка и Параски, Вакулы) отмечены «печатью чистого первоначального младенчества, стало быть — и высокой поэзии», которой сам писатель восхищался в произведениях фольклора, песенной романтикой овеяно изображение их юной любви: «Галю! Галю! ты спишь или не хочешь ко мне выйти?.. Не бойся: никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит». В «Вечерах» разлита и атмосфера песен, танца, праздника, ярмарочного веселья, когда улицы и дороги «кипят народом».
Фольклорное начало ощутимо в фантастике «Вечеров». Гоголь изображает жизнь, преображенную народной фантазией. Однако фантастическое — не просто «объект изображения». Оно ценно для Гоголя свободным, творческим преображением мира, верой в его «чудесность» и поэтому соприкасается с определенными гранями эстетического идеала писателя. Создавая радостный мир мечты, Гоголь нередко обращается к «нестрашной», комической фантастике, так часто встречающейся в народных сказках. Фантастические персонажи в «Вечерах» могут помогать человеку (панночка-утопленница в «Майской ночи») или же пытаются ему навредить, но при этом чаще всего оказываются побежденными смелостью, умом, смекалкой гоголевских героев. Кузнец Вакула смог подчинить себе «нечистую силу», оседлал черта и отправился на нем в Петербург добывать черевички у самой царицы для гордой Оксаны. Выходит победителем из поединка с «пеклом» и дед, герой «Пропавшей грамоты». Яркий комический эффект производит гоголевский прием «обытовления» фантастического. Черти и ведьмы в «Вечерах» перенимают ухватки, манеру поведения обыкновенных людей, вернее — комедийных персонажей. «Черт… не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны; брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит в самое пекло». Дед («Пропавшая грамота»), попав в пекло, видит там ведьм, разряженных, размазанных, «словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского трепака. Пыль подняли боже упаси какую!». Ведьма играет с дедом в «дурня», карты принесли «замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов».
В двух повестях («Вечер накануне Ивана Купала» и «Страшная месть») фантастическое приобретает зловещий (в последней — с оттенком мистического) характер. Фантастические образы здесь выражают существующие в жизни злые, враждебные человеку силы, прежде всего — власть золота. Однако и в этих повестях развертывается история не торжества, а наказания зла и таким образом утверждается конечная победа добра и справедливости.
В «Вечерах» Гоголь довел до совершенства романтическое искусство перевода обыкновенного в необыкновенное, превращения действительности в сновидение, в сказку. Границы между действительным и фантастическим у Гоголя неуловимы — разве чуть усиливаются музыкальность и поэтичность авторской речи, она незаметно проникается переживаниями героя и как бы освобождается от конкретности и «телесности», становится легкой, «невесомой». В «Майской ночи»: «Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы, усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась… «Нет, эдак я засну еще здесь!» — говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось к блеску месяца…» — и далее реальное все более «отступает» и развертывается чудесный сон Левка. Поэзия Гоголя в его первой книге знает не только таинственную музыку романтической мечты, но и сочные, сверкающие краски (описание летнего дня в Малороссии).
Буйство красок, обилие света, его игры, резкие контрасты и смена ослепительно ярких, светлых и темных тонов «овеществляют» романтические идеи сборника, несут в себе жизнеутверждающую, мажорную устремленность.
В изображении народной жизни в «Вечерах», собственно, нет противопоставления поэзии и прозы. Проза еще не выступает угрозой духовному. Красочные бытовые детали здесь — это не «быт» в прозаически-мещанском смысле слова, они сохраняют экзотическую необычность и укрупненность, например, картина сельской ярмарки, «когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит…». Такую же яркость и необычность заключают описания еды и различных кушаний. Поэтому они вызывают комическое, но отнюдь не негативное впечатление: «Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, забожусь, лучшего не сыщете на хуторах… Как внесешь сот — дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой… А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если бы вы только знали: сахар, совершеннейший сахар!».
В первом сборнике Гоголя еще царит атмосфера целостности и гармонии, хотя где-то уже намечается тенденция ее разрушения. Грустные ноты звучат в концовке «Сорочинской ярмарки». Во вторую часть «Вечеров» включена повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Стихия народной поэзии, свободы, веселья, атмосфера сказки сменяются здесь изображением прозаических, будничных сторон жизни, значительной становится роль авторской иронии. Герои повести отличаются духовным убожеством. Пребывая в пехотном полку, Иван Федорович «упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постеле». Резко меняются и способы изображения. Исчезают динамика и напряженность событий, заменяясь «неподвижностью» и однообразием сцен, приглушаются яркие тона. На фоне жалкой «существенности» в виде Шпоньки и его незамысловатого житья-бытья оказывается тем более подчеркнутым, тем более «сияющим» романтический мир других повестей. Вместе с тем диссонирующее звучание «Ивана Федоровича», оттеняя сказочный характер романтики «Вечеров», является напоминанием о неприглядности той действительности, которая существует реально. вечер диканька миргород гоголь
«Вечера» были в целом одобрительно встречены критикой. Но по-настоящему понять новаторство Гоголя смогли не многие. Первым из них был Пушкин, давший восторженный и вместе с тем проницательный отзыв о «Вечерах», отметивший их оригинальный юмор, поэтичность, демократизм: «Сейчас прочел Вечера близ Диканъки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! <...> Мне сказывали, что когда издатель (Гоголь) вошел в типографию… то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков».
Сборник «Миргород» как этап развития романтизма и утверждения реализма Гоголя
«Миргород» — важная веха как в эволюции романтизма Гоголя, так и в формировании и утверждении его реализма. Гоголь назвал сборник продолжением «Вечеров». В структуре «Миргорода» нашел продолжение романтический универсализм «Вечеров», мир здесь поистине «необъятно раздвинулся» во времени и пространстве, включив в себя историю, недавнее прошлое, современность. Как и «Вечера», «Миргород» организован единой поэтической мыслью, но теперь это не идея цельности и гармонии, но идея разъединения. Резкое противопоставление яркого, поэтического мира, возможного лишь в прошлом или в народной фантазии, и жалкого, «раздробленного» настоящего свидетельствует об углублении трагичности мировосприятия Гоголя.
«Вий» близок к «Вечерам» в жанровом отношении (фантастическая повесть, основанная на фольклорных источниках), но романтизм Гоголя предстает здесь в новом качестве. Обостренная контрастность восприятия жизни приводит к характерному для романтизма двоемирию. Движение повести основано на резких переходах от дневного, ясного и обычного мира к ночному, таинственному, исполненному одновременно ужаса и очарования. Выдержанные в тоне грубоватого юмора, изобилующие бытовыми реалиями сцены в дворницкой контрастируют с ночными приключениями Хомы. Столкновение противоречий в «Вие» доведено до трагизма, причем, в отличие от такой повести, как «Страшная месть», зло остается если не вполне торжествующим, то безнаказанным.
В «Вие» постепенно нарастает атмосфера тоски и ужаса. Ночи, проведенные Хомой в церкви, становятся все более страшными. После второго чтения над гробом герой седеет. Когда Хома с провожатыми идет в третий раз в церковь, «ночь была адская. Волки выли вдали целой стаей. И самый собачий лай был как-то страшен. «»Кажется, как будто что-то другое воет: это не волк», — сказал Дорош». Страх побеждает и, в конце концов, убивает невозмутимого и веселого философа. Трагичность повести выражается и в появлении темы зла, скрывающегося в образе красоты. Этой темы не было в «Вечерах». Там зло всегда было отвратительным, отталкивающе уродливым (колдун в «Страшной мести», ведьма в «Вечере накануне Ивана Купала»). В образе панночки-ведьмы в «Вие» Гоголь соединяет как будто несоединимое: поразительную, совершенную красоту и зло, мстительную жестокость. В прекрасных чертах мертвой панночки Хома видит «… что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к самому сердцу». «Сверкающая» красота становится страшной. И рядом с этим образом появляется образ «угнетенного народа» (в других вариантах — «песни похоронной»). Тема злой красоты возникает в творчестве Гоголя как ощущение разрушения гармонии жизни.
«Тарас Бульба». При контрастности построения в «Миргороде» получает дальнейшее выражение и развитие «идеальный» мир Гоголя. В «Тарасе Бульбе» опоэтизирована история украинского народа, его героическая национально-освободительная борьба. Появление «Тараса Бульбы» в системе «Миргорода», так же как горячий интерес Гоголя к истории, генетически связаны с достижениями романтического историзма, который обогатил искусство идеей развития, сыгравшей в дальнейшем большую роль и в формировании реализма XIX в. Исторические воззрения Гоголя изложены в статьях, помещенных в «Арабесках». Восходя к наиболее прогрессивным течениям романтической исторической мысли и продолжая просветительские традиции, взгляды Гоголя развивались в реалистическом на правлении. В истории Гоголь усматривал высокую поэзию и общественно-нравственный смысл. История является не скоплением фактов, но выражением развития всего человечества. Поэтому «предмет ее велик». В духе французской историографии (Тьерри, Гизо) Гоголь выдвигает идею причинно-следственных связей. События мира, считает он, «тесно связаны между собой и цепляются одно за другое, как кольца в цепи». Диалектичность исторических взглядов Гоголя особенно видна в статье «О средних веках». Здесь блестяще раскрывается переходный характер средневековья, завершающегося в Европе образованием мощных централизованных государств, грандиозными научными и техническими изобретениями, географическими открытиями. История становится выражением судеб огромных человеческих коллективов. Действия же выдающейся личности велики и оказывают влияние на ход исторических событий тогда, когда они связаны с пониманием национальных потребностей и интересов (статья «Ал-Мамун»). В то же время зрелище великих исторических событий повергает Гоголя в состояние восторженного изумления перед «мудростью провидения». В истории, в сцеплении ее событий Гоголь видит нечто «чудесное». Здесь сказываются как религиозные воззрения писателя, так и свойственное романтикам возвышение созидательных сил жизни, ее творящей «души».
Гоголь близок к романтикам и в способе рассмотрения исторического материала, разделяет романтическую идею о стирании граней между наукой и искусством. Историческое сочинение должно быть увлекательным художественным повествованием. В истории для Гоголя важны не столько факты, важно «узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа», раскрыть духовное содержание эпохи, характер и «душу» народа. И поэтому огромное значение приобретают народные легенды, сказания, песни, впитавшие в себя это духовное содержание.
Суждения Гоголя тесно связаны с его исторической прозой, прежде всего с «Тарасом Бульбой». Повесть имеет две редакции. Во-первых, редакцию «Миргорода». Впоследствии Гоголь значительно переработал ее, углубил исторический колорит и изображение народа, развил эпопейные черты повествования. В новой редакции повесть вошла в Собрание сочинений Гоголя 1842 г. О творческом методе писателя существуют различные мнения. Одни исследователи считают это произведение реалистическим, другие — романтическим. Очевидно, наиболее правильным будет отнести 1-ю редакцию к романтизму. Во 2-й же при сохранении ряда романтических черт усиливается реалистическое начало.
В статье «Взгляд на составление Малороссии», говоря об украинском казачестве XIV—XV вв., Гоголь пишет: «Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею; когда каждый… стремился быть действующим лицом, а не зрителем». Эти слова помогают понять замысел «Тараса Бульбы». В них содержатся скрытое противопоставление прошлого и настоящего и упрек современному поколению, утратившему былую активность. Работая над повестью, писатель ставил перед собой большие нравственные, воспитательные задачи. Славные страницы истории украинского народа давали возможность Гоголю наиболее полно раскрыть мир своего идеала, расширить его по сравнению с «Вечерами», включить в него утверждение красоты действия, героики освободительной борьбы. Запорожская Сечь изображена как стихийная, естественная демократия, «странная республика», не знающая писаных законов, управляемая самим народом (сцена выбора кошевого). Гоголевская Сечь становится воплощением «воли и товарищества». Гоголь рисует содружество людей разных возрастов, званий, образования. Чувства свободы и братского союза являются источником той «бешеной веселости», гульбы и пиршества, которые царят в Сечи.
Цельная, демократическая Сечь противопоставлена сословному и суетному миру королевской Польши. Конфликт Сечи и Польши предстает в повести (особенно во 2-й редакции) как конфликт двух различных общественных систем, культур, цивилизаций. Польские «рыцари» — дворяне, аристократы, чванящиеся родом или богатством. Гоголь подробно описывает их пышные наряды, подчеркивая таким образом тщеславие, надменность, стремление к роскоши польского панства. Описывая поляков и запорожцев при осаде Дубно, Гоголь создает многозначительный контраст: разноцветные, сверкающие золотом и драгоценными каменьями ряды польских шляхтичей на крепостном валу и запорожцы, которые «… стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях и ружейных оправах. Не любили козаки богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты…».
Великой целью казачества становится освобождение родины. При этом если в 1-й редакции казаки защищали Сечь, то во 2-й родина ассоциируется со всей русской землей, утверждается единство украинского и русского народов.
Национально-освободительная борьба в изображении Гоголя объединяет все сословия: «… Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, — поднялась отомстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение, за оскорбление веры предков и святого обычая…». Народное и национальное для писателя в данном случае синонимичны.
Подобно многим романтикам, Гоголь не стремится к хронологической точности — время, изображенное в повести, содержит события, в действительности происходившие в XV, XVI, XVII вв. История осваивается Гоголем прежде всего в ее духовной сущности. Гоголь не говорит о сложном социальном составе Сечи, почти не изображает социального расслоения казачества, он показывает его как целостность и стремится раскрыть общую «духовную атмосферу» героического времени.
Борьба украинского народа с польскими угнетателями раскрывается Гоголем в ее высоком нравственном содержании. Приукрашивания прошлого у Гоголя нет. В «грубой прямоте» нравов казачества отражается «могучий широкий размах» русского характера, черты «свирепого», но и «отважного» века. В простых, цельных натурах героев живет дух непокорства и мятежности. В повести продолжены декабристские традиции. Благодатным предметом для русского исторического романа декабристы считали эпохи междоусобий и освободительных войн, которые «закаливали нравы опасностями», придавали «исполинские черты» характерам. По сходной мысли Гоголя так сформировались и героические черты казачества, которое есть «необычное явление русской силы».
Писатель высказывает глубоко верную мысль о том, что «вечная борьба и беспокойная жизнь» казаков «спасли Европу от неукротимых стремлений кочевников, грозивших ее опрокинуть».
Характерные черты казачества выражены в личности Тараса Бульбы. В редакции «Миргорода» его образ выступал в романтическом ореоле. Бульба явственно выделялся среди других персонажей титаническими размерами своей личности. В битве под Дубно он «отличается», как «гигант». Действиями Тараса словно руководит сила исторического возмездия. Во 2-й редакции Гоголь усилил реалистические черты образа, придал ему большую конкретность и мотивированность, сохранив монументальность и былинный колорит. Тарас показан сыном своего времени, он «был один из числа коренных старых полковников: весь он был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава». Он предан простым, суровым законам Сечи и презирает тех своих товарищей, которые перенимали польские обычаи, «заводили роскошь». Родине он отдает всего себя, свою жизнь и жизнь своих близких. Не колеблясь, твердой рукой казнит сына, предавшего свой народ. И вместе с тем Бульба показан в своей глубокой человеческой нежности и тоске по другому сыну, не посрамившему отцовской чести. В сцене казни Остапа образ Тараса приобретает подлинно трагическое величие. Сдержанный и строгий психологический рисунок Гоголя дает возможность ощутить и силу скорби, сжимающей сердце отца, и огромную гордость за сына, которого он поддерживает в самый страшный момент своим «Слышу!». Просветленным трагизмом овеяно изображение конца героя. Он умирает, предрекая грядущую победу своего народа.
Таким образом, и во 2-й редакции Гоголь не отказывается от поэтизации героики отдельной личности. Но великое новаторство Гоголя — в изображении героизма массы. Во 2-й редакции Тарас показан одним из многих. В сцене сражения под Дубно, являющейся кульминационной в повести, созданы краткие, но выразительные характеристики целой фаланги замечательных героев: Мосия Шила, Степана Гуски, Кокубенка, Балабана, Бовдюга и др. Писатель выбирает характерные детали их прошлого и яркими штрихами рисует доблесть в бою и прекрасную смерть: «Поникнул он (Балабан) … головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: «Сдается мне, паны-браты, умираю хорошею смертью; семерых изрубил, девятерых копьем исколол… Пусть же цветет вечно Русская земля!..». И отлетела его душа… Повел Кокубенко вокруг себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!». И вылетела молодая душа». Изображением массового народного героизма как главной темы «Тарас Бульба» отличается не только от романтической литературы 20—30-х годов, но и от произведений Пушкина. Впервые в русской литературе на главное место выдвигается непосредственно народ, он становится центральным героем повести.
Реалистический историзм Гоголя во 2-й редакции проявляется и в объективности и масштабности изображения Сечи, раскрытии тех глубинных процессов, которые происходили в ней и в результате приводили к ее ослаблению. Это история Андрия.
В изображении любви Андрия Гоголь продолжает литературный сюжет, обладающий острой конфликтностью, — любовь двух людей, принадлежащих к различным цивилизациям, но доводит его до «абсолютного» выражения. Отдавшись любви, ослепленный ею, Андрий не только уходит от своих, но сражается против них во вражеском войске. Перерабатывая повесть, Гоголь исключил моменты, снижающие образ Андрия. Его любовь — это могучая романтическая страсть, давшая ему ощущение того, «что один только раз в жизни дается чувствовать человеку». В безудержности и безоглядности любви Андрия раскрывается «несокрушимость» казачьей натуры, «решимость на дело неслыханное и невозможное для других». По справедливой мысли СМ. Петрова, великий гуманист Гоголь «указывает на бесчеловечность и жесто- кость таких отношений между народами, при которых, — говоря его словами, — диво дивное — любовь — приводит к измене и смерти сына от руки отца». И вместе с тем в этическом пафосе повести индивидуальное без колебания приносится в жертву общему: родине, национально-освободительной борьбе, народной сплоченности. «Нет уз святее товарищества!» — эта идея проходит через всю повесть и вдохновенно звучит в знаменитой речи Тараса. В этом аспекте казнь Андрия оказывается жестокой, но справедливой.
Народно-героический пафос определил сложный, по-своему уникальный жанр «Тараса Бульбы». До сих пор мы пользовались термином «повесть». Элементы исторической повести или романа действительно присущи «Тарасу Бульбе». Гоголь следовал некоторым традициям романов В.Скотта, получивших высокую оценку и самого писателя, и в русской критике 20—30-х годов. Эти традиции сказались в изображении местного колорита, обстоятельности описаний. Но наряду с этим исследователи справедливо говорят о наличии в «Тарасе Бульбе» черт героической эпопеи. На это указал еще Белинский: «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!..». Эпопейное начало проявляется в поэтике и стиле «Тараса Бульбы»: былинном размахе и масштабности, гиперболизме художественных обобщений; торжественном, лирико-патетическом тоне повествования; в формах ритмизированного сказа; в «растворении» автора в образе народного певца, бандуриста; в широчайшем использовании фольклорных приемов (повторов, параллелизма, символики и метафорических образов, например, образ битвы-пира или троекратное обращение Тараса к куренным атаманам во время битвы под Дубно и их троекратный же ответ). Историческая эпопея Гоголя — явление совершенно новое и оригинальное в русской литературе.
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Фантастический и героический мир «Миргорода» находится как бы «внутри» сборника. Обрамляют же его повести «Старосветские помещики» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», раскрывающие современную жизнь. При этом если «положительным полюсом» контраста, пронизывающего «Миргород», оказывается «Тарас Бульба», то «отрицательным» становится «Повесть о том…». Изображенная в ней действительность может выглядеть как жалкая пародия на героическое прошлое. Иван Иванович и Иван Никифорович — пошлые миргородские обыватели, лишенные духовного содержания и интересов и в то же время преисполненные дворянской спеси и чванства. Символом дворянского достоинства для них становится старое ружье, которое хранится у Ивана Никифоровича вместе со всяким хламом и которое во что бы то ни стало хочет приобрести Иван Иванович (в отличие от Ивана Никифоровича, он не потомственный дворянин, поэтому приобретение ружья для него — некое самоутверждение). Со своей стороны Иван Никифорович оскорблен тем, что сосед предлагал за ружье бурую свинью: «Это таки ружье — вещь известная; а то черт знает что такое: свинья». Дружба двух соседей, так умилявшая окружающих, внезапно обрывается из-за пустяка: из-за «поносного» для дворянского звания и чести слова «гусак», которым в пылу спора назвал Иван Никифорович Ивана Ивановича. Конфликт, таким образом, раскрывает не драматизм, а убожество изображаемой жизни. Это столкновение внутри самой же пошлости. Оно с самого начала имеет нелепый характер и далее обрастает все большими нелепостями, вроде похищения бурой свиньей прошения Ивана Никифоровича. Бывшие друзья изощряются, делая друг другу мелкие гадости, и, наконец, затевают судебную тяжбу, которая становится смыслом их жизни и разоряет их. «Дедовские карбованцы» из «заветных сундуков» переходят в «запачканные руки чернильных дельцов». Бесконечная тяжба свидетельствует о чиновничьих порядках — судебной волоките и крючкотворстве.
Гоголь развивает в повести манеру иронического притворства, начатую в «Вечерах». Повествование ведется от лица якобы такого же обывателя, как и герои. Этот, по словам Белинского, «простачок» видит в них «достойных мужей» Миргорода, его «честь и украшение». То умиляясь, то захлебываясь от восторга, он живописует бекешу Ивана Ивановича, его дом, «тонкое» обращение, образ жизни двух друзей, любимые кушанья. Восхищение рассказчика вызывают явления ничтожные и прозаические. Он впадает в патетику при описании миргородской лужи, плетня, на котором висят горшки, здания суда, имеющего «целых восемь окошек», — и это создает острейший комический эффект.
Глуповато-наивное обывательское мышление рассказчика само становится объектом иронического, часто гротескового изображения и великолепно раскрывается в стиле речи, ее алогизмах, нелепых ассоциациях, смешной патетике и гиперболах. Например: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки! сизые с морозом! … Господи Боже мой! Николай Чудотворец, угодник Божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, что откусила ухо у заседателя». Однако в финале повести автор сбрасывает ироническую маску, и «забавный» рассказ уступает место печальным лирическим раздумьям над жизнью. Резко меняются тональность повествования, его краски: вместо жаркого, солнечного, обильного лета (начало повести) — картина осени, «скучных, беспрерывных дождей», «больного дня». Повесть обрывается на ноте щемящей грусти: «Опять то же поле… мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа!».
Сюжет повести восходит к роману В.Т. Нарежного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (1825). Гоголь продолжил и развил обличительную и сатирическую традицию этого писателя. Однако в романе Нарежного характеры, развитие сюжета, картины быта отличались схематичностью. У Гоголя, по словам И.А. Гончарова, они «ожили реально». Бытовая насыщенность повести раскрывает бездуховность героев. Для Гоголя, как и для романтиков, духовное в современном мире все более вытесняется вещами. Скопление вещей, обилие предметных описаний (например, сцена проветривания платья Ивана Никифоровича или съезд бричек и повозок с гостями на ассамблею к городничему) вместе с тем приобретают характер причудливый и странный, граничат с фантастикой. От романтической традиции у Гоголя и нарочитая подмена явлений духовной жизни «физическими», например, сравнение:«приятности» впечатления от ораторского дара Ивана Ивановича с ощущением, «когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке», а также «растительные» уподобления: голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз, а у Ивана Никифоровича — на редьку хвостом вверх. У него же нос в виде спелой сливы и т.д.
Особенность изображения жизни в повести в том, что она раскрыта только как царство духовного убожества, т.е. однозначно. Но этот во многом восходящий к романтизму способ изображения содержит громадный критический потенциал. Гоголь обнажает нравственное существо мещанства, его самодовольную тупость и злобную эгоистическую природу, таящуюся под внешней благопристойностью. Действительность раскрывается в своих типических проявлениях. Романтическое переходит, «переливается» в реалистическое.
«Старосветские помещики». Наиболее глубоко и полно реалистическое начало в «Миргороде» выразилось в «Старосветских помещиках». Исследователи усматривали в этом произведении то сатиру, то идиллию. Разногласия объясняются сложностью художественного мира повести, в которой выступает «многомерный» взгляд на действительность. Безмятежность жизни старичков имеет для автора неизъяснимую прелесть. Он любит «на минуту» сойти в ее сферу, отказываясь от «дерзких мечтаний», влекущих в другой, большой мир шумных городов, современных интересов. Отсюда умиленное изображение быта героев — от маленьких комнат до поющих дверей — их доброты, радушия, патриархальности и непрактичности, в отличие от неприглядного предпринимательства «страшного реформатора» — их наследника.
Однако противопоставление мотивов покоя, безмятежности и «дерзких мечтаний» лишено однозначности. Идиллическое изображение жизни не только не скрывает ее убожества, но, напротив, обнажает его. Идиллия граничит с иронией. Герои «вросли» в свое прозябание. В монотонном существовании, в мелочных заботах, в поедании заготовленных припасов для них заключается весь смысл жизни. Но здесь мы встречаемся с новой сложностью художественного мира повести. В конечном итоге в «низменной» жизни обнаруживается не только «буколическая» тишина, но и поэзия, и драматизм.
Г.А. Гуковский справедливо писал, что главной темой «Старосветских помещиков» является любовь. Центральный эпизод — смерть Пульхерии Ивановны. Это трагическое событие обнаруживает взаимную трогательную любовь героев, открывающуюся, соответственно, в поведении Пульхерии Ивановны перед ее смертью и Афанасия Ивановича после кончины супруги. В предчувствии кончины Пульхерия Ивановна «не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, <...> она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным». На подлинно поэтическую и трагическую высоту поднимается и Афанасий Иванович в сцене похорон Пульхерии Ивановны: «Гроб опустили… работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сровняла яму — в это время он пробрался вперед; все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! зачем?!»… Он остановился и не докончил своей речи…». ГА. Гуковский называет это «зачем?!» одной «из тех кратчайших формул поэзии, по которой познается истинный гений художника». Незамысловатая фраза потрясает безграничностью и искренностью заключенной в ней скорби.
И далее в повести вновь возникает уже отмеченный нами контраст двух миров. Приводится история некоего молодого человека, «исполненного истинного благородства и достоинств», стоящего на вершине духовной культуры. В его истории все доведено до какой-то предельной эмоциональной высоты. Юноша испытывает подлинную романтическую страсть. Он был влюблен «нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно». «Предельность» характеризуют и его переживания после смерти любимой: его «палящую тоску», «пожирающее отчаяние», двойную попытку покончить с собой. Однако прошел год — и автор увидел его в «многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «петит-уверт», и за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его…». Грандиозная, одухотворенная страсть не выдержала испытания временем. Параллельно, дается завершение истории Афанасия Ивановича, которого автор посещает через пять лет после смерти Пульхерии Ивановны. Его образ вновь возникает на будничном, «материальном» фоне. Безграничное горе его прорывается во время… обеда: «»Вот это то кушанье, — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною, — это то кушанье», — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое по… по… покой… покойни…» — и вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась… соус залил его всего; он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно точущий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку». Музыкальность фразы, поэтическое сравнение слез с «немолчно точущим фонтаном» создают ощущение высокого драматизма ситуации.
Сами герои не осознают красоты и величия своей любви. Кроме того, и любовь выступает в «низменном облачении» «почти бесчувственной» привычки. Отсюда сложность лирического настроения, пронизывающего повесть: юмора, смешанного с грустью, или «смеха сквозь слезы».
Литература
Бахтин М.М. Рабле и Гоголь. Искусство слова и народная смеховая культура // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Дмитриева Е.Е. Стнрнианская традиция и романтическая ирония в Вечерах. Известия РАН. Сер. Лит и яз. Т.51. № 3. 1992. С. 18-28.
Манн Ю.В. Смелость изобретения. Черты художественного мира Гоголя. М., 1985.
Машинский С. Художественный мир Гоголя. М., 1979.
Переверзев В.Ф. Творчество Гоголя // Переверзев В.Ф. Пушкин, Гоголь, Достоевский. М., 1982.
Степанов Н.Л. Ранний Гоголь-романтик. // Н.В. Гоголь. Собр. соч. в 7 т. Т.1. М., 1976.
Айхенвальд Ю. Силуэт русских писателей. М., 1994
Н. В. Гоголь: Книга для ученика и учителя. М., 1996
Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1998
Повесть «Сорочинская ярмарка» завершается описанием свадьбы: «От удара смычком музыканта в сермяжной свитке… все обратилось к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами… Все неслось, все танцевало…» Но вот «гром, хохот, песни слышатся все тише и тише, смычок умирает, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха… Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит он уже грусть и пустынно и дико внемлет ему… Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему…».
Это написано в 1829 г. Гоголю всего 20 лет, но какую странную гармонию образует резкая смена настроений повествователя! В этом раннем произведении выразилось то, что станет эмоциональной доминантой всего творчества писателя. Эмоциональнонравственное колебание между меланхолией и весельем, между горькими сомнениями и надеждами, между идеалом и действительностью — не только характерная черта его темперамента, о которой говорили и писали современники. Мировоззрение Гоголя и все его творчество отмечены борьбой светлого и темного начал в сознании писателя, борьбой с самим собой и со злом окружающего его мира.
В русской литературе появление «Вечеров на хуторе близ Диканьки» знаменовало новый этап в развитии понятия народности
, далеко нс нового, но приобретающего новое содержание в начале 1830-х гг. Народность понимается теперь не только как форма выражения национального характера (или согласно философско-исторической терминологии 1830-1840-х гг. — «духа»), она приобретает в творчестве Гоголя социальную окраску. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» народ предстает как хранитель и носитель национальных основ жизни, утраченных образованными классами. Этот конфликт обусловил характер изображения жизни, под «веселой народностью» (Белинский) которой скрывалась тоска по былой запорожской вольности закрепощенных «диканьских Козаков».
Художественный мир «Вечеров на хуторе близ Диканьки» соткан из мотивов украинского фольклора, взятых из самых различных жанров — героико-исторических «дум», лирических и обрядовых песен, сказок, анекдотов. Однако пестрая картина народной жизни не распадается под пером Гоголя на множество цветных картинок быта потому, что единым оказывается ракурс,
по определению Пушкина, «живого описания племени поющего и пляшущего» , которое можно определить как отражение поэтического, жизнеутверждающего сознания самого народа.
Другое, не менее важное объединяющее повести цикла начало, сказ —
народное просторечие, которое является одновременно и средством отграничения речи автора от речи его героев, и предметом художественного изображения. В третьей главе «Сорочинской ярмарки» повествователь почти незаметно для читателя передает инициативу рассказывания человеку из толпы, который и посвящает Черевика в проделки красной свитки.
Он убеждает слушателей в неудаче ярмарки, потому что «заседатель — чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки — отвел для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь». В «Ночи перед Рождеством» автор-повествователь, давая слово Вакуле, обратившемуся к Пацюку, наделяет кузнеца словами, в которых сказывается народное представление об уважении: «К тебе пришел, Пацюк, дай боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции!», а затем комментирует: «Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику досча- тый забор». Здесь и характеристика Вакулы, выделяющая его из толпы, и определение границы, существующей между автором и его героем. В сочетании авторского слова и речи персонажей заключается особый комизм «Вечеров на хуторе близ Диканьки», мотивированный художественной функцией их «издателя» — пасичника Рудого Панька и других родственных ему рассказчиков.
Именно поэтому столь значительна роль предисловия
к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», написанного от лица Рудого Панька как носителя речевой нормы не автора, а его рассказчиков. Эта роль остается неизменной во всех повестях цикла, что подчеркивает постоянство свойств национального характера и его точку зрения на изображаемую в рассказах жизнь. Важным следствием данной черты цикла становится то, что время в повестях лишено исторической определенности.
Так, просторечие — сказ, а значит, и духовный облик персонажей «Сорочинской ярмарки» и «Ночи перед Рождеством», ничем не отличаются одно от другого, а ведь время в первой повести отнесено к современности, протекает на глазах автора-повествователя, действие второй приурочено ко времени царствования Екатерины II, когда готовился обнародованный в 1775 г. указ о лишении запорожского войска всех вольностей и привилегий.
Своеобразно проявление в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» истории, которая в одних повестях («Сорочинская ярмарка», «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь») предстает перед нами в облике устно-поэтических фантазий, а в других произведениях имеет четко обозначенные временные границы — от эпохи борьбы «козацкого народа» против поляков («Страшная месть») до его современности («Иван Федорович Шпонька и его тетушка»). Однако даже в том случае, когда история скрыта за событиями повседневной жизни, она звучит в народном сказе, утверждающем вольность и свободу как обязательное условие существования человека. В словах Параськи («Сорочинская ярмарка») слышится протест вольной казачки: «Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою!» Возмущенный произволом сельского головы, Левко («Майская ночь») с достоинством напоминает парубкам о своих правах: «Что же мы, ребята, за холопья?.. Мы, слава Богу, вольные казаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки!»
На этих же основаниях соединены повести в цикле «Миргород».
Неслучайно Гоголь дал этому сборнику подзаголовок «Продолжение вечеров на хуторе близ Диканьки», подчеркнув тем самым идейно-художественное единство циклов и сам принцип циклизации.
Увлеченный «историческим знанием», Гоголь активно собирает и обрабатывает материал по истории Украины. «Мне кажется, — признавался писатель в это время одному из своих корреспондентов, — что я напишу ее, что скажу много нового, чего до меня не говорилось». И действительно, то новое, о чем говорил Гоголь, сказалось не в «Истории Украины», не завершенной им, а в повести «Тарас Бульба», которая была написана в неизвестном до того в русской литературе жанре народно-героической эпопеи. Герой произведения — «национальный дух» вольнолюбивого запорожского казачества. Воспроизводя в повести события эпохи борьбы Украины за национальную независимость от польского панства, Гоголь даже не дает точной хронологии событий, относя действие то к XV, то к XVI в. Также невозможно найти и реально-исторический прототип образа Тараса Бульбы. Это можно объяснить тем, что основным источником для создаваемых Гоголем образов и характеров повести стали памятники народной поэзии, а не исторические труды и архивные документы. Как показали специальные исследования, в «Тарасе Бульбе» нет почти ни одного исторического или лиро-эпического мотива, который не имел бы своего источника в украинском фольклоре, в его исторических думах и песнях. Запечатленное в них народное сознание получает свою персонификацию в «богатырском», по определению Белинского, характере атамана Бульбы.
Образ Тараса Бульбы — предшественник образа Пугачева в «Капитанской дочке» Пушкина. Однако в отличие от пушкинского характера предводителя народной вольницы, Бульба — характер не социально-, а национально-исторический. Работа над повестью продолжалась с перерывами около девяти лет: с 1833 но 1842 г. Первая редакция «Тараса Бульбы» появилась в сборнике «Миргород», вторая — в период работы над первой частью «Мертвых душ».
- Пушкин А. С. Вечера на хуторе близ Диканьки: повести, изданные Пасични-ком Рудым Паньком // Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 10 т. Т. 7. 1978. С. 237.
В сентябре прошлого года ездил на Украину. Перед поездкой прочитал Гоголя. Смешанное чуство — с одной стороны, с детства знакомые сюжеты. С другой — шутки про отношения муж-жена (а это вообще через страницу, в духе «как много девушек хороших; непонятно только, откуда берутся жёны») как-то уже не смешны, комический сюжет с равномерно расставленными роялями в кустах не тянет даже на Фейдо. По-настоящему только «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба» понравились, наверное.
Удивило, что у Гоголя имя «Ганна» — это не «Анна», а «Галя».
В «Ночи перед рождеством» красиво описано отношение к русскому языку — в фильме этого совершенно не было видно, да и вообще, читая русскую версию повести, передать игру с языком очень сложно.
— Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.
— Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.
— А вы не познали? — сказал кузнец, — это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!
— А! — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?
— А так, захотелось поглядеть, говорят…
— Что ж, земляк, — сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, — што балшой город?
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.
— Губерния знатная! — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!
Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.
В Тарасе Бульбе герой вскакивает на коня, «который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст». Я правильно понимаю, что 20 пудов = 320 килограмм? Даже для сытной Украины, даже в военном снаряжении это как-то многовато…
В том же романе на удивление хорошо показан ужас войны. Сначала, когда Андрей пробирается в польскую крепость и видит там кучи умерших от голода мирных жителей. А затем, когда всех казаков убивают как-то особенно бессмысленно — в момент осады приходит известие о том, что родное Запорожье разграблено, они делятся на две части, одна гонится за татарами, угнавшими в плен запорожцев, а другая продолжает осаждать польский город в надежде выручить пленных. В итоге и те, и другие, и третьи — все умирают поодиночке.
И повод к войне с поляками прекрасный — кто-то приехал на Сечь и сказал, что церкви православные «у жидов […] на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править». А для большей правдоподобности прибавил, что там жиды и коней-то уж не запрягают, на христианах ездят. И всё — толпа забывает про подписанный с поляками мир (ещё вчера это был серьёзный аргумент — нельзя нарушить данное слово!) и валит в поход. Ура!!1
О евреях отдельный разговор. В романе они однозначно присутствуют, играют важную роль. Но при этом постоянно подчёркивается, что казак не убивает еврея исключительно потому, что рук пачкать не хочет. А так была бы человечеству одна польза.
Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стороне. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство.
Чтобы не заканчивать на грустной ноте, самая лучшая шутка книги. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» состоит из семи глав с прекрасными названиями в духе «Глава II, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем и чем он окончился» или там «Глава V, в которой излагается совещание двух почетных в Миргороде особ». Самое прекрасное название у шестой главы: «Глава VI, из которой читатель легко может узнать все то, что в ней содержится».
«Миргород» – сборник Н. В. Гоголя, впервые опубликованный в 1835 году (см. его полный текст и анализ). По указанию самого автора, он служит продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки ».
«Миргород» состоит из двух частей и четырёх повестей. В первую часть входят «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба», во вторую – «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
Хотя в «Миргороде» четыре повести, а в «Вечерах…» – восемь, «Миргород» по объёму несколько больше, так как его произведения крупнее.
Своё название сборник получил от малороссийского местечка, близ которого находилась родина Гоголя. Сюжеты его повестей, как и в «Вечерах…» взяты из украинского быта.
Гоголь «Миргород» – «Старосветские помещики»
В повести «Старосветские помещики» Н. В. Гоголь изобразил милую его сердцу деревенскую патриархальную идиллию. Пожилые супруги-дворяне Афанасий Иванович Товстогуб и Пульхерия Ивановна простые, добрые и искренние люди, жили в небольшом, чистом домике с маленькими комнатками. Все желания этой светлой четы «не перелетали за частокол их небольшого дворика». Пульхерия Ивановна солила, сушила, варила бесчисленное множество грибов, овощей и фруктов. Афанасий Иванович лакомился изготовленными женою яствами и беззлобно подшучивал над ней. Так и проходила тихая, спокойная жизнь двух старичков. Редких гостей они всегда принимали у себя с большим радушием.
Умирая, Пульхерия Ивановна дала дворне подробные распоряжения о том, как присматривать и ухаживать за Афанасием Ивановичем. Он не сумел утешиться после её кончины и вскоре тоже отошёл в вечность. Похоронить себя Афанасий Иванович завещал рядом с любимой супругой.
Сюжет «Старосветских помещиков» весьма незатейлив, однако эта повесть Гоголя дышит необычайной теплотой и человечностью. Проникновенное чувство сострадательности позволяет сближать это произведение с «Шинелью ».
Гоголь «Миргород» – «Тарас Бульба»
Гоголь «Миргород» – «Вий»
Хома Брут, студент-философ из киевской семинарии, возвращаясь домой на каникулы, случайно заночевал в доме у старухи-ведьмы. Ночью та вскочила на него, как на коня, и, погоняя метлой, заставила бежать с необычайной скоростью. Но благодаря молитве Брут вырвался из-под колдуньи и стал колотить её поленом. Изнемогая от ударов, старуха вдруг превратилась в прекрасную молодую девушку.
Хома бросил её в поле, а сам вернулся в Киев. Но туда за ним вскоре приехали казаки, посланные одним соседним паном-сотником. Дочь этого сотника вернулась с прогулки жестоко избитой и, умирая, просила, чтобы отходные молитвы по ней три дня читал студент Хома Брут.
Казаки привезли Хому на господский хутор. Взглянув на лежавшую в гробу панночку, он узнал в ней ту самую ведьму, которую исколотил поленом. Все хуторяне говорили о том, что дочь пана имела связь с нечистым.
В ту же ночь Хому отвели в церковь, где стоял гроб, и заперли там. Когда он начал читать молитвы, синий труп покойницы-панночки поднялся из гроба, чтобы схватить его. Но её мёртвые глаза не видели своей жертвы, к тому же ведьма не могла переступить круг, который Хома обвёл вокруг себя.
С первым криком петуха колдунья вновь легла в гроб. На следующую ночь всё повторилось. Мёртвая панночка колдовскими заклинаниями вызвала себе на подмогу крылатых чудовищ, которые ломились в двери и окна храма. Однако Хому никто из них не видел, его опять спасал и начерченный круг.
Днём философ попробовал убежать с хутора, но панские казаки поймали его и вернули обратно. На третью ночь ожившая покойница стала кричать, чтобы слетевшиеся к ней духи привели царя гномов – Вия. Вошло ужасное страшилище с железным лицом и свисавшими до земли веками. Чтобы Вий мог увидеть Хому, нечисть стала поднимать ему веки. Внутренний голос убеждал Хому не смотреть на Вия, но он не удержался и глянул. «Вот он!» – закричал Вий, указывая на философа пальцем. Нечисть бросилась на Хому и растерзала его.
Любая интерпретация творчества, построение его логики, должно опираться на творчество самого автора, ориентироваться на текст. Только тогда, когда идея каждого отдельно взятого произведения прийдет во взаимодействие с идеями других произведений, образует с ними логическое, нерасторжимое единство, объяснит тот путь духовных и творческих исканий, который прошел автор, — только тогда можно говорить о большой степени достоверности предлагаемой версии.
Применительно к творчеству Гоголя, это касается и второго, сожженного тома «Мертвых душ», и «Выбранных мест из переписки с друзьями», которые, как и любое произведение в творчестве писателя, не носили случайного характера, или характера трагического заблуждения, а даже если таковыми и являлись, то это должно было быть логическое заблуждение, вытекающее из смысла и содержания всего предшествующего творчества.
В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь впервые определился как самостоятельный художник, а кроме того, явил ту самобытную поэтическую манеру, которая отличает его ото всех остальных. В чем же состоит главная особенность этой манеры?
Гоголь вводит в ткань повествования элементы преданий и народных легенд, делает их составной частью отображаемой народной жизни. Однако не это является главным.
По Гоголю, человеческая душа является своего рода ареной, на которой происходит постоянная, извечная борьба добра и зла, темного и светлого начала, бога и дьявола. Гоголь, погружаясь в народный быт, пытается понять, что есть добро, а что есть зло (дьявольское начало). He случайно в его произведениях демонические силы вплетены в человеческий быт, являются его составной частью. Характерно, что «бесовщина» возникает как раз именно там, где процветает бездуховное начало, где люди живут в праздности и пьянстве, лжи и разврате. «Чертовщина» Гоголя — это своего рода метафора, овеществленное темное начало в человеке. Характерно, что, изображая «бесовское начало», Гоголь не рисует «гордого князя тьмы», падшего ангела, Вельзевула. «Князь тьмы» — это сила, противостоящая личности, вставшей на путь самосовершенствования и служения богу. Это искушающее начало. У Гоголя же нет личностей. Предметом его изображения являются не личности, но духовная жизнь народа, представляемая в лицах. Его персонажи — это своего рода маски, марионетки в руках главных сил, между которыми и разворачивается основной конфликт в его произведениях — между божественным и бесовским началом в человеке. Речь у Гоголя идет не о способе передвижения на пути служению богу, но о том, чтобы наставить людей на этот путь, ибо в этих всех Басаврюках, Солохах, Чубах и проч. не просто бога мало, его там нет вовсе.
У Гоголя, таким образом, можно наблюдать как бы два уровня, два пласта действа: на арене борются персонажи и нечисть, а за кулисами, подспудно, противостоят бог и дьявол (отсюда и «сценичность» произведений Гоголя, «карнавальное» начало, о котором говорили многие исследователи). Для того, чтобы противостоять дьяволу, нужно принять сторону бога, увидеть его. А для этого надо очиститься — очиститься от «нечисти»: злобы, глупости, пьянства, зависти, похоти и проч. Таким образом, в творчестве Гоголя перед нами предстает не ад и не рай (как, напр., у Данте или Мильтона — ад или рай могут обрести только те, кто уже узрел бога, а, соответственно, и дьявола), но, скорее, чистилище. Какие-то из персонажей проходят его (напр., кузнец Вакула из «Ночи перед рождеством»), какие-то нет (напр., Хома Брут из «Вия»),
Примечательна функция описаний природы у Гоголя. Мир, по Гоголю, — есть творение бога, и его присутствие в нем неизбывно. Описания природы у Гоголя — это своего рода гимны божественной сути, разлитой во всем вокруг. По Гоголю, все прекрасное — божественно, и все божественное — прекрасно. Ho понятие «прекрасного» отнюдь не тождественно у него понятию «красота» (напр., красота панночки в «Вие», красота произведения искусства в «Портрете»). Прекрасное, по Гоголю, есть именно воплощение бога на земле.
Именно с такого описания начинается первая повесть «Вечеров…». Как своего рода антитеза ему предстает перед нами описание ярмарки — сцены беспробудного пьянства (Солопий), обмана (цыгане), зависти (мачеха) и т. д. Kpacная свитка, куски которой черт ищет по всей ярмарке — есть символ присутствия «нечисти» во всем, происходящем здесь. He случайно и то, что Солопий пугается свиного рыла, появившегося в окне («близость» к черту из-за пьянства обусловливает этот страх).
Сходная же расстановка сил описывается в «Пропавшей грамоте», где вся нечисть появляется вследствие беспробудного пьянства, которому предается гонец, отправленный с грамотой к царице. Характерно и то, что Гоголь почти стирает грань между реальным и ирреальным миром, в который погружаются персонажи в результате алкогольного или наркотического опьянения (напр., «Невский проспект», «Вий»). До конца так и не ясно, было ли все, приключившееся с гонцом, на самом деле, или это лишь привидевшиеся ему события (ср. с пушкинским «Гробовщиком»). Данный ход также логичен, так как мир — есть творение бога, следовательно, тот, кто подпадает под действие «нечисти» и отдаляется от бога, отдаляется и от реального мира (божьего творения), попадая в мир «бесовский», ирреальный. Характерно, что «ирреальность» колоссально возрастет у Гоголя в Петербургских повестях, где сам город предстает уже не как часть мира естественного, божественного, но как нечто фантасмагоричное, ирреальное, почти полностью подпавшее под бесовское начало и порождающее уже не людей, а каких-то уродов («Шинель», «Нос», «Записки сумасшедшего»).
С описаниями «чертовщины» контрастирует в «Вечерах…» представление Гоголя о молодости, так как молодые люди — это те, кто еще не успел сделать своего выбора, те, кто в силу своего возраста пока невинен. Именно молодые люди противостоят нечисти, порождаемой и исходящей от старшего поколения, которое уже погрязло в грехах (напр., аппозиция Вакула/его мать, Солоха, в «Ночи перед рождеством»; Петр и Ивась/Корж в «Вечере накануне Ивана Купала»; Левко/его отец, голова, в «Майской ночи, или Утопленнице», Катерина и Данило/отец Катерины, колдун, и т. д.). Вполне в духе христианских пророчеств (Исайя) о том, что «грехи отцов падут на детей их», Гоголь ставит вопрос об ответственности старшего поколения за неокрепшие души молодого поколения, утверждает, что человек ответственен не только за свою загубленную душу, но и тех, кто оказывается в сфере его влияния (напр., ответственность Тараса Бульбы за судьбу своих сыновей).
Именно корыстолюбие Коржа толкает Петра на преступление (убийство невинного младенца) в «Вечере накануне Ивана Купалы», именно «безобразия», творимые головой, являются той причиной, которая впускает «нечисть» в окружающий божественный мир в «Майской ночи, или Утопленнице». Характерно, что и сака Утопленница также пострадала по вине злой мачехи (ведьмы), что отчасти и является причиной, по которой она помогает Левко. Символичен и сам процесс «узнавания» нечисти, внешне совершенно неотличимой от людей. Характерно, что об этом прямо заявляют персонажи «Вия», когда говорят о том, что «любая старая баба — ведьма» или что все бабы, что на базаре, — ведьмы, а также то, что ведьму невозможно отличить ни по каким внешним признакам.
Отношение Гоголя к женщинам в целом довольно примечательно. В утверждаемой им оппозиции темного и светлого начал женщина занимает как бы промежуточное положение. По Гоголю, «женщина влюблена в черта» (как он пишет в «Записках сумасшедшего»), что впрямую изображается им, например, в «Ночи перед рождеством» в образе Солохи. Женщина у Гоголя это всегда искушающее начало, не случайно с женитьбой в произведениях Гоголя постоянно связано так много неприятностей. Женщина вносит сумятицу в борьбу добра и зла, происходящую в мире, и в результате почти всегда оказывается (вольно или невольно) на стороне черта. В «Ночи перед рождеством» Оксана является причиной того, что Вакула связывается с чертом, в «Страшной мести» — Катерина отпускает на волю прикованного в подвале колдуна, Иван Федорович Шпонька теряет покой из-за того, что его хотят женить, в «Записках сумасшедшего» одна из причин сумасшедствия главного героя — дочь его начальника, в которую он влюблен, Андрия приводит к пониманию бессмысленности творимого козаками, а впоследствии к смерти от руки собственного отца то, что он подпадает под чары прекрасной полячки, неприятности Чичикова в «Мертвых душах» начинаются с того, что он, кокетничая на балу с понравившейся ему блондинкой, вызывает неудовольствие остальных женщин и т. д.
Единственная ипостась, когда женские образы у Гоголя приобретают иное звучание и иные функции, — это когда женщина выступает в роли матери. Материнство — это то божественное, что заключено в женщине и благодаря чему она может подняться над грешным-миром. Это и мать Остапа и Андрия, беззаветно любящая своих сыновей и тоскующая по ним, это и мать из «Записок сумасшедшего», к которой главный герой обращает свои последние призывы, это даже Солоха по отношению к Вакуле.
Пороки «мужские» — пьянство, курение люльки, ничегонеделание, тупое упрямство и проч. — также являются проявлениями бесовского начала, но мужчина, по Гоголю, обладает возможностью выбора. Он открыт как для светлого, так и для темного начала, поэтому основная вина (и ответственность) за исход борьбы между богом и дьяволом лежит именно на нем.
Быт гоголевских козаков, состоящий в основном именно из пьянства, неумеренной еды, курения люльки и ничегонеделанья (напр., Пацюк из «Ночи перед рождеством»), богато представленный в «Вечерах…», сменяется повествованием с менее выраженными «внешними» атрибутами бесовщины. «Нечистота» не есть ведьмы или колдуны, но то бездуховное, косное существование, которое отвращает человека от бога. По существу, сборник «Миргород» составляют вполне бытовые произведения, и только в «Вие» есть элементы «фантастического». Гоголь, проникая в сущность бытия, постепенно отказывается от «внешних» проявлений бесовщины. Ему уже не требуются фольклорно-мифологические метафоры для того, чтобы показать бесовскую суть происходящего. Переход к такого рода повествовательности намечен еще в двух последних повестях «Вечеров…» — «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и «Заколдованное место», где фактического присутствия нечистой силы нет. Глупость и алчность деда из «Заколдованного места», завершающаяся тем, что его с головы до ног обливают помоями, а также тем, что вместо клада он находит в котле какой-то мусор, во многом напоминает сюжет первой повести сборника — «Сорочинской ярмарки». Таким образом, бесовщина, начинаясь в человеческом бытии (композиция сборника — первая повесть «Сорочинская ярмарка» и последняя «Заколдованное место»), в него же и уходит.
Примечательна повесть об Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке. Перед нами впервые предстает персонаж совершенно лишенный человеческого лица, персонаж, жизнь которого бесцельна, бессмысленна и бесплодна, и при этом совершенно лишенный «бесовского» внешнего антуража. Примечательно также и то, что повесть не закончена — продолжением ее вполне могут служить «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (из «Миргорода»), а также петербургские повести и линия, оканчивающаяся «Шинелью», «Ревизором» и «Мертвыми душами».
Если в «Вечерах…» «души» персонажей еще не совсем «мертвые», смерть лишь витает над ними в виде всякой нечистой силы, то начиная с «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки» Гоголь открывает именно галерею «мертвых» душ.
В сборнике «Миргород» характерна повесть «Вий», где еще присутствует бесовщина в виде внешних атрибутов, но где крен сделан именно в сторону отображения «омертвения душ» (быт бурсы, характеры Халявы, Тиберия Горобца, Хомы Брута; «говорящие» фамилии строятся на контрасте — «громкое имя» и то, что они обозначают — «Тиберий» имя древнеримского цезаря, «Брут» — древнеримский военачальник, по преданию, нанесший смертельный удар Юлию Цезарю, ученики бурсы называются «риторами», «философами» и проч., сравн. с «древнегреческими» именами сыновей Манилова в «Мертвых душах» — Феми-стоклюс и Алкид). Хома Брут погибает от страха, а также от того, что в нем не было веры и божьего огня. Примечателен образ Вия, этого своего рода повелителя мертвых душ, хозяина чистилища, Цербера, охраняющего вход в Аид, — это косолапый, обсыпанный землей мужик, его руки и ноги похожи на корни (символ темной стороны личности, подсознания, в котором хранятся чуждые культуре и богу инстинкты), но у него железное лицо (символизирующее агрессию, войну). И в этом отношении связь повестей «Вий» и «Тарас Бульба» гораздо более тесная, чем может показаться на первый взгляд.
В «Тарасе Бульбе» представляется еще одна сторона человеческой жизни — война, к которой Гоголь больше ни в одном своем произведении не возвращается (исключая «Повесть о капитане Копейкине», где эта тема представлена косвенно).
По Гоголю, война — занятие противоестественное, богопротивное и бессмысленное в своей жестокости. Описывая характер Тараса Бульбы и те стороны его личности, которые не могут вызывать симпатии (упрямство, жестокость), Гоголь неоднократно упоминает, что таково было веление времени. Однако вскрывая причины, Гоголь вовсе не снимает вины с персонажей за то зло, которое они несут в мир. Изображая их, автор пытается бросить взгляд в будущее, понять, куда мчится «Русь-тройка», прозреть путь к богу.
Историзм Гоголя состоит не в том, что он изображает события давно минувших дней, но в том, что он пытается осознать с точки зрения современной ему жизни те явления, которые происходили в истории. В первую очередь, описывая нравы той далекой эпохи, Гоголь хочет разобраться, что именно в этических установлениях общества преходяще и внушено эпохой, а что вечно. Другими словами, история для Гоголя — это то мерило, которым он пытается измерить жизнь, чтобы понять место в ней бога.
Тарас Бульба — типичный козак, т. е. видящий своим основным занятием ратное дело, презирающий сельский и любой другой труд, привыкший считаться только со своим мнением. Насколько бессмысленна «ратная жизнь» козаков, настолько и бессмысленны причины их военных походов. Привыкшие жить в постоянном противостоянии с соседями, в постоянных войнах, они не знают иной логики жизни, кроме логики войны. Основной причиной осады польского города, например, явилось то, что молодых надо было научить ратному делу, остальных чем-то занять, чтобы не пьянствовали и не терроризировали окрестные селения. Формальным поводом к войне послужили непроверенные слухи о том, что ляхи и жиды где-то притесняют православных (до этого собирались идти воевать турок за то, что они «басурманы»).
Тарас не считается с мнением своих сыновей, отправляя их в Сечь и решая их судьбу за них (впрочем, это было вполне в духе времени). Показательно то, что оба сына гибнут в процессе совершенно бессмысленного похода — один от руки отца, другой по его вине (отец настаивает на продолжении осады города, позднее из-за своей несдержанности не вызволяет сына из плена). Смерть Остапа, происходящая на глазах отца, который пришел посмотреть, достойно ли его сын примет смерть (слова «добре, сынку, добре», произносимые Тарасом во время четвертования), во многом происходит по вине Тараса. Примечательно и то, что Остап хочет похоронить убитого отцом Андрия, но тот запрещает ему.
Тарас расправляется с Андрием за предательство, хотя при внимательном рассмотрении не совсем ясно, что же именно предал Андрий. Бессмысленная осада города козаками приводит к тому, что там начинается голод. Жуткие картины человеческих страданий, которые видит Андрий, попадая туда по подземному ходу, заставляют его по-иному взглянуть на деяния козаков. Тарас возмущен и тем, что Андрий предал веру отцов, т. е. православие. Сам он довольно много говорит о православии и вере, хотя в чем же именно состоит его «христианство», понять довольно трудно — основные христианские качества — милосердие, уважение к чужой личности, гуманизм и проч. — либо остаются за рамками повествования, либо отсутствуют в характере Тараса (в ткани повествовании их нет). Он не задумываясь убивает своего сына, который (в отличие от отца) опускает оружие и не поднимает руку на близкого по крови человека.
Смерть самого Тараса также довольно нелепа (хотя заслуженна и сюжетно обоснована — трагическая вина за убийство одного сына, моральная ответственность за гибель другого и за смерть практически всех козаков, осаждавших город) — он не хочет оставлять «врагу» своего чубука. Умирает, впрочем, Тарас героически — указывает ставшимся в живых козакам путь к спасительным челнокам. Однако побудительные мотивы его состоят не только в том, чтобы спасти жизни людей, данные им богом, но в том, чтобы было кому продолжить борьбу и «отомстить», т. е. и впредь делать то, что делал сам Тарас. Таким образом, Бульба по большей части защищает не веру, но тот образ жизни, которым живут козаки и жил он сам.
В этом отношении Тарас продолжает галерею гоголевских типов, которые были начаты еще в «Вечерах…» и продолжены в «Миргороде»: это голова из «Майской ночи или утопленницы», Чуб из «Ночи перед рождеством», сотник, отец панночки, из «Вия», генерал из «Шинели» и проч. Ta же линия будет продолжена в «Ревизоре» (городничий).
Повести петербургского цикла («Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Записки сумасшедшего») продолжают представление той галереи «мертвых душ», которая была начата Гоголем в «Миргороде». Петербург предстает как своего рода город мертвых, некой фантасмагорией, в которой нет места нормальным человеческим чувствам — здесь даже влюбленность и искренний порыв встречают непонимание, так как «человеку» вполне нравится та гадкая жизнь, которой он живет («Невский проспект»), здесь человеческие качества настолько не важны, что в карете, одетым в вицмундир вполне может разъезжать нос (символ высокомерия — «задирать нос»), здесь господствует власть денег, губящая все лучшее, что только может быть в человеке («Портрет»). Перед нами возникают не люди, но нечисть в человеческом обличье — напр., облик стряпчего из «По вести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», во многом предваряющий образ Акакия Акакиевича из «Шинели» и тех чиновников (напр., Иван Антонович Кувшинное Рыло), которых Гоголь будет изображать в «Ревизоре» и «Мертвых душах». Желая нарисовать дьявола, «князя тьмы», художник не может представить его никак иначе, кроме как в облике коломенского ростовщика («Портрет»). Ведьмы здесь уже лишены своей сказочно-мифологической атрибутики — это просто проститутки, глумящиеся над искренним чувством («Невский проспект»). Это не падшие, не заблудшие души, это именно «мертвые души».
Примечательно то, что Гоголь увидел и очень опасные черты своих «мертвых душ», причем не только в высокопоставленных взяточниках и казнокрадах, но и в так называемом «маленьком человеке». Униженный, лишенный всяческого достоинства, но вместе с тем и лишенный божественной души, персонаж может лишь превратиться на самом деле в нечисть (напр., «Шинель», где Акакий Акакиевич после смерти в виде привидения пугает проезжающих), либо уйти в ирреальный мир, где он важен и значителен («Записки сумасшедшего»). «Маленький человек» страшен, по Гоголю, вовсе не потому, что он «мал», но потому, что он настолько мал, что в него не умещается ни одна божественная искра. И вдвойне страшен такой человек, если он вдруг возомнит себя Наполеоном (именно выход на божий свет такого персонажа будет позже описывать Достоевский в своих «Записках из подполья»). Человек, живущий лишь мечтой о шинели, не может быть назван человеком, хотя и имеет человеческое обличие. Впрочем, по отношению к окружающим его персонажам, он не так уж плох — у него есть мечта (пусть о шинели), и его жизнь не сводится лишь к пьянству, игре в карты и переписыванию циркуляров. В мире, который описывает Гоголь, даже мечта о шинели — своего рода заменитель души.
Понять пути России, нащупать тот путь, который поведет ее к богу, пытался Гоголь в своих произведениях, изображая «мертвые души», дабы отвратить души живые от погибели. Во втором томе «Мертвых душ» и «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь попытался представить ту модель общества, какая, по его мнению, должна была существовать. Ho попытка не увенчалась успехом. Гоголь не видел в окружающей действительности поводов для такого рода построений. И на смертном одре он вслед за своим Городничим повторял: «Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего…»
Таким образом, сатира Гоголя носит философско-этический характер и пытается ответить на тот вопрос, который Гоголь задал в своем главном произведении: «Куда ты мчишься, Русь-тройка?», но на который так и не нашел ответа.
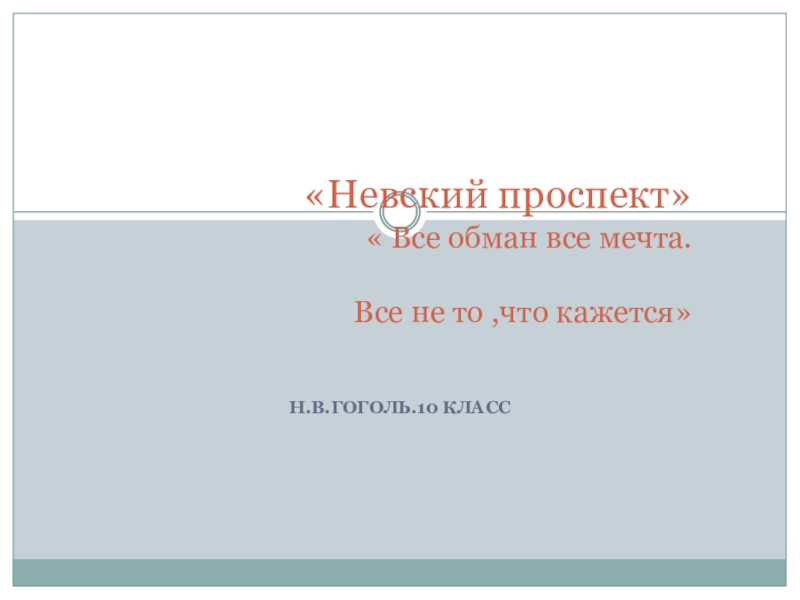
Н.В.ГОГОЛЬ.10 КЛАСС
«Невский проспект»
« Все обман все мечта.
Все не то ,что кажется»
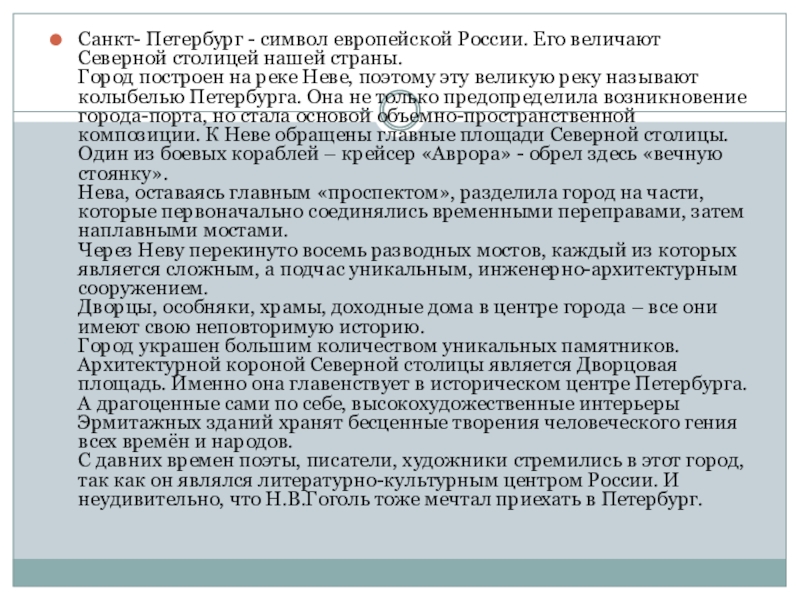
Санкт- Петербург — символ европейской России. Его величают Северной столицей нашей страны.
Город построен на реке Неве, поэтому эту великую реку называют колыбелью Петербурга. Она не только предопределила возникновение города-порта, но стала основой объемно-пространственной композиции. К Неве обращены главные площади Северной столицы. Один из боевых кораблей – крейсер «Аврора» — обрел здесь «вечную стоянку».
Нева, оставаясь главным «проспектом», разделила город на части, которые первоначально соединялись временными переправами, затем наплавными мостами.
Через Неву перекинуто восемь разводных мостов, каждый из которых является сложным, а подчас уникальным, инженерно-архитектурным сооружением.
Дворцы, особняки, храмы, доходные дома в центре города – все они имеют свою неповторимую историю.
Город украшен большим количеством уникальных памятников.
Архитектурной короной Северной столицы является Дворцовая площадь. Именно она главенствует в историческом центре Петербурга. А драгоценные сами по себе, высокохудожественные интерьеры Эрмитажных зданий хранят бесценные творения человеческого гения всех времён и народов.
С давних времен поэты, писатели, художники стремились в этот город, так как он являлся литературно-культурным центром России. И неудивительно, что Н.В.Гоголь тоже мечтал приехать в Петербург.
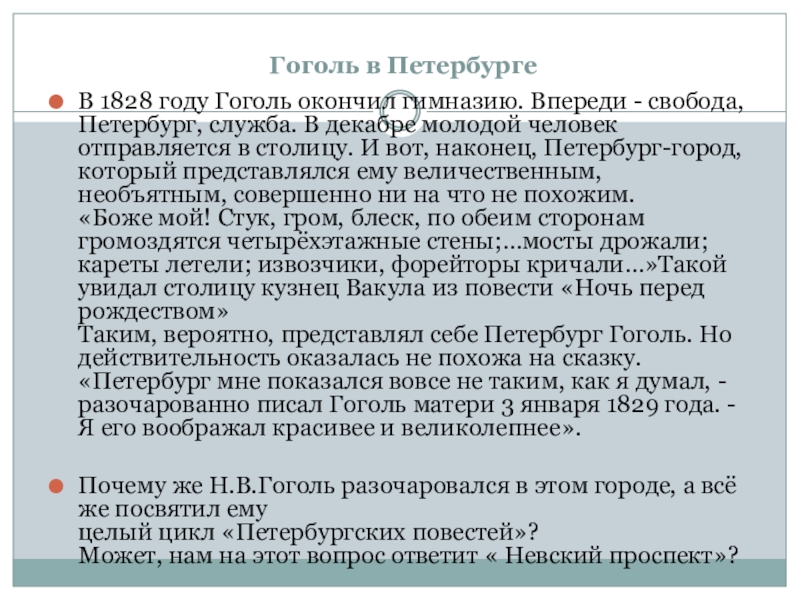
Гоголь в Петербурге
В 1828 году Гоголь окончил гимназию. Впереди — свобода, Петербург, служба. В декабре молодой человек отправляется в столицу. И вот, наконец, Петербург-город, который представлялся ему величественным, необъятным, совершенно ни на что не похожим.
«Боже мой! Стук, гром, блеск, по обеим сторонам громоздятся четырёхэтажные стены;…мосты дрожали; кареты летели; извозчики, форейторы кричали…»Такой увидал столицу кузнец Вакула из повести «Ночь перед рождеством»
Таким, вероятно, представлял себе Петербург Гоголь. Но действительность оказалась не похожа на сказку.
«Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, — разочарованно писал Гоголь матери 3 января 1829 года. — Я его воображал красивее и великолепнее».
Почему же Н.В.Гоголь разочаровался в этом городе, а всё же посвятил ему
целый цикл «Петербургских повестей»?
Может, нам на этот вопрос ответит « Невский проспект»?
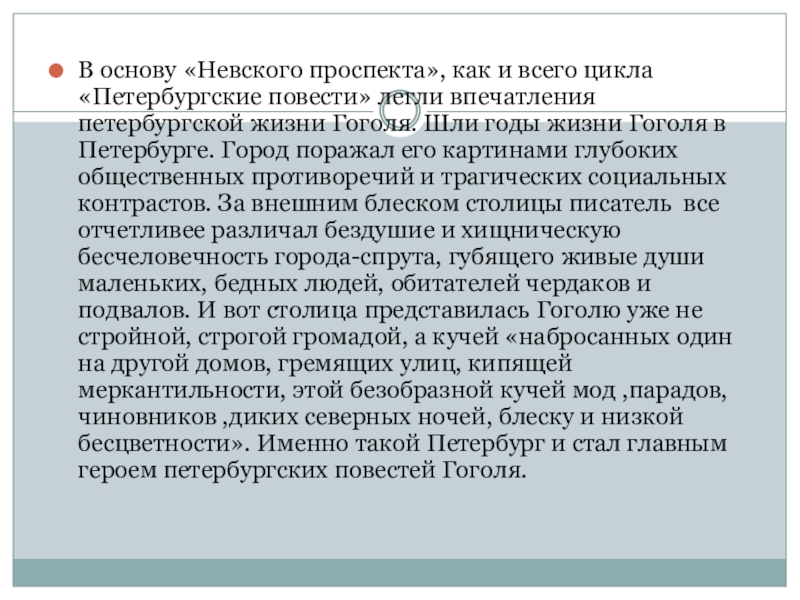
В основу «Невского проспекта», как и всего цикла «Петербургские повести» легли впечатления петербургской жизни Гоголя. Шли годы жизни Гоголя в Петербурге. Город поражал его картинами глубоких общественных противоречий и трагических социальных контрастов. За внешним блеском столицы писатель все отчетливее различал бездушие и хищническую бесчеловечность города-спрута, губящего живые души маленьких, бедных людей, обитателей чердаков и подвалов. И вот столица представилась Гоголю уже не стройной, строгой громадой, а кучей «набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучей мод ,парадов, чиновников ,диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности». Именно такой Петербург и стал главным героем петербургских повестей Гоголя.
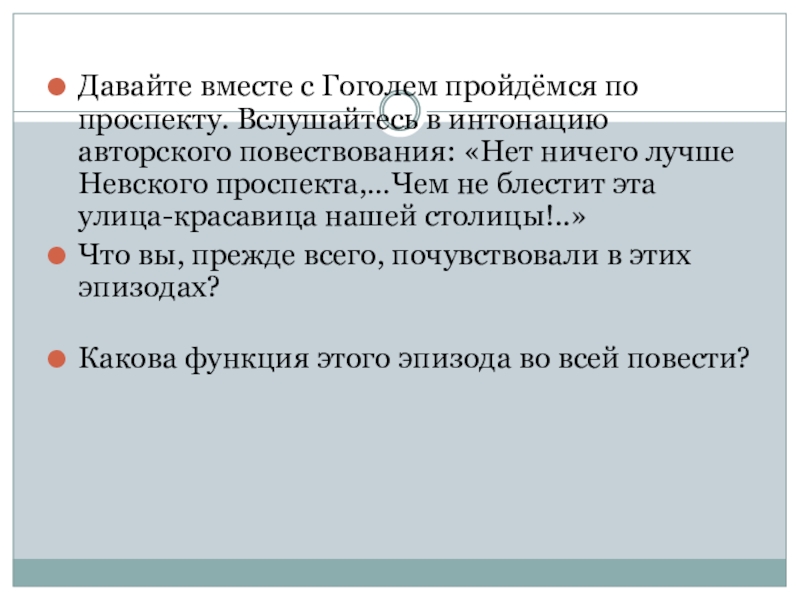
Давайте вместе с Гоголем пройдёмся по проспекту. Вслушайтесь в интонацию авторского повествования: «Нет ничего лучше Невского проспекта,…Чем не блестит эта улица-красавица нашей столицы!..»
Что вы, прежде всего, почувствовали в этих эпизодах?
Какова функция этого эпизода во всей повести?
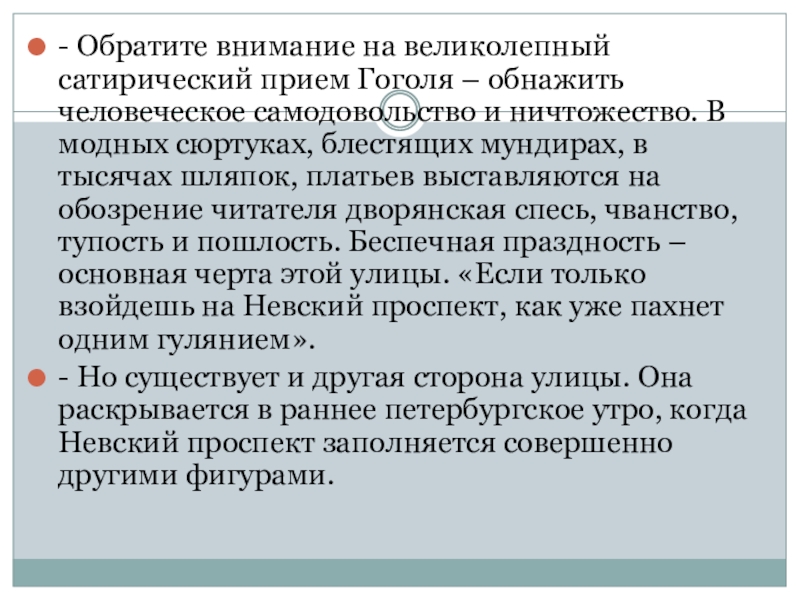
— Обратите внимание на великолепный сатирический прием Гоголя – обнажить человеческое самодовольство и ничтожество. В модных сюртуках, блестящих мундирах, в тысячах шляпок, платьев выставляются на обозрение читателя дворянская спесь, чванство, тупость и пошлость. Беспечная праздность – основная черта этой улицы. «Если только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гулянием».
— Но существует и другая сторона улицы. Она раскрывается в раннее петербургское утро, когда Невский проспект заполняется совершенно другими фигурами.
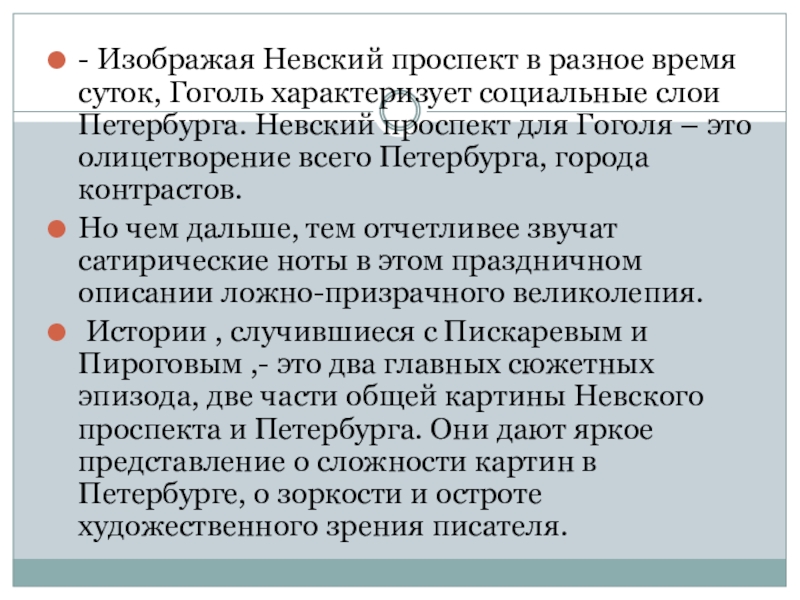
— Изображая Невский проспект в разное время суток, Гоголь характеризует социальные слои Петербурга. Невский проспект для Гоголя – это олицетворение всего Петербурга, города контрастов.
Но чем дальше, тем отчетливее звучат сатирические ноты в этом праздничном описании ложно-призрачного великолепия.
Истории , случившиеся с Пискаревым и Пироговым ,- это два главных сюжетных эпизода, две части общей картины Невского проспекта и Петербурга. Они дают яркое представление о сложности картин в Петербурге, о зоркости и остроте художественного зрения писателя.
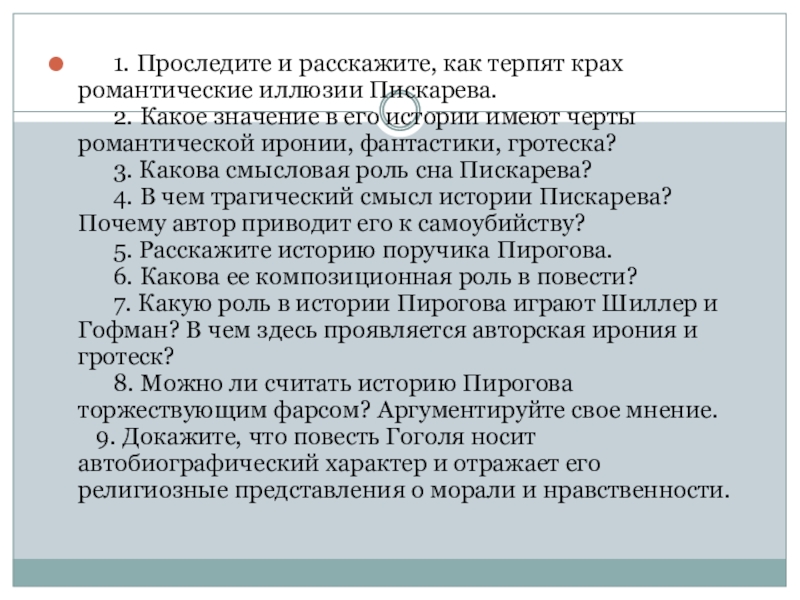
1. Проследите и расскажите, как терпят крах романтические иллюзии Пискарева.
2. Какое значение в его истории имеют черты романтической иронии, фантастики, гротеска?
3. Какова смысловая роль сна Пискарева?
4. В чем трагический смысл истории Пискарева? Почему автор приводит его к самоубийству?
5. Расскажите историю поручика Пирогова.
6. Какова ее композиционная роль в повести?
7. Какую роль в истории Пирогова играют Шиллер и Гофман? В чем здесь проявляется авторская ирония и гротеск?
8. Можно ли считать историю Пирогова торжествующим фарсом? Аргументируйте свое мнение.
9. Докажите, что повесть Гоголя носит автобиографический характер и отражает его религиозные представления о морали и нравственности.
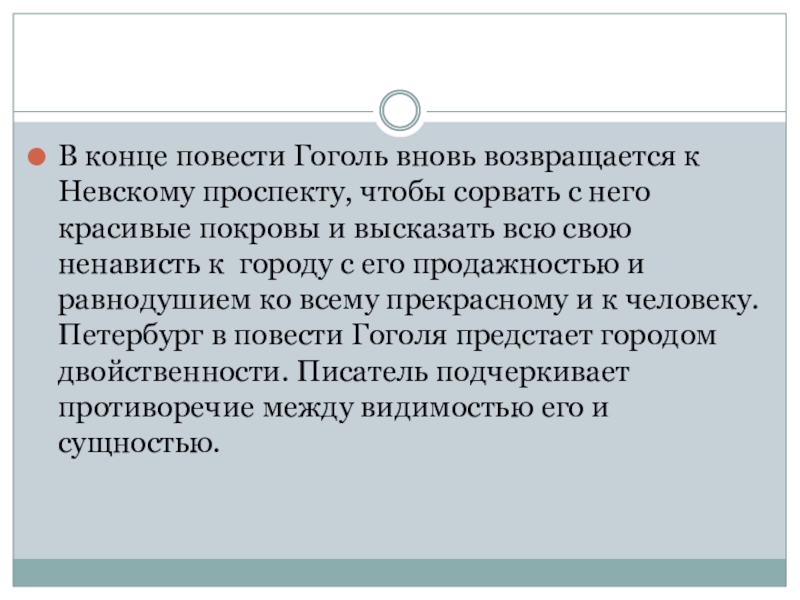
В конце повести Гоголь вновь возвращается к Невскому проспекту, чтобы сорвать с него красивые покровы и высказать всю свою ненависть к городу с его продажностью и равнодушием ко всему прекрасному и к человеку. Петербург в повести Гоголя предстает городом двойственности. Писатель подчеркивает противоречие между видимостью его и сущностью.
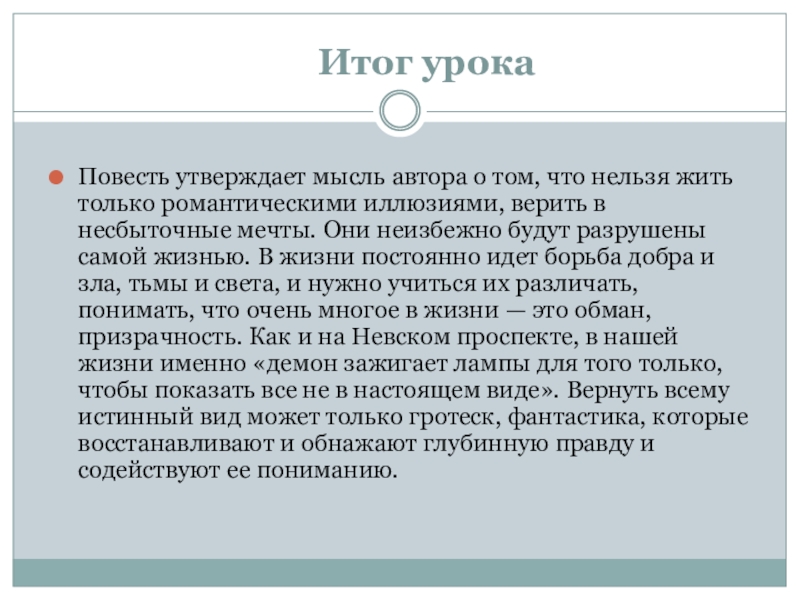
Итог урока
Повесть утверждает мысль автора о том, что нельзя жить только романтическими иллюзиями, верить в несбыточные мечты. Они неизбежно будут разрушены самой жизнью. В жизни постоянно идет борьба добра и зла, тьмы и света, и нужно учиться их различать, понимать, что очень многое в жизни — это обман, призрачность. Как и на Невском проспекте, в нашей жизни именно «демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». Вернуть всему истинный вид может только гротеск, фантастика, которые восстанавливают и обнажают глубинную правду и содействуют ее пониманию.
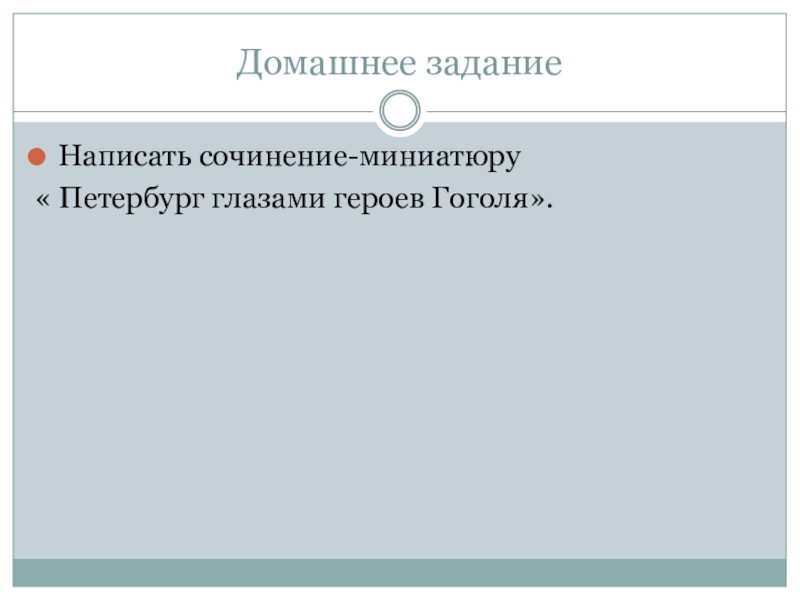
Домашнее задание
Написать сочинение-миниатюру
« Петербург глазами героев Гоголя».





